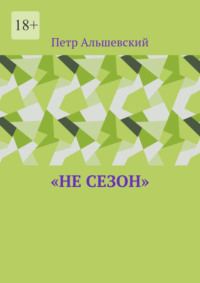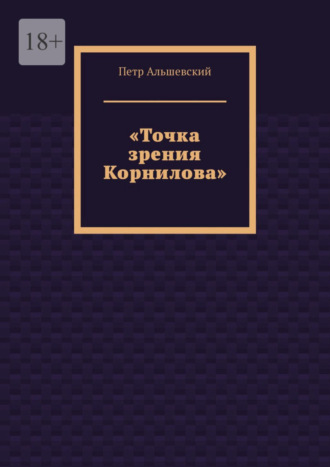
Полная версия
«Точка зрения Корнилова»
Кроме Корнилова, прозы гостевого приглашения удостоились две молодые женщины несколько неглубокой наружности, которые сидели на диване и о чем-то угрюмо молчали. Следуя законам нечасто восходившей в нем галантности, Корнилов к ним неплотно подсел.
– Я думаю, – сказал он, – что если мы озвучим наши имена, поганей нам от этого не станет. Меня зовут Корнилов.
Мягкость его тона пришлась молодым женщинам по нраву.
– Тамара.
– Клава.
– Волшебные имена, – усмехнулся Корнилов, – ничем не хуже, чем у мутивших воду еще до Ганнибала Гамилькара и Гасдрубала. И чем занимаются в нашей нелегкой жизни их носители?
Легкий, слабый, толчок, но как же они пошатнулись.
– Что? – спросила Тамара.
– Если это что-нибудь гнусное, – сказал Корнилов, – то только намекните, я понятливый – когда мне говорили: «Ты у меня первый», я всегда предоставлял ей возможность сначала передумать, а потом и уйти.
Пеняя себе за бедность предоставленных им по Завещанию генов, молодые женщины невнятно переглядывались, упрекая безвольной властностью взглядов даже ни виноватую в их настроении гитару – она лежала на комоде вне чехла и была в такой степени перемотана изолентой, какая выпадает далеко не каждой клюшке.
– Ты слышала, Тамара, что он несет? – запальчиво пробормотала Клавдия. – Похоже, слышала… – И уже Корнилову. – Тебе чего нужно?
Корнилов, может, и улыбнулся, но если и так, то не без язвительной грусти.
– Дело продвигается гораздо быстрее, чем я ожидал, – сказал Корнилов. – Мы уже перешли на сильные эмоции, но я все же не поручусь, что это именно мое сознание пошло неверным путем. – Корнилов привстал в полный рост. – Я сейчас на минуту отойду, а затем со всей прытью рвану обратно – вам приходится жить только здесь, но я не долго: попробуйте сдержать слезы.
Подойдя к густо заставленному пустотами столу, Корнилов взял в руки бутылку вина и, приобняв ее с присущей ему сноровкой целителя, устремил вовнутрь свой спокойный взор. Чтобы определить качество напитка, ему было достаточно просто просмотреть вино на Свет – не обнаружив в этой смеси даже намека на ясные искры взаимодействия с божественным, Корнилов поставил бутылку на место прежней стоянки, зацепил вилкой утоньшенный до провисания кружок копченой колбасы, тихо вышел из обманувшей его отсутствующие ожидания комнаты: «До свидания, бывайте, всего наилучшего, ваша радость не была моей» – в прошлом феврале Корнилов пил темное пиво с издаваемым лишь у себя дома, в единичных экземплярах, при помощи струйного принтера писателем Семеном «Чоппером» Галинским – поддерживать разговор Корнилову было скучно, но он держался:
– Свобода-воровка, молодой человек, – говорил Галинским, – она повсюду, но ее нет нигде; неделями, месяцами я нахожусь в прискорбном состоянии ужасного подпития, а мою книгу… мое счастье… ее невозможно успешно экранизировать.
– У кинематографа для этого недостаточно возможностей? – спросил Корнилов.
– Для успешной экранизации моей книги возможностей у него действительно маловато.
– Но почему?
– Она из разряда семейного эпоса, она называется «Набежало, накапало» и она слишком плохая… Просто ужасная. Никакой Антониони не потянет…
Когда Корнилов выбрался в коридор, у него возник выбор: или уйти отсюда не попрощавшись, или уйти, поблагодарив Николая Воляева за небывалое гостеприимство. Никакого выбора у него, разумеется, не было, но надумав себе, что он есть, вы хотя бы не ставите себе в повинность безжалостно затыкать отдушину похищения вашего лелеемого сумрака хищными гарпиями иллюзий.
«О, летний деньО, ночь зимойНе он сказалЕму с собойОб этом жалко говорить.Но век прошелИ смех не сшитьИз расписанья облаковУшедших сытостью моритьОпять его…Он льет виноНа слабый лик ее огняИ говорит:«О Боже, яОпять успел».Решив воздать хозяину выстраданное им уважение, Корнилов направился в соседнюю комнату – лучшие в мире женщины никогда не признаются в своей тяге друг к другу; Вселенная бесконечна и не одна; Николай Воляев спит в связанных ему дьяволом шерстяных носках – усевшись в обитое белой кожей кресло, он по-прежнему наблюдал за изначально предназначенным для театра «Кабуки» Майком Тайсоном. Присутствие Корнилова он заметил только в перерыве между раундами.
– Садись, Корнилов, – сказал Николай. – Садись и даже дыши про себя. Классный бой. Тебе понравиться.
Корнилов сел и, что странно, бой действительно стал его понемногу захватывать – по крошке от песчинки. При ближайшем рассмотрении Тайсоном, как мстящим всем и за все воплощением былинной традиции, оказался невысокий негр с весьма крупной шеей и много чего поясняющим взглядом. Правда, бой, который Николай Воляев назвал классным, закончился неожиданно скоро: соперник Тайсона – негр с гораздо более основательным ростом – допустил черную перчатку к своей черной голове и видимо зря. «Это у него прическа или меховая шапка? Признает ли он истинность слов Оригена, сказавшего, что и звезды впадают в грех? Вечность безумна, под кленом резвятся психопаты, она все-таки вертится… она это женщина… подо мной, не подо мной, но она вертится» – под затихшим на полу высоким негром в следующие несколько недель простыни уже никто не помнет.
Николай Воляев был в восторге:
– Нет, ты видел?! Никуда не отходил?! Я этот бой уже раз в десятый смотрю и меня все так же вставляет!
Кубок с отравой за удовольствие твое подниму, доспехи тела моего для впуска яда задеру – лишь бы тебя от счастья перекашивать не переставало.
– А Тайсон во всех десяти разах победил? – спросил Корнилов. – Высокому ни разу ни подфартило?
– Очень смешно, Корнилов, очень. Да, братец, до охренения… А если без шуток, тебе понравилось?
– Довольно занимательно.
Испытывающе посмотрев на Корнилова, Николай Воляев заговорил с гнусавым придыханием, словно бы пытаясь пополнить его чем-то воистину сокровенным:
– Слушай, а ты сам не хотел бы заняться боксом? В нашем институте ты первый специалист по бабам и, как ты сам говоришь, холодной водке под теплой луной, но у нас в институте еще и боксерская секция есть. Я туда уже три года хожу: тренер у нас ну просто отпадный дядька, настоящий профи – как что-нибудь объяснит, покажет, так и не поймешь в здравом ли он уме. Ну, что скажешь?
– Бокс – это наслаждение для избранных.
– …?
– Но вообще-то свободного времени у меня навалом.
– Все, Корнилов, заметано! Тренировка у нас как раз завтра – не сомневайся, ты мужик крепкий, тебя на ней до смерти не забьют. Придешь?
Встав у защищающего крепость и широкого глубинами рва, можно попробовать преодолеть его с помощью верности дорожного посоха, или перекинуть на манер моста – сам мост поднят и, несмотря на призрачность исходящей от тебя угрозы, ни за что не опустится – или разбежаться и рискнуть использовать его в качестве фиберглассового шеста. Но и тут, и там ты только решительно подавишь произрастающие на дне колючки. Захлебываясь в грязевом потоке собственных матерных слов. Выгодно отличаясь лишь от детоубийц.
– Придешь? – настаивая на получении ответа, спросил Воляев.
– Как Господь к своему обелиску: с дорогим венком и весь в бинтах.
– Не вздумай, Корнилов, меня разубеждать – я это понял в том смысле, что ты согласен. А сейчас пойдем к цыпам. Они нас, наверно, уже заждались.
Нет, Воляев – это исключается и без вовлечения цепных псов нарочито клыкастого обсуждения.
– К цыпам я не пойду, – сказал Корнилов, – если завтра бокс, я лучше домой и хорошенько отосплюсь.
В маленьких зрачках Николая Воляева патетично полыхнули рифленые изумруды одобрения.
– Правильно, – сказал Николай. – Режим, брат Корнилов, в спорте главное – если плохо выспишься, то уже ничего не поделать: в больнице досыпать будешь. Ну, тогда до завтра?
– До завтра. С цыпами поосторожней.
– А что? – нахмурился Воляев.
– Тщетные они какие-то.
Николай Воляев беззаботно рассмеялся:
– Брось Корнилов – нормальные цыпы. А Тамара, ну просто, цветочек… Ну все, давай. – Пожимая Корнилову руку, он сделал это с нездоровым энтузиазмом. – Не забудь, ровно в шесть.
Проснувшись, Корнилов мгновенно ощутил каждой клеточкой своего не напрасно молодого тела на редкость бесцеремонное похмелье; когда он мутно и медленно огляделся по сторонам, в нем заструилось тяжелое подозрение, что проснулся он явно не дома – к примеру, прибить над кроватью ветхий гобелен, имеющий на себе то ли охоту, то ли рыбалку, Корнилов, как человек с ревнивым к дешевым изыскам вкусом, никогда бы не отважился: «я тут… один… вопреки воле моего хранителя – меня не спугнуть петардой, не запугать фугасом, не остановить уверениями, что меня постигнет судьба обыкновенной вши…».
«Праздно думать о высоком!»Крикнул батюшка монтеру.Тот плеснул по старцу токомПресекая в корне ссоруА бедовые пингвиныТопчут ледышку в ЗаполярьеИ над ними херувимыДарят смогу равноправьеУлыбаясь и шикуяЖарят донорам монетыНа которых КорсиканецИщет повода вендеттыУ дороги, где накрылиШаткий стол босому магуПрооравшему: «Сгубили,Заключив меня же в сагуО моей первейшей ролиВ суетливой пантомиме.Ну, зачем сказал паролиЯ крещеному козлине?»Чужаки исчезают, спиваются, благодарят; фотографии на стенах вызывают малую степень узнаваемости – неуверенно, изобилуя покачиваниями и быстро выправляемыми сменами курса, дошагав до ванной, Корнилов прямой наводкой уставился в зеркало: небритость плавно ложилась на помятость, да и интеллекта в глазах за ночь не приросло.
Корнилов умылся и, построив несколько экстремальных рож – снимая стресс уничижающей разум мимикой – пошел на кухню, где на столе между кетчупом и грязным ножом валялась записка, состоявшая из трех кривонаписанных строк. «Все было замечательно. Ты просто лапочка. Не забывай свою Танюшку. P.S. Когда будешь уходить пожалуйста захлопни дверь».
Танюшка. Какая-такая Танюшка. Что за идиотские шутки?… А-а… Нежданно негаданно вихрь воспоминаний – причем, их нежданность размахивала над ним весомой дубиной своей негаданности: предметом, часто утыканным жуткими штырями и разрывающей спертый воздух его сознания нежными дуновениями аммиачного пара, сочившегося из нее даже при малом взмахе – наотмашь придавил Корнилова к стулу. Воспоминания имели следующее содержание – по дороге домой Корнилов зашел в бар. Так, для проформы: прополоскать горло кружкой светлого. Но кружке не захотелось оставаться в одиночестве, и процесс немного затянулся. И тут в памяти всплыло миловидное накрашенное лицо, по-видимому принадлежащее женщине, и вероятнее всего этой самой Танюшке. Силуэты лица были не слишком конкретные: размытость, пятнистость, кривизна – Корнилов додумался поискать эту физиономию на замеченных им в комнате фотографиях, и поиски завершились очевидным успехом: так вот ты какая Танюшка, очень даже ничего. Танюшка разгуливала по фото в школьной форме, но Корнилов почти не сомневался, что к моменту их вчерашней встречи она подросла. Внезапно его взгляд стоически спрыгнул вниз и наткнулся на три пустые бутылки, одна из которых когда-то содержала в себе водку, ну а две оставшиеся… Корнилова передернуло. И подумал он, каясь – это же бутылки из-под портвейна.
– Да, барин, что-то вам здесь окончательно разонравилось – уже и портвейном травитесь. Среди портвейнов, понятное дело, попадаются и роскошные, но для вашего едва ли кто-нибудь собирал виноград на берегах реки Дуэро.
– Ручаюсь, что не там. Жестокостью утреннего осадка ручаюсь. А я его вчера много выпил, этого портвейна?
– Одну из двух уж как-нибудь, да уговорили, никак не меньше.
– Наступите мне на боль… вышибите ее клином… приведите меня в соответствие с классическим духом…
– Это вы бормочете о срочной нуждаемости в опохмелении?
– Не буду я сегодня опохмеляться. Накажу себя пыткой удержания.
«Выдержу, не сломаюсь, пережду покупать в храме специальный набор для погребения» – его очная ставка с самим собой была неучтиво прервана новым камнепадом воспоминаний, и они были пожестче предыдущих: во-первых, Корнилов вспомнил о чем же он Танюшке… зверюшке… мышане… увлеченно рассказывал – вещал он ей о походе аргонавтов и о том казусе, когда их союзники долионы, не разобравшись в темноте кто, да зачем, спровоцировали не замеченных в слабости порубиться героев на покрытую нерефлексирующим мраком схватку, по ходу которой Язон сослепу убил их царя. Еще он пытался поведать ей суть задумки молодого инженера Рудольфо Дизеля, но, потерявшись в объединении целостностью плохо поддававшихся его вчерашней голове компонентов – поршней, сжатий и одноцилиндровых двигателей – нескладно осекся. Но по сравнению с тучей номер пять; с поднятием пыли номер четыре; с воспоминанием номер три, все это казалось сущей безделицей, поскольку как раз оно и воплощало в себе весь возможный кошмар. И память, как назло, сработала тут безупречно – невзирая на все его попытки отогнать навязываемый ему уже свершившейся биографией бред, Корнилов явственно осознал, что весь этот кутеж был оплачен им. Даже принимая во внимание все смягчающие обстоятельства – мол, не обвиняй меня, гондон, в объективности – память совершила очень подлый поступок, и Корнилову пришлось применить все свое недюжинное мужество, чтобы одеться и слегка равномерно добраться до выхода; добраться, чтобы убраться: его злость находилась на таком пике, что он даже приговорил оставить дверь открытой. Но после бессистемной борьбы – лязг ментальных сабель, скорее всего, слышали и на улице – воспитание все же взяло верх. Дверь он захлопнул.
Придя домой – сосредоточенно, как канатоходец, которого страхует лишь бурлящее неописуемой заботой озеро лавы – Корнилов с нажимом вычистил зубы и, напрягая вороватую совестливость последних из пока не отказавших ему в сотрудничестве рефлексов, замедленно изыскал нетвердые контуры кровати. Затем он лег. Чтобы спать и не задерживаться при дворе – состояния духа, снова духа, мглистого состояния, вылупившего его их скорлупы хотя бы скудного довольства происходящим. «Уйди, Танюшка, отстань, не заставляй меня целовать твоего вонючего кота, он хороший, прекрасный – ты, Корнилов, не такой, звери могут смотреть прямо на солнце, человек нет, звери тоже не могут, человек однообразен, звери разнообразны, какие-нибудь из них могут, я убежден» – когда сон уже приступил к сдавливанию его в своих не оставляющих отпечатков объятиях, раздался телефонный звонок. Если бы для поднятия трубки требовалось совершить хотя бы один шаг, Корнилов бы его не совершил. Но так как трубка висела прямо над кроватью, Корнилова потянуло – но только рукой – ответить.
Звонившим оказался Николай Воляев.
– Здорово Корнилов! – сказал Николай. – Как самочувствие?
– Волшебно…
– Не забыл?
«О дайте, дайте мне отставку!» – кричал побледневший полковник, услышав что пленных будут казнить начиная со старших чинов. И в эту секунду он видит, что его генерал уже попрощался с большей частью лобной кости…
– О чем не забыл? – спросил Корнилов.
– Ну, про тренировку.
– Какую тренировку?
– Ни хрена себе, какую тренировку! – возмутился Воляев. – Ты что, Корнилов, мы же вчера договорились.
Какой-то Марсель, где маркиз Де Сад договорился с бедствующими проститутками, что они изобьют его разгоряченную плоть неоднократно испытанным хлыстом с гвоздями во плети. «Ко мне, деточки, скорее ко мне… все готово… ко мне…» – приехав на место, шлюхи пошли на попятную: не хотим, сказали они, отправлять тебя на тот свет за твои же деньги.
Еле на ивовой метле сошлись.
– Ничего себе… – невнятно пробормотал Корнилов. – И о чем мы договорились?
– Слушай, Корнилов, не дури! Мы вчера договорились, что ты сегодня ровно в шесть ноль-ноль придешь на тренировку.
– А что я буду там делать?
– Как это что?! Боксировать.
Вволю они меня… туда… того, а насытиться все не могут: красть уже нечего, но процесс моей опеки нарастающими проблемами их по-прежнему занимает.
– Ах, боксировать… – негромко протянул Корнилов. – А может, я лучше в следующий раз?
– Никаких следующих разов, Корнилов, ты обещал! Ты держишь свои обещания?
Куда уже крепче (держать) – даже на побегушках за ними бегаю. Но если у Бога есть своя администрация, то кто же ее возглавляет? кто будет снимать заключительного «Крестного отца», когда Пачино восстанет из ада и, прочитав там данные Францом Гильомом Гизо жизнеописания четырех великих французских христиан, подвигнет заждавшуюся его конницу на героический конкур по разрастающимся головам выглядывающих из пент-хаусов сатанистов?…
– Иногда держу.
– Ладно, – сказал Воляев, – хватит бабочку лохматить. В последний раз спрашиваю, придешь?
– Для меня это важнее многого.
– Вот и здорово. А то, если бы ты не пришел, я бы решил, что ты струсил – тебе на мое решение, конечно же, насрать, но для меня оно кое-что значит. Ты, вообще, в порядке?
Спроси меня, месяц щербатый; спроси меня о ком-нибудь, ущербно заполовинившем нас обоих – уточни у меня самого причину его ко мне немилости.
– В полнейшем, – ответил Корнилов.
– Ну тогда все, увидимся.
Положив трубку на ее привычное место, Корнилов закрыл глаза – впрочем, они бы закрылись и без его ведома – и вскоре созидательно задремал.
Просторная площадь заполнена галдящими людскими массами; стрелки суток переведены в положение «полдень»; грандиозный дворец… нет дворца… зыбко и солнечно; every kind of time spinning on my mind, еще одна несчастная любовь меня добьет: «Вы женщина?»
«Ну, и что?»
«Этого мало, чтобы быть моей женщиной» – будучи приподнятым кем-то на уготованное ему возвышение, Корнилов не может пошевелить ни рукой, ни ногой, ни чем-нибудь между ними. Головой пошевелить он может. Потому что лишь она. Чего? Что ты сказал? Лишь она высовывается из метрового слоя воска, или чего-то очень схожего, обмотанного вокруг его жалобно затекшего тела по пока им неизведанному обстоятельству. Изведать его не у кого – если только у суетящегося пред угрюмым челом Корнилова по-вражески шустрого человека: на нем шапочка в форме нимба и испещренная какими-то формулами мантия – не провисает, ходит ходуном от сердечного гула.
– И что тут происходит? – спросил у него Корнилов. – Как я полагаю, некий криминал?
– Праздник великий! – гнусавым фальцетом пояснил Игнасио Бромка. – Мы на воск для этой свечи собирали всем честным миром, а твой вклад в нашу светлую радость послужить для нее фитилем!
Корнилов всепрощающе хмыкнул. От такого ответа у него разом накопилось множество вопросов: «В честь кого ставите?»; «Почему фитилем должен быть я, а не кто-нибудь по-добровольней?»; «Не запалить ли мне себя от собственной сигареты?», но он их не задал. Не изменил благородной посадки головы. Ему незачем цепляться языком за невесомую жердочку – тем более, когда подпил за версту виден.
– Ты на нас не сердишься, любезный? – вкрадчиво поинтересовался дон Игнасио. – Не держишь в подкорке сущего зла? Не сделаешь скандала из ничего?
– …
– Все путем?
– Гмм…
– Мы приступаем?
– Да делайте, что хотите.
Толпа его не расслышала; Игнасио Бромка, навострив уши, все же сумел – не увидев в выражении лица Корнилова никаких перемен, он польщенно затрепетал и чудотворно вытянулся лопающейся за правое дело струной.
– Чем нужно, ты уже пропитан! – прокричал он. – Будь спокоен, быстро не выгоришь!
Помахав над головой широко разлетевшимися рукавами, он, не постучавшись, вошел в транс:
– Во имя детей наших еще не родившихся, отцов и матерей наших уже померших – во имя солнца, луны и инфузории-валенка! – И толпе, с надрывом. – Поджигать?!
– Поджигай! Поджига-аай! Поджигааа-аааай!
– Поджигаю!
До институтского спорткомплекса пролегал удобный автобусный маршрут; Корнилов о нем знал, и своим знанием, как ему казалось, благоразумно воспользовался. И еще: полагая, что запас налипших на сегодня неприятностей живительно для него истощился, проезд он не оплатил; контролеры явились бы уже явным перебором – на руках и так двадцать два, а кое-кто, не Хаббард, не Набоков слезно выпрашивает еще одну карту – когда Корнилов увидел двух серьезно настроенных молодых людей, подбирающихся к нему со стороны задней площадки, он немного пожалел, что нигде поблизости нет какой-нибудь намоленной иконы. А то бы он позволил себе высказаться. Но не уподобляясь засомневавшемуся мачо Эдуардо Рубетти, кричавшему в небо: «Сделай так, чтобы все было хорошо!» – на небе Всевышний и запутавшиеся в его бороде аэробусы; народ с них Эдуардо не слышит, Всевышний услышал и сказал: «Не пойму я тебя, сеньор – все же и так было хорошо. А вот будет ли, обещать не берусь»
Интригующее в нем по мелочам отчаяние подталкивало Корнилова сказать этим людям: «Баста, мужчины – я не ложусь в постель с четырехметровой птицей моа и еду на боксерскую тренировку. Если вы меня не поймете, я могу ее провести прямо в автобусе», но смиренно посоображав – двоим меня вряд ли завалить, но и народ, как всегда, не за меня горой встанет – Корнилов спохватился и тихо сошел.
Недоеденный путь он доехал ногами, упорно отгоняя назойливый голод. Есть перед тренировкой было вредно. Да и не на что.
Вплотную к ступенчатому входу в спорткомплекс его поджидал Николай Воляев, выглядевший на грани изготовившейся дать течь истерики.
– Ты где ходишь?! – проорал Николай.
– Да так, обстоятельства… Но моя работа пока еще не в том, чтобы быть мертвым: временами я бросаю свое тело на чье-то другое, бросаю наугад, но они редко возражают, а я…
И Николай Воляев перешагивает эту грань:
– К чертям твои объяснения – через пять минут начало! Мы уже почти опоздали! Давай скорей!
Давай и скорей… Будешь об этом умолять замешкавшуюся в предоставление себя девушку – подбираясь своим истомившимся естеством к ее податливой гордости.
– Перекурю и пойдем, – сказал Корнилов, – а если у кого пыльная кожа, то это еще не признак его…
– Да ты что, Корнилов, некогда курить! Ты форму взял?
– Какую форму?
– Спортивную.
Корнилова откровенно не всполошило. Не пробрало. «Я слышала, упал самолет. Вот черт… В Уганде. А-ааа… Тогда ладно» – поведавшая ему о крушении женщина была без ума от делавшего сальто отечественного певца, «Темноликая русалка» Дивягина говорила Корнилову: «Я еще помню, как он выступал в шинели – я уже и тогда испытывала к нему глубокие чувства и если бы он пожал мне руку, я бы ее неделю не мыла. А ты?». Корнилов уважал ее чувства, но он ответил: «А я бы тут же побежал ее мыть: я бегаю крайне редко, но это же исключительный случай».
– Форму я не взял, – сказал Корнилов, – но кто-то делает зарядку возле церкви: он кланяется, но не Богу, а желая укрепить в себе свою гибкость…
– Ну, е-мое… Ладно, придумаем что-нибудь.
В раздевалке царила непринужденная духота и, сев на потертую банкетку, Корнилов выжидающе – «В ожидании Николая Воляева» – закурил. Но едва он начал свою привычную мистерию вдохов и выдохов, как перед ним появилась неопрятная старуха в черном, или просто грязном, халате.
Отборные войска бескомпромиссного такта, предотвращающего по меньшей мере выброс слюны, в старухе явно не квартировали.
– Ты что это творишь, – закричала она, – курить же строго запрещено! Ты кто такой?!
– Я, – ответил Корнилов, – светлячок на дне того мешка, в котором Господь бегал за демонами; я ветер в занавоженном поле, где отмежевываются…
– А занимаешься ты у кого?!
Громкая, остервенелая женщина. Хоть расцелуй ее, хоть запусти в незаурядный аттракцион по голосовой полировке камней.
– Смотря, чем занимаюсь, – ответил Корнилов.
– Чем бы ты не занимался в других местах, – проворчала старуха, – здесь тебе… не везде!
В этот кульминационный момент в раздевалку вбежал Николай Воляев. Не входивший в общину православных вегетарианцев. Во вторник варивший холодец. Варил и радовался – тому, что варит. Себе. Не дяде. Сразу же определив в чем же состояла проблема – дым же стоял, как и поставили – Николай незамедлительно бросился на защиту не просившего его о ней Корнилова:
– Простите его бабушка! Он не знал.
Чего же такого пробуждающего Корнилов не знал, Николай Воляев не объяснил, но его бойкое вмешательство старуху все же успокоило, и она, ненавистно бормоча нечто приземленное, отправилась к душевой. К слову – в мужских раздевалках постоянно барражирует множество подобных старушек, и если бы Корнилов был ознакомлен с данным положением дел, как с закономерностью, он бы об этом, возможно, задумался, а так он стал примерять принесенные Колюном вещи: «Бермуды» пришлись ему в пору, майка (в плечах) тут же пошла по швам, но вот с кедами, которым определенно не хватало размера другого, предстояло мириться.
Войдя в зал, они натолкнулись на одышливые потуги вершащейся во всех его углах разминки. В центре – внушительной колодой с уже воткнутым в нее топором палача – неумолимо торчал ринг. «Где вы же вы мои женщины… мне бы и одну… Марину – в туфлях, белых чулках, больше ничего. Знаешь что, милая? Тебе не хватает шляпки». Вылавливая в воздухе алкогольные пары, тренер махнул им рукой. Это, по-видимому, означало, что они могут подключаться, и они подключились.