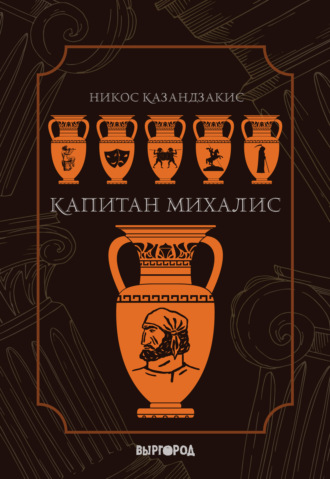
Полная версия
Капитан Михалис
– Милый мой, милый Йоргис! – шептала она и все крепче прижималась к нему, смеясь и плача. – Скажи, ведь ты меня любишь, правда? Ну скажи хоть одно ласковое слово!
– Хочешь, сварю кофе – сразу полегчает, – лениво отозвался он.
Кира Хрисанфи в волнении расстегнула кофту.
– О, я несчастная! – вскрикнула она. – Ты даже не хочешь мне ответить!
Кира Хрисанфи опять закатила глаза, собираясь разыграть новый обморок, но брат опередил ее:
– Я люблю тебя, Хрисанфи, люблю, давай поднимайся!
У той лицо мгновенно просветлело. Она застегнула кофту и, кряхтя, встала с дивана. Прошлась по комнате, подобрала волосы, привела себя в порядок, даже чуть-чуть подушилась; при этом краешком глаза все время следила за братом. Какой же он у меня красавец, думала она, век бы любовалась! Эх, не будь мы брат и сестра, какие бы славные детишки у нас народились! От этой мысли она смутилась и покраснела.
– Сгинь, сатана! – пробормотала женщина и, отгоняя нечистые помыслы, бросила несколько угольков в бронзовую кадильницу, затем трижды перекрестилась и фимиамом освятила комнату.
Пирушка в подвале была в самом разгаре. Около полудня Риньо украдкой глянула в окошко – посмотреть, что там вытворяют отцовские шуты.
Фурогатос снял сапоги и крутился в пляске. По лицу было видно, что он мертвецки пьян. Подпрыгивая, он ударялся о потолок и уже так рассадил башку, что кровь текла по шее. Но от этого ему, должно быть, стало только веселее. Эфендина, потеряв всякий стыд, скинул чалму и прислонился плешивой головой к винной бочке. Каямбис, нагнувшись, совал ему за уши листья артишока. Вендузос мужественно доедал яйца из глиняного горшка вместе со скорлупой. А несчастный Бертодулос забился в угол, за кувшины с зерном, и, раскорячив тощие ноги, совал в рот пальцы, чтобы вызвать рвоту. Накидку он подобрал, боясь запачкать. Время от времени он оборачивался к собутыльникам и униженно кланялся им.
– Извините меня, доблестные капитаны, – говорил он нараспев, – извините…
Риньо с любопытством смотрела на дармоедов, которые собрались здесь потешать отца. А тот сидел молча, устремив взгляд в пустоту, и казалось, хмель его не берет. Только изредка он как-то уж очень зловеще скалил зубы, и черные усы еще больше топорщились.
Риньо снова почувствовала гордость за отца. Вот таким суровым, молчаливым, надменным и должен быть настоящий мужчина. Как жаль, что она родилась девчонкой! Если не попадется такой жених, то и замуж не стоит выходить.
Совсем недавно город был на краю гибели, а теперь снова все спокойно. Нежно-розовые лучи закатного солнца окрасили все вокруг. Суровая крепость словно купается в счастье.
К Трем аркам, как муравьи после дождя, тянутся горожане, избегнувшие смертельной кары. Господь уберег их и на этот раз, не дал пасть в бездну, слава ему! Люди радостно улыбаются, здороваются друг с другом, снимают шляпы, тепло пожимают руки. Недавно пережитые страхи объединили их в этот вечер, всем захотелось пройтись, поглядеть на море, как будто оно не маячит целый день у них перед глазами, вдохнуть сладкий, пьянящий аромат цветущей жимолости.
– Что за растение такое?
– Обыкновенная жимолость.
– Чудны дела твои, Господи!
После прогулки люди, как правило, заворачивали в кондитерскую Леонидаса Бабалароса. Усаживались, хлопками подзывали стройных босоногих официантов. Заказывали кто вишневый напиток или газированную воду, кто постные булочки на виноградном сусле. Мальчишки-турчата торговали возле Трех арок семечками и букетиками жасмина. Вот, как лоснящийся вороной конь, выплыла арапка Рухени. Она успела отчистить вывалянные в навозе кунжутные лепешки и теперь громким голосом предлагала свой товар, призывно покачивая бедрами, сверкая белозубой улыбкой.
Эта Рухени всегда такая веселая, будто солнышко, думали горожане, улыбаясь ей в ответ.
А солнце быстро ускользнуло за вершину Струмбуласа, и Мегалокастро погрузилась в сиреневые сумерки.
До чего же красивы в этот час горожанки! Гуляют, разодетые, у Трех арок, сидят в кондитерской, лузгают семечки, обмахиваются веерами, перемывают косточки прохожим.
Вот шествует Сиезасыр со своей невестой Вангельо. Их сопровождает кира Хрисанфи, красиво причесанная, напудренная, в шляпке. После недавней встряски она успокоилась и вышла погулять с племянницей и ее женихом к Трем аркам.
Куда ей до меня! – думала старая дева, искоса поглядывая на Вангельо. И лицом не вышла, и фигурой. Бедняге Сиезасыру и ухватиться не за что. Зато она замуж выходит, а я одна как перст, хоть и все при мне. Да нет, почему одна? У меня братец есть, и никого больше мне не надо!
Неторопливым шагом прошел в одиночестве рябой директор начальной школы Патерас. Это он ввел в обучение новый предмет – природоведение. С учениками он обходится жестоко – стегает их розгами до крови. Достается от него и единственной дочери Аннике – девице на выданье. Он держит ее взаперти и слышать не хочет о женихах.
– Не допущу падения нравов в собственном доме! – заявляет Патерас.
У него даже куры не несутся, потому что он не держит петуха. А если к его кошке приближаются окрестные коты, он приходит в ярость и гоняет их камнями.
– Разврат, кругом разврат! – твердит этот блюститель целомудрия.
Вот и сейчас он зорко следит, не мелькнет ли в воскресной толпе кто-нибудь из учеников, чтоб назавтра как следует всыпать ему розгой. Сиезасыр, заметив начальника, срывает с головы шляпу и низко кланяется.
Вышел на люди и лекарь со своей француженкой. На нем котелок, привезенный из Парижа, черные перчатки, в руке трость. От жира едва не лопается, а высокомерия на десятерых хватит. Марсель напудрена и накрашена сверх меры: бедняжка надеется таким образом скрыть свой болезненный вид. Но женщины глядят на нее неодобрительно: ишь размалевалась как примадонна, курам на смех! Поделом ему, этому борову: впредь не будет на заморское зариться, лучше латаный башмак, да свой…
В небе над городом показалась пара аистов. Они свили гнездо на крыше небольшой красивой мечети – бывшей византийской церквушки – неподалеку от Трех арок и сейчас возвращались с охоты на реке Картерос, что протекает за Зловещей скалой. Осенью эти священные птицы устремлялись на юг, в сторону Мекки, подобно ходжам-паломникам, а каждую весну прилетали обратно в родное гнездо. Люди в праздной толпе задирали головы, чтобы полюбоваться на величавых белых птиц, проплывающих в небесной вышине, указывали на них пальцами, а те продолжали свой путь на фоне темнеющего моря, не удостаивая и взглядом этих глупых болтливых двуногих. Вскоре морских волн совсем не стало видно. Скрылся в тумане на горизонте и остров Диа. Налетевший ветерок обдувал лица и трепал волосы; у женщин отпала надобность в веерах. Прошла с гармоникой веселая компания мальтийских рыбаков. Из-под расстегнутых рубах выглядывают загорелые волосатые груди, в ухе у каждого серьга. Мальтийцы не гуляют с местными девушками: на пристани, среди разложенных рыбацких сетей и корзин для рыбы, их поджидают землячки – туда они и направляются, хрипло распевая во всю глотку. Сумерки – пора ухаживания. Парни смелеют, бросают на девушек долгие многозначительные взгляды. В глазах и в душах разгорается горячая страсть. И как ей не разгореться, когда с одной стороны горы, с другой – бурное море, а сверху бездонное темно-синее, словно бархатное, небо! Да к тому же на нем начинает любовный танец первая вечерняя звезда.
В это время четверка приятелей под предводительством Трасаки направлялась к Перволе, огромному запущенному саду на окраине Мегалокастро. Трасаки обвязался веревкой, Манольос запасся увесистой палкой, Андрикос обломил себе прут, а у Николаса в кармане лежал самодельный свисток.
– Если покажется ее отец, – объяснил он, – я вам свистну, и вы сразу удирайте!
– Послушай, Трасаки, – спросил Андрикос, – а с чего ты взял, что Первола так и дожидается нас на крылечке?
Перволой они прозвали дочь цирюльника Параскеваса, толстушку и хохотунью.
– Сказано тебе, она каждое воскресенье расфуфырится и стоит на крыльце, – отозвался Трасаки. – Ну-ка, Николас, достань свисток. Он будет у меня, потому что я – ваш капитан, а ты возьми веревку. Как свистну – все на нее бросаемся. Айда!
Дома на их пути становились все беднее и все дальше стояли друг от друга. В этом квартале жили самые нищие турки и армяне. Армяне в больших каменных ступах толкли кофе на продажу. Турки работали грузчиками в порту или где придется.
Стайка ребят приближалась к цели. Возле садовой ограды они, замедлив ход, крадучись пошли друг за дружкой. Трасаки замер на месте, увидев толстую и уже несколько перезрелую девицу с красной лентой в волосах. Она стояла на пороге и жевала мастику.
– Тихо! Вот она! – сдавленно прошептал Трасаки. – Налетаем по моему свистку. Только по-быстрому, пока вокруг никого нет.
Мальчишки бесшумно подобрались прямо к толстухе. Первола их не заметила: она увлеченно смотрела, как неподалеку кошка любезничает с котом. Приготовившись к нападению, Трасаки напоследок оглядел улицу – ни души. Затем пронзительно засвистел и кинулся к девице. Приятели, улюлюкая, последовали за ним. Трасаки, Николас и Андрикос ухватили Перволу за ноги и за руки, а Манольос тем временем зажал ей рот, чтобы не визжала. Кряхтя от натуги, они подняли тяжелую тушу.
– Несем в сад! – скомандовал Трасаки. – Крепче держите, а то вырвется!
Они с трудом смогли втащить свою ношу в полуразрушенные ворота и тут же, задыхаясь, бросили ее на траву. Красный бант на голове у Перволы развязался, волосы растрепались, а юбка задралась, обнажив ляжки. В вырезе кофточки виднелись груди, как туго надутые мячи. Поначалу девушка испугалась, но затем, рассмотрев своих похитителей, игриво закатила глаза, захихикала.
– Что бы нам с ней такое сотворить? – произнес Николас.
Мальчишки долго готовились к этому похищению, а теперь, когда жертва лежала перед ними, растерялись.
– Давайте плевать в нее? – предложил Манольос.
Но этого им явно показалось мало.
– Лучше хорошенько ее отдубасим! – крикнул Андрикос и взмахнул прутом.
Все бросились бить Перволу, чем попало; несчастная вопила, извивалась на траве, но подняться под этим градом ударов не могла.
– Ногами, ногами ее топчите! – подзадоривал дружкой Трасаки.
Мучители устали, запыхались, но полного удовлетворения ни один не получил. Все лихорадочно думали, какому новому истязанию подвергнуть жертву, чтоб душа их наконец-то натешилась. Может, схватить ее да грохнуть оземь?.. Ненависть к Перволе становилась все острее, оттого что долго копившаяся энергия не находила желанной разрядки.
– Вот дурачье, нож с собой не взяли! – сокрушался Трасаки. – Сейчас бы пустили ей кровь, и дело с концом!
– Дайте я откушу ей кусок мяса! – разошелся Николас.
– Точно! – обрадовался Трасаки. – Каждый по куску отхватит.
Девица от ужаса завизжала, как корова на бойне.
– А ну-ка свяжем ее, а то, не ровен час, убежит! – сказал Андрикос.
Они дружно схватились за веревку, но их остановил громкий окрик, донесшийся со стороны ворот:
– Ах вы, паршивцы!
У входа в сад стоял цирюльник Параскевас с метлой в руке. Вчера, как и всякую субботу, у него был тяжелый день: он постриг и побрил чуть не полгорода и смертельно устал, поэтому сегодня целый день отсыпался. Нигде на свете нет таких тупых бритв и такой жесткой щетины, как на этом проклятом острове!.. Сквозь сон услыхал цирюльник крик дочери. Он спрыгнул с кровати, схватил метлу и в одних подштанниках бросился на улицу.
– Ах, паршивцы!
Он старался, чтобы голос звучал устрашающе, и грозно размахивал метлой, но вдруг язык будто присох к гортани. Среди этих сорванцов кир Параскевас узнал сына капитана Михалиса.
Тут поосторожней надо, мелькнула мысль, как бы не влипнуть в историю! Он все еще махал метлой, но уже тише и не двигался с места.
– За мной! – приказал Трасаки своей шайке, затем повернулся к Параскевасу. – Отойди, кир Параскевас, дай нам дорогу!
– Проходите, ребятки! – примирительно отозвался цирюльник и бросил метлу.
– Пошли! – крикнул Трасаки. – Да не бойтесь вы его, он же с Сироса!
Четверка маленьких разбойников гордо прошествовала мимо Параскеваса. Трасаки напоследок оглушительно свистнул.
– В другой раз прихватим с собой нож! – пригрозил он Перволе, которая встала с земли и, плача, отряхивала юбку.
Глава IV
Как мудро все устроено в этом мире! Шесть дней трудишься, приумножаешь свое добро, седьмой отдай Господу Богу, а он тебя за это накормит и напоит! Настал понедельник, и жизнь пошла своим чередом. Добрые и богобоязненные горожане забыли о землетрясении, о Боге и рьяно принялись за обычные дела мирские – кто кого перехитрит.
Взошло солнце. Низами большими ключами открыли ворота. Крича и толкаясь, двинулись в город крестьяне, таща навьюченных мулов и ослов за поводья. Закипела работа в порту. На площади шла бойкая торговля. В цыганских кузницах полыхали горны и стучали молоты. Глашатай зычно объявил на весь город, что мясник Исмаил только что зарезал теленка – спешите покупать! Мясо нежное, сочное, так во рту и тает, как лукум.
Сапожники на Широкой улице заняты своим делом, однако не упускают случая позубоскалить над проходящими возле их окон калеками и придурковатыми: со смехом да шутками работа спорится.
Опираясь на кривую палку, хромает вдоль по улице капитан Стефанис. Он прослышал, что вчера с Сироса прибыло торговое судно его приятеля, капитана Якумиса, и теперь торопился узнать, как дела в Греции, скоро ли король позаботится о присоединении Крита. К тому же на Сиросе действует критский повстанческий комитет: собирает деньги, закупает оружие. Рано или поздно вспыхнет опять на Крите восстание! Иначе быть не может! Капитану Стефанису не терпелось пригласить друга в таверну и разузнать о последних новостях.
Кто-то из сапожников свистнул, подавая сигнал остальным. Все разом подняли головы и скривились: поди сразись с таким бравым воякой – себе дороже выйдет. Недавно кто-то из подмастерьев осмелился отпустить шутку в адрес капитана Стефаниса, так тот отдубасил его палкой чуть не до смерти.
– Щенок! – кричал он. – Над старым солдатом вздумал насмехаться! Да знаешь ли ты, где получил я свои раны! Спроси всякого, тебе скажут – где! Бесстыжие твои глаза, теперь я надолго отучу тебя ухмыляться!
Даже хозяин не рискнул вступиться за своего парня, наоборот, еще подзадоривал старого капитана:
– Молодец, капитан Стефанис! Герой, критский Мяулис[38]. Поделом, всыпь ему хорошенько!
С тех пор сапожники побаивались капитана Стефаниса. Вот и теперь притихли, опустили головы, когда он проходил мимо.
– Да, крепкий орешек, – вымолвил один из них, как только Стефанис отошел на приличное расстояние. – Лучше с таким не связываться – поломаешь зубы!
Из-за угла появилось новое лицо – карлик Харилаос с тросточкой в руке, с черными закрученными усами, в башмаках на тройной подошве. Постукивая палкой, он ковылял по мостовой, а сапожники почтительно прикладывали руку к груди, приветствуя его.
Этот Харилаос хоть и убогий, а его люди тоже уважают и боятся. Матери пугают им непослушных детей, словно он не человек, а сам дьявол или чудовище, стерегущее под землей золото. Поговаривали, что Харилаос водится с нечистой силой, на кого взглянет, тот мгновенно желтеет и пухнет, точно от змеиного укуса. Как-то раз посмотрел на пышное лимонное дерево в саду Архондулы, и в тот же миг листы пожухли и свернулись. Вот почему сапожники, все как один, склонили перед карликом головы.
– Плохо, черт возьми, день начинается, ребята, неужто и не повеселимся сегодня! – вздохнул заводила подмастерье. – Где Эфендина, где Барбаяннис, сквозь землю они провалились что ли?
– Да вот он, Барбаяннис! – откликнулся другой. – Легок на помине!
Все обрадовались, повскакали с мест. И действительно, на горизонте замаячила блестящая лысина горемыки Барбаянниса. В одной руке он держал медный кувшин, в другой – блюдо со льдом и хриплым тягучим голосом расхваливал свой салеп.
Сапожники мгновенно приготовились исполнить спектакль, в котором заранее распределены роли. Вот уж над кем можно поиздеваться всласть. «Эй, жена, признайся, ради Христа, наши дети все от меня? – начнет один. – Ну скажи, не бойся, видишь, ведь я помираю!» А из мастерской напротив ему отзовется тоненький женский голосок: «А ну как не помрешь?» Вся Широкая улица задрожит от громового хохота, и в беднягу посыплются гнилые лимоны. Но главный насмешник, похоже, на этот раз выдумал что-то новенькое.
– Послушайте, ребята, – объявил он, – к нашим шуткам Барбаяннис уж давно привык, только и ждет их… Так вот что я предлагаю: он пойдет мимо, а мы ни гугу, будто его и не замечаем. Поглядим, какая рожа у него будет! Согласны?
– Согласны! Согласны! – загудели сапожники.
Барбаяннис приближался, опасливо поглядывая налево и направо и явно ожидая привычных шуток. Но что такое? Эти зубоскалы даже глаз не подымают, словно его тут и нету! Как же это – ни свиста, ни хохота, ни гнилых лимонов! Выходит, Барбаяннис заслужил не больше внимания, чем вьючный осел или бродячая собака!
– Братцы, вы никак меня не признали, а? Это же я, Барбаяннис, что молчите, будто воды в рот набрали?
Тишина. Сапожники сосредоточенно резали кожу, вощили дратву, вдевали ее в иголки, шили. Барбаяннис опустил на землю кувшин и блюдо, испуганно протер глаза – может, все это ему снится?
– Братцы, ради Христа, скажите хоть что-нибудь, – взмолился он. – Где же ваши гнилые лимоны?
Но опять никто не отозвался.
– Сжальтесь, милые! Покажите мне, что я еще не покойник, а то, ей-ей, взаправду помру!
Глас вопиющего в пустыне!
– Ну, все! – прошептал Барбаяннис, обливаясь холодным потом. – Конец света! Стало быть, я уже в царстве мертвых! Ой, ноженьки, выносите меня отсюда! – Он проворно подхватил свой товар и пустился бежать, что было мочи.
И только тогда раздался на притихшей улице взрыв хохота. Мастеровые стонали, держась за животы, улюлюкали вслед несчастному Барбаяннису.
Оглушительный хохот докатился аж до ушей митрополита. После вчерашнего кошмара он слег с простудой, и теперь Мурдзуфлос лечил его – ставил банки, делал припарки, растирал ракией.
– Что за шум? – обеспокоенно спросил митрополит, приподнявшись на локте. – Уж не начинается ли опять землетрясение, спаси, Господи!
– Да нет, владыко, – ответил звонарь. – Это, верно, сапожники новую забаву себе нашли. Креста на них нет! Тут хоть весь мир лети в тартарары, а этим жеребцам все нипочем – дай только зубы поскалить! Продолжай, владыко, не слушай проклятых греховодников.
Митрополит рассказывал Мурдзуфлосу о Киеве, где он много лет служил архимандритом, о снегах, о золоте церковных куполов, о подземном монастыре, где покоятся святые мощи.
– Пока на свете есть Россия, нам не о чем тревожиться, Мурдзуфлос. Православная вера не угаснет – она будет жить и править миром. Христос теперь там обрел свое пристанище. Знаешь, однажды мне довелось лицезреть его. Было это в середине зимы, ближе к вечеру. Шел снег. А Спаситель наш брел в тулупе, валенках, меховых рукавицах по улице и стучался во все двери. Но никто ему не отворил. Я выглядываю в окно, сбегаю по ступенькам, кричу: «Господи всемогущий!..» А его и след простыл.
Мурдзуфлос перекрестился.
– Вот бы и мне его увидеть!
– Поезжай в Россию – увидишь, – ответил митрополит и отвернулся к стене: сон одолевал его.
Паша нынешним утром встал с левой ноги. Уже три дня был он сам не свой, потому что вдруг почувствовал, как подступает к нему старость. Вот недавно сидел он в своем дворце на площади Трех арок, покуривал кальян и слушал оркестр низами. В толпе греков на мгновение мелькнула молодая женщина: красное платье, густые волосы, яркие чувственные губы. Огонь полыхнул в сердце паши, и кликнул он своего сеиза[39] Сулеймана.
– Кто эта гречанка в красном?
– Она не здешняя, повелитель. Ее привез из деревни торговец Каямбис, тот самый, что так славно поет, и обвенчался с нею в прошлое воскресенье. Забудь о ней, мой повелитель, не пара она тебе.
– Не пара! А все ж таки хороша, бестия!
– Хороша, повелитель, хороша, да что толку?
– Вот именно, что толку! – ворчливо бормотал паша, качая лысой головой. – Видно, и впрямь стар я стал, немощен. Прежде-то я и казнил и обнимал кого пожелаю. А теперь?.. Одно название, что паша! Прошли те времена, когда я посылал в любую греческую деревню своего стражника и предлагал новобрачным на выбор: либо яблоко невесте, либо пуля жениху. Куда ж им было деваться – выбирали яблоко! И в тот же вечер приводили мне невесту – хоть и заплаканную, но готовую на все… Мда, а ныне что?.. Я старик, нету мне былого почета, а Крит, чтоб ему пусто было, как стоял, так и стоит! И всех нас переживет, пожалуй. Как думаешь, Сулейман?
– Ты прав, мой господин. С Критом шутки плохи. Потому я и говорю: лучше выбрось из головы эту гречанку. Чего вздыхаешь? Может, Марусю тебе привести?
Армянка Маруся была известной личностью в Мегалокастро. О ней даже песню сложили. Ее муж, верзила армянин, торговал в лавчонке на площади. Своими мощными, под стать ляжкам, ручищами день-деньской толок кофе в каменной ступке, и от этого вокруг разливался восхитительный аромат. Дай этому силачу волю, он своей толкушкой мог бы и стену повалить. А жена, толстая, приземистая самка, тоже времени даром не теряла. К ее маленькому домику на окраине стекались турки, греки, армяне, евреи со всего города. И никому не было отказа. В расстегнутой кофте Маруся встречала гостей на пороге и вела в дом, вихляя бедрами и плотоядно улыбаясь. А глубокой ночью, когда усталый от дневных трудов муж засыпал, у нее опять же от посетителей не было отбоя. Причем Маруся нарочно оставляла открытой дверь в соседнюю комнату, где храпел армянин: присутствие мужа, должно быть, добавляло остроты ощущениям от объятий чужих мужчин.
Вот эту-то армянку и приводил к паше Сулейман, когда тот бывал не в духе. Придет Маруся, повертит задом, и дурного настроения паши как не бывало!
– Ну так что, послать за армянкой? – переспросил Сулейман.
– Катись ты ко всем чертям вместе со своей армянкой! – рявкнул паша. – От этих баб одни беды! Тьфу! Вот уж седьмой десяток я с ними валандаюсь, а толку что? Лишь состарился раньше времени. Так как, ты говоришь, ее зовут? Ну, эту, в красном?
– Гаруфалья.
Паша снова сплюнул.
– Скажи-ка Барбаяннису, чтоб зашел вечерком посмешить меня. Ох, до чего тяжко на сердце! И Эфендина пускай придет.
Паша постучал кальяном о каменный парапет, выбивая пепел.
– Да, постарел я, как Труция, эта трусливая зайчиха, – с грустью пробормотал он. – Да простит мне Аллах, с каждым годом она все больше поджимает хвост! – Паша повернулся к сеизу и протянул ему кальян. – На, набей и раскури!
По площади проехал чернобородый, свирепый на вид всадник в надвинутом по самые брови платке. Нахлестывая кобылу, он устремился к Лазаретным воротам.
– Эй, Сулейман, кто этот гяур? – нахмурился паша. – Не много ли в нем гонору? Кажется, я его уже где-то видел.
Сулейман задумчиво провожал глазами черную фигуру на коне и замешкался с ответом.
– Ты что, оглох? – взъярился паша. – Я тебя спрашиваю!
– Разве ты забыл, мой повелитель, как в прошлом году призвал его к себе и выбранил за то, что он забросил на крышу Нури-бея? Он тогда и слова тебе в ответ не сказал, но, уходя, чуть было не вырвал со злости решетку на лестнице.
– Капитан Михалис! – воскликнул паша. Потом помолчал, что-то обдумывая, и объявил. – Вот что, Сулейман, ты должен помериться с ним силой здесь, у Трех арок, перед всем честным народом. Надо показать этим неверным, что Турция еще способна держать их в узде, понял?
Сулейман опять не ответил, но лицо его пожелтело, а глаза налились кровью.
Паша махнул рукой, и оркестр умолк.
– Я вижу, ты боишься этого гяура, Сулейман. Знай, власть наша долго не продержится, если мы будем их бояться.
Больше паша к этому разговору не возвращался, но из головы у него не выходили гречанка в красном платье и Турция, поджавшая хвост, как зайчиха.
В понедельник он вскочил ни свет ни заря. Недобрый сон ему привиделся: будто бы посреди площади, словно разъяренные звери, вступили в схватку капитан Михалис и Сулейман. Оба голые, тела смазаны жиром, у каждого в руке топор. И глядела на них вся Мегалокастро: на солнечной стороне – греки, напротив, в тени, – турки. Глядели молча, будто воды в рот набрали. Лица у всех бледные. А сам он будто сидит, подобрав ноги под красным тентом, сердце у него дрожит как осиновый лист. В тишине раздаются крики глашатая: «Если победит капитан Михалис – конец турецкой власти! Если Сулейман одержит верх – не видать свободы христианам!»
Борьба была долгой, земля проваливалась под ногами у дерущихся, и эти ямы тут же наполнялись кровью. Солнце село, темнота окутала площадь, и паша ничего уже не мог разглядеть, кроме двух чудовищных теней, которые с яростным рычанием катались по земле, сдирая друг с друга кожу топорами… Леденящий ужас сковал пашу. «О Аллах, ведь это только сон! Не дай мне увидеть конец этой схватки! Вот сейчас, сейчас я закричу и проснусь».

