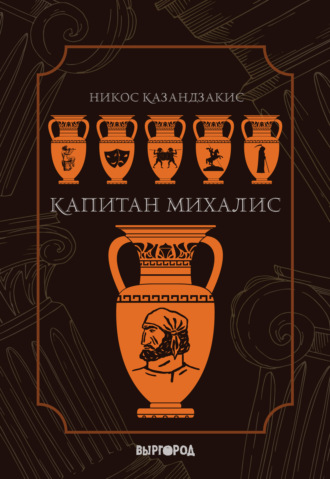
Полная версия
Капитан Михалис
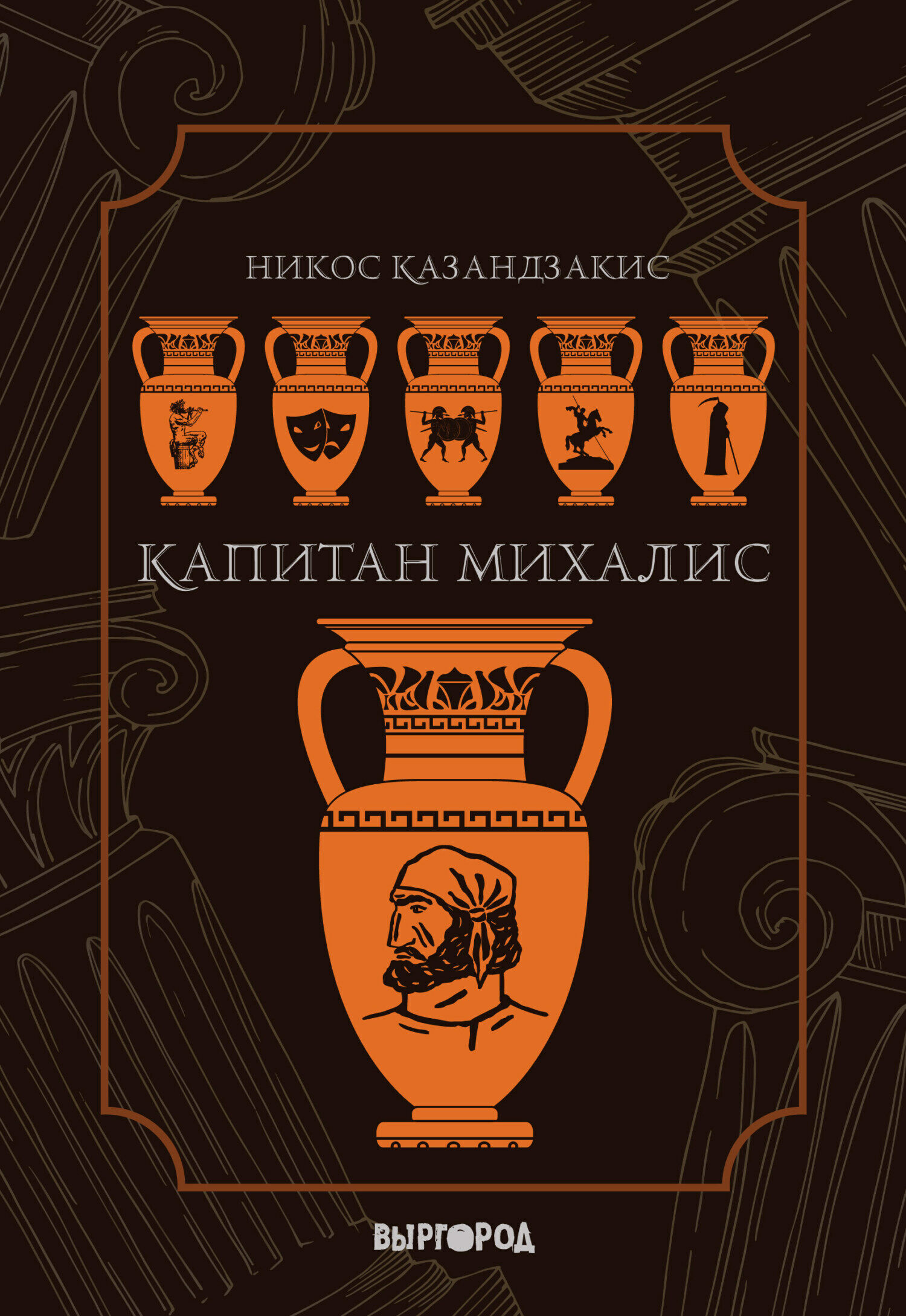
Никос Казандзакис
Капитан Михалис
От автора
Когда на склоне лет я принялся писать «Капитана Михалиса», мною руководила сокровенная мечта – сохранить, материализовав в словах, образ мира, увиденный моими детскими глазами. Точнее – образ Крита. Мне неизвестно, как жили тогда дети свободной Греции[1], но критская детвора в ту эпоху героев и мучеников, таких, как капитан Михалис, дышала воздухом неминуемой трагедии. Турки еще топтали нашу землю, но Свобода уже расправила свои окровавленные крылья. В смутные, переломные времена, полные лихорадочной деятельности и надежд, мальчишки на Крите быстро становились мужчинами. Заботы взрослых о благе родины, о свободе, упования на Бога – защитника христиан, который вскоре занесет над турками карающий меч, проникли и в наши души, вытеснив оттуда привычные детские радости и горести.
Живя в ожидании неотвратимой жестокой схватки, мы сызмальства усвоили, что мир разделен на две огромные силы: Христиане и Турки, Добро и Зло, Свобода и Тирания, значит, впереди у нас не игра, а борьба, и настанет день, когда мы вступим в эту борьбу. Коль скоро мы родились под небом Крита, другой судьбы, кроме долга перед нашей многострадальной родиной, у нас нет и не будет.
Могли ли мы видеть, какой ненавистью топорщатся усы христиан и турок, как, злобно чертыхаясь, запирают христиане на засов свои двери, когда на улице показываются вооруженные низами[2]? Мы, затаив дыхание, слушали рассказы стариков о кровавой резне и о подвигах борцов за свободу Греции. И все мечтали стать похожими на этих старых капитанов, которые разгуливали среди нас по кривым улочкам Мегалокастро[3]. В белых сапогах, широких шароварах, с торчащими из-за пояса черными рукоятями кинжалов, они выглядели так грозно, будто хищники, притаившиеся в засаде.
И Бога мы тоже представляли себе в обличье старого вояки: он непременно носил широченные шаровары, кинжал и верхом на коне скакал вокруг города. Взрослые его, конечно, не замечали, а мы, возвращаясь из школы, всякий день видели, как сверкает в лучах солнца его копье над мраком турецких кварталов.
На Страстной неделе сердца наши переполнялись горечью. В порыве детской фантазии мы отождествляли муки Христовы со страданиями Крита и в ночь перед Светлым Воскресением молились о том, чтобы вместе со Спасителем воскрес и вознесся наш остров. А в Страстную пятницу не Мария Магдалина припадала к ногам Распятого, отирая волосами святую кровь. Это он, наш Крит, сам окровавленный и страждущий, стремился повторить участь Христа.
Беды нашей родины были нашими бедами. Все мы думали только об одном: как бы поскорей вырасти и вслед за отцами и дедами прокладывать путь к свободе, уже проторенный Грецией.
Наше детство было озарено пожаром восстаний. Мегалокастро была в те годы лишь убогим скоплением лачуг, прилепившихся к исхлестанному свирепыми волнами побережью. Не хлебом единым, не семейными хлопотами жили наши мужчины. Нет, Мегалокастро и впрямь была крепостью, живущей по неписаным законам осадного положения. И каждый житель был одним из ее бастионов. Во главе горожан стоял святой Мина́, покровитель Мегалокастро. Икона с нашей небольшой церкви изображала его верхом на сивом коне, с обагренным кровью копьем. Смуглый лик, короткая кудрявая бородка, суровый взгляд. Вкруг иконы громоздились серебряные руки, ноги, глаза, сердца – дары горожан, моливших о спасении. Но не думайте, что святой Мина – это просто застывшее изображение. Едва с наступлением темноты христиане запирались по домам и огоньки в окнах, один за другим, гасли, святой Мина резким движением сгребал в сторону серебряные дары, пришпоривал коня, выезжал на улицу и отправлялся дозором по греческим кварталам. Могло ли быть иначе? Ведь Мина был для нас не просто святым, но и капитаном. «Капитан Мина», – так его все звали и шли к нему, зажигали свечи, смотрели на него с немой укоризной за то, что он слишком медлит с освобождением Крита.
Вероятно, многие из тех, кто прочтет «Капитана Михалиса», скажут, что таких рано возмужавших мальчишек не было – и быть не могло, – как не было сильных духом и телом мужчин, страстно любивших жизнь и презиравших смерть. Неверующим не дано узнать, какие чудеса творит вера. Но дано понять, что душа человека становится всемогущей, когда ею овладевает великая идея. В годину тяжких испытаний вдруг осознаешь, что в тебе заключена нечеловеческая сила, и становится страшно, ибо нет больше оправданья низким, недостойным помыслам и поступкам и нельзя винить в них судьбу, обстоятельства, окружающих, только ты один в ответе за все, что бы ни совершил, что бы с тобой ни случилось.
Задумайтесь об этом, и не осуждайте безумцев, стремящихся к невозможному, ведь в таком стремлении – высшее достоинство человека. Когда он не поддается малодушию, не слушает того, что подсказывает ему бескрылый здравый смысл, и вопреки ему борется, надеется на чудо, вот тогда-то и происходят чудеса – невозможное становится возможным.
Если греческий народ выжил, выстоял, победил в борьбе против стольких внешних и внутренних – да-да, в особенности внутренних – врагов, если он пережил вековые невзгоды, голод и рабство, то этим он обязан отнюдь не здравому смыслу, а чуду, неугасимой искрой теплящемуся в сердце Греции. Вспомним хотя бы трех мелких лавочников, основавших общество «Филики Этерия»[4], или двадцать первый год[5]!..
«Родина, не повезло тебе с правителями! – сокрушается Макрияннис[6]. – Один Бог еще указует тебе путь!» И в самом деле, только божественный огонь всегда нес Греции спасение: угаснув в одном ее уголке, он тотчас вспыхивал в другом. И благословенное это пламя, невзирая на благоразумные наставления здравого смысла, озаряло души и творило чудеса, когда, казалось бы, нация уже была на краю пропасти.
Сегодня этот огонь горит на Кипре[7]. Рассказывая о Крите и капитане Михалисе, нельзя не вспомнить Кипр и Акритаса[8] – нашу непреходящую боль и гордость, вновь совершающееся на наших глазах греческое чудо!
Да снизойдет благодать на этот героический остров! Теперь, когда мир опять загнивает и рушится, находятся люди, поднимающие свой голос против лжи, лицемерия, несправедливости. Кипр сегодня перестал быть точкой на карте, маленьким островом на краю Средиземного моря, – он превратился в определенную судьбой арену, где подвергаются испытанию моральные качества наших современников.
А в благоразумных советчиках и тут нет недостатка. «Ну может ли малая искорка побороть всемогущий мрак?» – недоумевают неверующие. Но настоящие мужчины не отчаиваются, они знают, что и в этом безнравственном, прогнившем мире существуют – пусть лишь для единиц – основополагающие начала, окропленные слезами, потом и кровью. Большинство этих бессмертных начал впервые зародились в Греции. Самые великие из них – свобода и человеческое достоинство.
Нашим миром правит таинственный, суровый и непреложный закон (не будь его, человечество погибло бы тысячи лет назад): зло торжествует в начале, но терпит поражение в конце. Поэтому уделом человека становится тяжелая, жестокая борьба. Именно в ней он должен заслужить свое право на жизнь. Свобода, это высшее благо, не дается в дар ни Богом, ни человеком. Непокорная и неподкупная, переносится она из страны в страну, от сердца к сердцу, туда, где готовы драться за нее. И вот она уже твердо, решительно шагает по обагренной кровью земле Кипра.
В поддержку Кипра через морские просторы, мимо Додеканесских островов, шлет свой голос Крит:
– Держись, брат! Я, как и ты, был распят, мучился и воскрес. То же будет и с тобой!
«Судьба, – пишет далее Макрияннис, – никогда не баловала греков. С давних времен и доныне хищники всех мастей пытались сожрать нас, вылакать до дна нашу чашу. Не тут-то было. Закваска всегда остается». Он называл это закваской, а я зову неугасимой искрой, живущей в сердце Греции.
Да, она сгорает, подобно сказочной птице феникс, но восстает из пепла обновленной. Этот народ никогда не исчезнет, никаким войнам не стереть его с лица земли. Видно, правы мы были в детстве, видя Крит в облике распятого Христа. А нынче, уверен, маленькие киприоты отождествляют Страсти Господни со страданиями родного острова, незыблемо веря (как и мы верили!) в его Воскресение.
Вспомните: в одном из апокрифов говорится, что любимый ученик Христа, Иоанн, стоял у креста и глазами, полными слез, смотрел на распятого Спасителя. Он видел, как искаженное болью лицо Иисуса постепенно теряло знакомые черты. Иоанна вдруг охватил страх: то было уже не лицо Христа, а лица тысяч распятых – мужчин, женщин, детей. А потом лица исчезли. На кресте остался только распятый крик.
Этот пригвожденный, полный страдания и надежд на Воскресение крик и есть Греция.
Никос КазандзакисГлава I
Капитан Михалис злобно заскрежетал зубами. Из-под черных усов сверкнул правый клык. Недаром в Мегалокастро его прозвали Капитан Вепрь. И в самом деле: когда он злился, то круглые, потемневшие от гнева глаза, и короткая негнущаяся шея, и клык, торчащий изо рта, делали его похожим на необузданного дикого кабана, который при виде врагов чуть присел на задние ноги и замер, изготовившись к прыжку.
Скомкав письмо, капитан Михалис сунул его за широкий шелковый кушак. Стоило столько времени разбирать написанное по складам, чтобы раскумекать, наконец, о чем речь!.. А речь о том, что племяш опять не приедет на Пасху. И в этом году не явится к убитой горем матери и несчастной сестре. Он, видите ли, все еще учится! Сколько можно! На кой дьявол нужна эта наука? Сказал бы прямо: стыдно людям в глаза глядеть! Эх, брат Костарос, осквернил твой баловень-сын нашу кровь – на еврейке женился! Да будь ты жив, подвесил бы его за ногу к потолочной балке, словно бурдюк!
Капитан Михалис вскочил, едва не ударившись головой о потолок своей лавчонки (ростом он был настоящий великан). От резкого движения развязался черный бахромчатый платок, сдерживавший колючие волосы. Он подхватил его, свернул жгутом и опять туго стянул свою огромную голову. Затем бросился к двери и распахнул ее настежь, впустив свежий воздух.
Молодой приказчик Харитос поспешно юркнул в угол. Это был черный как смоль деревенский паренек, лопоухий, с быстрыми испуганными глазами. От капитана Михалиса его отделяли груды парусов, брезентовые тюки, толстые железные цепи, якоря и другие сложенные в лавке корабельные снасти, но огромная фигура хозяина, едва поместившаяся в дверном проеме, заслонила от глаз Харитоса все остальное, хоть он и не смотрел на приказчика, а устремил свирепый взгляд вдаль, в сторону порта. Капитан Михалис приходился Харитосу дядей, но парень называл его «хозяин» и трепетал даже перед его тенью.
– Мало мне своих хлопот! – ворчал капитан Михалис. – И чего ему, собаке, нужно? Зачем зовет меня к себе в конуру? У меня вон с племянником морока! Просила мать написать ему письмо, я и написал. Но лучше, если ноги его здесь не будет!
Он посмотрел налево: в гавани всегдашний гул и неразбериха, моря не видать от баркасов и лодок, по пристани между бочками с оливковым маслом, вином и горами сладких рожков снуют туда-сюда купцы, моряки, лодочники, грузчики, орут, ругаются, нагружают и разгружают повозки. Все спешат управиться с делами до захода солнца, пока не заперли крепостные ворота. Несколько грубо размалеванных женщин-мальтиек стоят на берегу и хрипло перекликаются, подавая знаки груженному рыбой пузатому мальтийскому паруснику, что становится на причал.
Дымное солнце клонится к горизонту. Уходит последний день марта. Под северным ветром, пронизывающим всю Мегалокастро, торговцы потирают руки, приплясывают, глотают – кто отвар из шалфея, а кто ром для сугреву. Вдали виднеется запорошенная снегом вершина Струмбуласа. Еще дальше грозно высятся темно-синие вершины Псилоритиса. В глубоких, защищенных от ветра впадинах причудливым белым узором застыли полосы слежавшегося снега. А над горами сталью мерцает чистое небо…
Капитан Михалис теперь не отрываясь смотрел на Куле – большую, добротно сложенную башню, стоявшую справа от входа в гавань. Ее украшал крылатый венецианский лев из мрамора. Мегалокастро обнесена неприступными валами и крепостной стеной с высокими башнями. Эти укрепления возводили в стародавние времена христиане-райя[9], чьей только кровью они не политы – и венецианцев, и турок, и греков. Кое-где на стенах еще сохранились каменные венецианские львы, сжимающие в когтях Евангелие, да турецкие топоры – память о том кровавом осеннем дне, когда турки после долгих лет безнадежной осады ворвались, наконец, в Мегалокастро. А нынче замшелый камень сплошь зарос чертополохом, крапивой, смоковницами и кустами каперсов.
Капитан Михалис отвел глаза, на висках вздулись жилы. Там, в подземелье башни, о стены которой то и дело разбиваются волны, была проклятая темница, где сгноили в цепях многих греческих воинов. Каким бы крепким ни было тело критянина, а дух все же крепче… Отчего, Господи, не дал ты нам стальных тел, чтоб могли мы жить сто, двести, триста лет, до тех пор, пока не освободим Крит?! А после пусть обратимся в прах!
И снова вскипел от негодования капитан при мысли о племяннике, живущем на чужбине.
Учится, черт бы его побрал! Есть уж в роду один ученый – Сиезасыр, – вполне хватит! Портки узкие, так что задница еле влазит, на носу стекляшки, а в голове ветер гуляет! Тьфу!
Капитан Михалис сплюнул с такой яростью, что плевок едва не залетел в лавку кира[10] Димитроса, торговца пряностями.
Вот до чего докатился славный род Дели-Михалиса, грозы турок!
Перед глазами как живой предстал покойный дед Дели-Михалис. Нет, не может он быть покойным, пока живы сыновья его и внуки. Старики и сейчас еще вспоминают, как бродил он по критскому побережью: остановится, козырьком приставит к глазам свою лапищу и вглядывается в морскую даль – не покажутся ли на горизонте корабли московитов. Или заломит лихо феску, подопрет стену темницы Куле и напевает прямо в лицо туркам: «Московит сюда идет!» Были у него, говорят, длинные волосы и борода, ходил он в сапогах с высокими голенищами, которые подвязывал к поясу и никогда не снимал. И рубаху носил только черную: порабощенный Крит всегда одевался в траур. А по воскресеньям, отстояв обедню, вешал за спину старинный лук да колчан со стрелами – так и разгуливал по деревне.
Да, были люди! – вздохнул капитан Михалис, сдвинув брови. Могучие как дубы! И жены им под стать. А мы что – чахлая трава!.. Измельчал народец, дьяволу душу продал!
Вслед за дедом вспоминалась и бабка – страшная, костлявая, под длинными ногтями чернота. Уже в глубокой старости покинула она свое окруженное рвом жилище, многочисленное семейство и переселилась в пещеру у подножия Псилоритиса. И еще двадцать лет в этой норе прожила. Внучка, вышедшая замуж за своего, деревенского, каждое утро таскала ей ячменный хлеб, маслины да бутыль вина (воды и в самой пещере было предостаточно). А на Пасху два красных яичка – чтоб старуха не забывала Господа нашего Иисуса Христа. Бывало, выйдет старуха из пещеры и стоит у входа, оборванная, растрепанная, седая – ну ровно ведьма! Поглядит-поглядит на солнце, помашет костлявыми руками, то ли благословляя, то ли проклиная кого-то, и снова скроется в каменном зеве. А как-то утром на двадцать первый год не вышла из пещеры. И люди все поняли, взяли священника и отправились туда с факелами. Старуха уж окоченела – лежала, скрючившись и скрестив руки в маленькой ямке, точно в купели.
Капитан Михалис, тряхнув головой, отбросил от себя воспоминания о прошлом.
В лавке напротив на низеньком диванчике сидел, поджав ноги, кир Димитрос – известный выпивоха. Держа в руках мухобойку из конского волоса, он лениво отгонял мух от мешочков с гвоздикой, мускатным орехом, хиосской мастикой[11], корицей и от фляг с лавровым и миртовым маслом. Лицо у кира Димитроса вечно недовольное, желтое, обрюзгшее, глаза припухшие. Он то чесался, то зевал и уже готов был погрузиться в дрему, как вдруг ему почудилось, будто капитан Михалис с противоположной стороны улицы повернул голову и смотрит на него. Кир Димитрос поднял было мухобойку, чтобы поприветствовать грозного соседа, но тот уже отвел взгляд, и кир Димитрос опять принялся зевать.
Капитан Михалис вновь достал из-за кушака смятое письмо и разорвал его в клочья.
Мало одного учителишки, что опозорил наш род, так еще один выискался! И ведь чей сын – брата Костароса, того самого, который когда-то факелом поджег пороховой склад и взорвал к чертям монастырь Аркади[12] вместе со всеми святыми, монахами, христианами и турками!..
На улице, ведущей в гавань, появился человек в старом шерстяном пальтишке. Это Вендузос, замечательный музыкант: никто не сравнится с ним в игре на лире. Он заказал для своей таверны бочку кисамосского[13] вина и торопился его получить. Но, завидев издали капитана Михалиса в платке, надвинутом по самые брови, почел за лучшее обойти его стороной. Старый черт опять не в духе! Ему только попадись под горячую руку.
Солнце уже зацепилось за вершины Струмбуласа. По улицам легли длинные тени. Белые минареты порозовели. В порту все реже слышались выкрики торговцев, рабочих и лодочников – видно, уже надорвали глотки за день. Даже бродячие собаки перестали лаять. Капитан Михалис достал из-за кушака кисет и свернул самокрутку. Гнев постепенно улетучивался. Капитан погладил пышную, цвета воронова крыла бороду и улыбнулся. Опять сверкнул белый клык.
– Дай Бог здоровья сыну моему Трасакису, – пробормотал он, обращаясь к самому себе. – Уж за него нам краснеть не придется. Этот подведет брандер[14] и под своего дядьку Сиезасыра, и под этого талмудиста, который не постеснялся смешать нашу кровь с иудейской. Да, только Трасакис ныне опора нашего рода!
Такие мысли вновь примирили капитана Михалиса с жизнью и с Богом. В самом деле, грех обижаться на Всевышнего.
Послышался стук башмаков на деревянном ходу. К нему робко приблизился Али-ага[15], безбородый старик турок, одетый бедно, но чистенько. С испугом он смотрел на капитана Михалиса и молчал.
– Ну, чего пришел?
Капитан Михалис не выносил этого старого слизняка: липкий какой-то, угодливый, по вечерам сидит с соседками-гречанками, вяжет носки и чешет языком, как баба.
– Хозяин, – прошамкал старик, – меня Нури-бей прислал. Он просит сделать милость и пожаловать ныне вечером к нему в конак[16].
– Ладно! Он ведь уже посылал ко мне своего арапа. Проваливай отсюда!
– Уж очень ты ему нужен.
– Пошел вон, кому говорят!
Капитану Михалису было противно слушать тоненький, как у евнуха, бабий голос турка. Али-ага передернул плечами от вечернего холода и заковылял прочь.
И зачем это я понадобился этому турецкому псу? Чего я не видел в его хоромах? Коли приспичило, пускай ко мне идет! Обернувшись, он крикнул:
– Эй, Харитос! Оседлай-ка мне кобылу!
Ему вдруг захотелось проехаться верхом, да так, чтоб ветер свистел в ушах. Дед, бабка, племянник, Нури-бей… Может, хоть верховая езда освободит его от тяжких раздумий… Но именно в тот миг, когда капитан Михалис протянул руку, чтобы снять с гвоздя ключ и запереть лавку, в конце улицы протяжно и торжествующе заржал конь. Он узнал это ржание и выглянул. Гордо выгнув шею, по улице гарцевал тонконогий породистый рысак. От черной и блестящей, как маслина, шкуры шел пар. Толстый и босой турчонок гордо прогуливал расседланного жеребца под уздцы, чтоб поостыл немного. Издалека, видно, примчался конь – весь в пене.
Фыркая, он встряхивал мокрой гривой, ржал и, перебирая стройными ногами, цокал копытами по камням мостовой.
– Глядите, глядите, жеребец Нури-бея! – послышалось из цирюльни Параскеваса.
Несколько небритых мужчин, а один даже с намыленными щеками, выскочили на улицу и, разинув рты, любовались конем.
– Ох, люди добрые, – воскликнул здоровяк с козлиной бородкой, – вот кабы мне сказали: выбирай, или конь Нури-бея, или его ханум, Богом клянусь, выбрал бы коня.
– Ну и умен ты, брат, как бочка! – заметил маляр Яннарос, за колючие усы торчком его прозвали Рысью. – Да ведь Эмине-ханум первая красавица в этих краях! Ей всего двадцать лет, и, по слухам, огонь, а не женщина! А ты ее со скотиной равняешь.
– Нет, что ни говори – конь лучше! – упорствовал верзила. – С бабами одна морока.
– А по мне, земляки, все едино, – заключил кир Параскевас, который с ножницами в руке тоже вышел на улицу. – Ни бабы, ни коня даром не надо. На что лишняя обуза?
– Ишь ты, как запел, лукум сиросский! – повернулся к нему мужик с козлиной бородкой. – Да, если хочешь знать, вся наша жизнь обуза, и только могила от нее нас избавит. Так что мой тебе совет: лучше не перечь критянам, а то нам ежели что не по нраву, так можем и живьем в землю закопать…
У бедного цирюльника мороз пошел по коже. «И занесла тебя нелегкая с Сироса к этим дикарям, – подумал он. – Все заросшие, мрачные да, поди, не моются годами – не знаешь, с какой стороны к ним и подступиться. Сядет такой в кресло, развалится, да еще любуется собой в зеркале – то ли круторогий баран, вожак отары, то ли святой Мамас, покровитель скотоводов, которого кир Параскевас видел как-то на иконе: грива, с какой и десять цирюльников не совладают, усищи, борода по колено… обычными ножницами не возьмешь». Тем более что у себя на Сиросе он привык к тонкой работе. Но делать нечего: покружит-покружит цирюльник возле такого клиента, взмахнет полотенцем и принимается скрепя сердце намыливать ему щеки.
– Живьем? – в ужасе переспросил кир Параскевас. – Как это – живьем?
– А так. Ты что же, нашей поговорки не слыхал?
– Какой такой поговорки?
– Болтун – все одно что мертвец.
Цирюльник прикусил язык и юркнул обратно в помещение.
Тут к ним, прихрамывая, подошел Стефанис, бывший капитан «Дарданы», которую турки потопили во время восстания 1878 года. Осколком турецкого снаряда ему тогда раздробило колено. С тех пор приучился он ковылять с палкой по суше. А палок у него две: одну, прямую как свеча, он берет, когда дела на Крите идут хорошо, а другую, кривую да сучковатую, – когда все наперекосяк и в воздухе пахнет порохом. Сегодня Стефанис вышел с кривой палкой.
– Вы чего расходились, мужики? – вмешался он. – Дай-ка я вас рассужу.
– А вот скажи, капитан Стефанис, ты бы кого выбрал – коня Нури-бея или Эмине-ханум?
– Дураки! Тоже мне задача! Да я бы оседлал коня, как святой Георгий, а позади посадил бы Эмине-ханум!
– Э, так-то и я согласен!
– И я тоже! И я! – загоготали остальные. – Вот истинные слова!
Капитан Михалис тем временем не сводил глаз с коня. Черным лебедем проплывал он мимо – горячий, норовистый, – изогнув свою точеную шею. Будто узнав капитана Михалиса, он ударил передними копытами в землю. Остановился и заржал. Не удержавшись, капитан Михалис подошел к коню вплотную. Турчонок, увидев перед собой капитана, тоже застыл на месте.
Михалис провел тяжелой ладонью по мощной взмыленной груди коня, украшенной бирюзовым ожерельем и полумесяцем из слоновой кости, взъерошил мокрую гриву, с наслаждением потрепал морду, похлопал по спине. И гордое, грациозное животное с радостью покорилось этим ласкам.
Огромными, с поволокой глазами конь смотрел на человека, обнюхивая его голову, фыркая, жарко дыша ему в затылок. Играючи, он вдруг сорвал с капитана Михалиса черный платок, стал размахивать им в воздухе и ни за что не хотел его отдавать, весело кося глазом на чернобородого. У того аж сердце зашлось. Никем в жизни он так не любовался. Ласково, доверительно Михалис заговорил с конем, а тот, словно желая лучше расслышать, нагнул голову и потерся о плечо. Затем резким движением капитан выхватил мокрый от пены платок, водворив его на место. После чего оборотился к турчонку, сделав знак, что свидание закончено и можно вести коня дальше.
– Нет, все-таки пойду, – неожиданно для себя пробормотал капитан Михалис, провожая коня взглядом до самых ворот порта. – Непременно пойду!
Забыв о том, что приказал оседлать кобылу, он запер лавку и тут же собрался идти к Нури-бею.
Капитан Стефанис, видевший всю эту сцену, подошел, опираясь на кривую палку, и поздоровался. Старый морской волк был один из немногих, кто не боялся бешеного нрава Михалиса. Что ни говори, а ведь он сам из породы настоящих мужчин. Сколько раз приходилось ему прорываться на своей «Дардане» сквозь турецкое окружение, чтобы доставить в осажденные порты продовольствие и боеприпасы! А когда его корабль обстреляли и потопили, и сам он был тяжело ранен, то все ж доплыл до бухты Святой Пелагеи, зажав в зубах пакет с посланиями Афинского комитета прославленному капитану Коракасу[17], вожаку повстанцев в долине Месара.
Правда, теперь он уж не тот, калекой стал, обнищал совсем, ходит в отрепьях, а капитанские ботфорты все в заплатах. С утра до вечера слоняется по берегу, на чужие баркасы любуется, с грустью вдыхает запах смолы, прислушивается к командам, к скрежету якорей, опускающихся на дно. Но, как ни одряхлел, ни обносился, душа-то, как прежде, молодая и рвется в море, подобно ростру на носу корабля.

