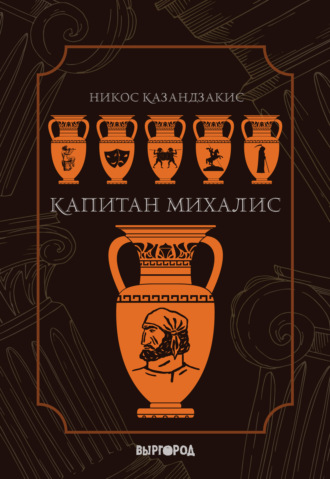
Полная версия
Капитан Михалис
Капитан Михалис пробился сквозь бурлящий людской поток, выехал за ворота, спустился к морю, оставив Мегалокастро позади, и двинулся по берегу в направлении Зловещей. Справа благоухала зелень полей, слева плескалось море. Солнце поднялось высоко, заиграло золотым медальоном на груди лошади.
– Во имя Христа и архангела Михаила! – воскликнул капитан Михалис и, оборотившись на восток, перекрестился.
Солнце залило Мегалокастро. Сначала его лучи упали на минареты, затем на голубой купол святого Мины, на крыши домов. А спустя некоторое время заглянули и в узкие сырые улочки. Девушки распахивали окна, старухи выходили во двор погреться. Они крестились, славя Бога за то, что миновал, наконец, сожрав последние поленья, март, такой безжалостный к старухам. И еще за то, что их старые кости погреются теперь на солнышке. Да будут благословенны апрель и святой Георгий!
Из ворот на приволье повыбежали, задрав хвосты, резвые, веселые критские ослики. Казалось, своим ревом они хотят сообщить всему миру о приходе весны.
Кира Пенелопа вышла во двор, зевнула во весь рот, даже челюсти хрустнули. У этой женщины был двойной подбородок, широкий зад и волчий аппетит. Весь день она обхаживала, обстирывала, кормила и чистила, словно коня, своего мужа, кира Димитроса, а по ночам не давала ему спать. Детей у них не было, поэтому Пенелопа свою материнскую нежность перенесла на кошек, канареек и прочую живность. Нынче утром она вдруг почувствовала странное томление во всем теле, ей, как и осликам, захотелось на волю – побегать, порезвиться. Позвать всех товарок – и киру Катерину, и Катиницу, жену Красойоргиса, и киру Мастрападену, и француженку – да пойти в поля, под теплое весеннее солнышко! Грех в такой день сидеть в четырех стенах. Она на скорую руку приготовила обед и послала служанку к капитанше.
– Хозяйка моя, кира Пенелопа, передает вам привет и приглашает прогуляться вместе по полям – вон благодать какая!
Но до того ли сейчас кире Катерине! Ей надо готовиться к завтрашней пирушке. С самого утра она занялась курами – одну варила, другую фаршировала кедровыми орешками, третью запекала в тесте.
– Передай хозяйке, что не могу я сегодня, пусть не обижается. Коли будет охота, пускай приходит вечером с шитьем: соберутся соседки, Али-ага придет, поболтаем. Да скажи, чтоб не боялась: капитана дома не будет.
Кира Пенелопа надулась, послала служанку по другим домам: к Мастрападене, Катинице, к сестре капитана Поликсингиса. Но одна пригласила священника Манолиса святить дом, у другой болела голова, третья тесто месила на просфоры к вечерне, к тому же у нее ноги распухли – не ходят.
– А, чтоб вас всех, рыбья кровь! – выругалась кира Пенелопа. – Для чего глаза им дадены, ежели они на свет Божий и глядеть не хотят? Вот что, Марульо, ступай-ка к лекарше Маселе, эта непременно придет. Она хоть и француженка, но понимает, что такое весна.
Француженку звали не Масела, а Марсель, но кира Пенелопа перекрестила ее в Маселу – так легче выговорить. Поэтому и мы будем называть ее так, раз уж она вышла за критянина. Пенелопа очень забавлялась, когда та рассказывала ей на ломаном греческом о каком-то огромном, даже больше Мегалокастро, городе, который называется Париж. Через весь город протекает широкая река, а женщины ходят в кофейни наравне с мужчинами, и ноги у них открыты выше щиколоток. Все это походило на сказку, но несчастная француженка так увлеченно рассказывала, что, видно, сама верила своим выдумкам, у нее даже слезы наворачивались. Ну и пусть себе выдумывает, жизнь-то у нее не сахар с таким распутником – тьфу, прости, Господи! Нет, надо обязательно вытащить бедняжку из дому, сходили бы в поле, к родникам, к церкви Святой Ирини – хоть немного развеется…
Но Марульо и на этот раз вернулась ни с чем.
– Не пойдет – говорит, больна. Все ночи напролет не спит – кашляет. Просила, чтоб вы не сердились.
Кира Пенелопа снова разразилась проклятьями. Потом перебрала в уме всех соседок. Может, Коливакену позвать? Ну, нет! У нее муж – могильщик, да и сама она с придурью: как начнет говорить про привидения да покойников, которые во сне являются. И правильно делают! Это наказание за то, что муж ее раздевает мертвецов и одежду берет себе, жене да детишкам, а покойнички лежат голые в сырой земле и зубами клацают. Нет, Боже упаси иметь дело с Коливакеной! Разве что послать Марульо к этой белоручке Архондуле?.. Куда там, их милость нипочем не пойдет гулять с женой торговца! Ее отец, видите ли, служил драгоманом в Константинополе и, говорят, играл в карты с самим патриархом, а теперь, после смерти отца, она каждый год получает от патриархата пенсию – мешок золотых, – еще бы не кататься как сыр в масле! А, Бог с ней совсем! Пускай гуляет с митрополитом да пашой! Смолоду нос задирала, так вековухой и осталась. Кому такая нужна? И поделом ей да ее глухонемому братцу! Говорят, однажды в Константинополе повесили христианина за то, что убил он турка, а ихний папаша-драгоман знал, что не христианин его убил, а какой-то бей, но промолчал, трус, за то и родились у него сын немой и дочка никуда не годная. Да пусть бы эта Архондула умолять ее стала с ней прогуляться – она сама не пойдет!
Кира Пенелопа переключилась на других соседок. У Вангельо забот полон рот: на Пасху ее свадьба с учителем. Тоже счастье привалило! На кой ей сдался этот Сиезасыр? Дохляк, коротышка, к тому же в очках… А с другой стороны, куда ей деваться? От этакой нищеты за козла пойдешь. Братец-то ее все родительские денежки промотал, дома шаром покати, а он в золотых часах щеголяет!
Так, перемыв всем косточки, кира Пенелопа приняла, наконец, решение. Нарвала она виноградных листьев, завернула в них еду, сложила в корзину хлеб, маслины, несколько апельсинов, фляжку вина, кофе, сахар, вилки, ножи, полотенце, керосинку и вышла во двор.
– Пошли, Марульо, без них обойдемся, – сказала она служанке.
Они заперли ворота и вдвоем направились к гавани. Кира Пенелопа немного стеснялась своего могучего зада: раскачивается во все стороны, словно у черных курдючных овец, недавно завезенных на Крит. А что поделаешь, ведь все от Бога, успокаивала она себя, хорошо хоть ноги не опухают, как у киры Хрисанфи Поликсингопулы. Нет, я еще женщина хоть куда! Такую пойди поищи, пожалуй, на десятерых мужиков хватит. Недаром меня здесь прозвали винной бочкой!
Кира Пенелопа, переваливаясь как утка, ковыляла по широкой улице. Народу пруд пруди: купцы, ремесленники, крестьяне – и все кричат, ругаются… А уж какие у здешних жителей тупые, ослиные морды! Она презрительно поджала губы. Сама-то она не местная, из Ретимно, и очень гордится этим. Как народ из Ханьи славится своими оружейниками, а ретимнийцы – культурой, так обитатели Мегалокастро – знаменитые на весь свет болваны и пьяницы. Каждый вечер как засядут по тавернам – и напиваются, закусывая сушеной скумбрией и шашлыком. Ох и несет же от них под утро! Иное дело – ретимнийцы с их неторопливой поступью, благородными манерами, обходительностью! Муж у нее хотя и здешний, но изо всех выделяется: солидный человек, непьющий, одно плохо – по мужскому делу слабоват. Чего она только не придумывает каждую ночь, чтоб расшевелить его, – все напрасно… Нет, и он ретимнийцам в подметки не годится!
Кира Пенелопа вздохнула, ускорила шаг. Вот и гавань. Ну, ясное дело, опять он сидит и мух гоняет. Только на это и способен!
Но кир Димитрос с утра устал уже махать мухобойкой и теперь листал большую амбарную книгу, куда записывал все съеденные за день блюда. Красными чернилами – мясные, фиолетовыми – все остальные. Так он был увлечен своим занятием, будто сам смаковал все эти яства, даже слюнки текли… Он уже дошел до последних страниц, читал по слогам, медленно, со вкусом, будто пережевывал. «Года тысяча восемьсот восемьдесят девятого, марта месяца, двадцатого дня: зеленые бобы с артишоками и зеленым луком в оливковом масле». Вкуснотища! «Дня двадцать первого: кабачки тушеные с чесноком». Недоглядел проклятый повар – подгорели.
В таверну вошла девушка.
– Кир Димитрос, меня моя хозяйка послала, кира Христофакена. Отпустите пять драми[30] хиосской мастики на варенье.
Киру Димитросу лень было пошевелиться. Он с трудом оторвал глаза от регистрационной книги и возвел их к верхним полкам.
– Понятно, понятно, милая, но ведь она во-он где, на самом верху!
Это «во-он» он тянул так долго, будто мастика и в самом деле находилась на небесах.
Девушка ушла ни с чем, а кир Димитрос опять склонился над книгой: «Марта месяца, дня двадцать пятого, на Благовещенье: отварная треска с лимоном, треска с петрушкой, жаркое из рыбы, жареная треска с чесночным соусом; салат из огурцов». Ах, как вкусно!
Наконец и это занятие ему наскучило. Он опять взялся за мухобойку и вздохнул. «До чего же я докатился – я, сын прославленного капитана Пицоколоса! Дед держал брандер и поджигал турецкие фрегаты! Отец тоже бил турок, всю жизнь не выпускал из рук винтовку. А я вот на мух охочусь», – раздраженно думал кир Димитрос, поднося к своей добродушной одутловатой физиономии кукиш. От воспоминаний о своих храбрых предках киру Димитросу стало тесно в убогой таверне и захотелось, упершись руками в стены, подобно Самсону, повалить их разом, чтобы в мире стало просторней, и свежий ветер развеял его тоску.
Но как раз в тот миг, когда ему представилось, что он сокрушает стены и выходит на свет Божий, в таверне вдруг сделалось совсем темно. Это, отдуваясь, на пороге выросла его супруга – высокая, мощная, словно крепостная башня. Кир Димитрос сразу сник. Опять пришла по мою душу, ночи ей мало, с досадой подумал он. И откуда она только силы берет! Керосину ей, что ли, в задницу налили? Будь они неладны, эти ретимнийки!
– Милости просим, заходи! – сказал он громко и снова с излишней поспешностью открыл амбарную книгу, делая вид, будто ужасно занят.
– Вставай, Димитрос! – трубным голосом воззвала жена. – Вставай, муженек, пойдем в поле – проветришься, кости погреешь! А то скоро вовсе рассыплешься в этой пылище. Давай-давай, шевелись! Я прихватила с собой кое-что тебе полакомиться… – Она наклонилась и прогудела ему в самое ухо, – голубцы из баклажанов с перчиком… Объеденье! Да еще на свежем воздухе, на травке!..
– Не пойду! Не пойду! – испуганно завопил кир Димитрос и обеими руками вцепился в стойку.
– Пойдем, Димитраки, сделай милость! Да не бойся, не трону!
Но бедняга принялся отчаянно махать мухобойкой, словно отгоняя огромную мясную муху.
– Не пойду! У меня сегодня столько работы, разве не видишь? Я проверяю счета, подвожу баланс – сколько я задолжал, сколько мне задолжали… Как же без этого торговать? Прошу тебя, иди одна!
– Ладно, пошли, Марульо! – Кира Пенелопа в сердцах дернула служанку за рукав. – Будешь мне и вместо товарки, и вместо мужа!
Показав киру Димитросу свой необъятный зад, его половина выплыла из таверны и потащилась обратно домой.
– Будь проклята такая жизнь, – ворчала она по дороге. – И дал же мне Господь в мужья эту трухлявую колоду! Мне бы настоящего мужика, который и поесть вкусно любит, и выпить не дурак, и жену не обидит. Народили б уже дюжину детишек, и у меня бы на сердце было спокойно. Но кабы жила я в Ретимно, среди порядочных людей, а от этих ослов и ждать нечего!
Кира Пенелопа все больше распалялась, к тому же у нее живот подвело от голода. А солнце тем временем поднялось высоко, дразнящие запахи весенних трав щекотали ноздри.
Взопревшая Марульо понуро плелась за хозяйкой с корзиной в руках. Скособоченные тапочки то и дело спадали с ног, в конце концов она их сняла, положила в корзину, прямо на голубцы, и пошла босиком.
Около церкви Святого Мины кира Пенелопа стала как вкопанная и перекрестилась.
– Святой Мина, тебе ведомо, о чем я молюсь денно и нощно, так пособи же!
Зазвонил колокол, послышались голоса и смех: по узкой улочке мчались школяры, опаздывая на урок. У киры Пенелопы защемило сердце при виде этой веселой стайки.
– Э-эх, – вздохнула она, – вот бы все эти детки были моими! От кого угодно, хоть и не от Димитроса, прости, Господи, меня, грешную!
Она размечталась о здоровом, красивом производителе (сколько таких встречалось ей и в жизни, и в грезах!), с которым могла бы прижить кучу детей. Вон покойная жена Барбаянниса от кого только не рожала! Один Бог знает, кто отец ее соседки Катиницы, супруги Красойоргиса. А Барбаяннис, хотя и слаб на глаза, все ж таки увидел, что ему рога наставляют, даже щупал их руками, а что поделаешь? Однажды свалил его тяжкий недуг, помирать уж было собрался и зовет жену.
– Скажи, ради Христа: наши дети все от меня?
Но та будто воды в рот набрала.
– Ну скажи, не бойся, видишь, ведь я помираю!
– А ну как не умрешь? – ответила эта бесстыжая.
Вспомнив тот случай, кира Пенелопа улыбнулась и отошла в сторону, уступая дорогу школярам. В одном из них она узнала Трасаки, сына капитанши.
– Трасаки! Эй, Трасаки! – окликнула она, вытаскивая из корзины апельсин, чтобы угостить мальчишку.
Но Трасаки не слышал, не до того ему было. Обняв за плечи приятелей – Манольоса Мастрапаса и Адрикоса Красойоргиса, – он что-то увлеченно им нашептывал, а те хохотали во все горло. Это он вчера в классе насыпал у порога дроби. Учитель Сиезасыр, дядя его, как раз разучивал с ними новую песню, чтобы спеть хором на воскресной прогулке за город: «Опять весна пришла, опять цветы цветут!» Ученики принялись вопить ее на разные голоса, и Сиезасыр, вдохновенно дирижируя указкой, старался перекричать этот нестройный хор.
– Вот что, дети, пойдемте во двор порепетируем. А то, как бы нам не опозориться послезавтра. Пошли!
И торжественно направился к выходу, но у порога поскользнулся на дроби и рухнул мешком на пол, даже очки разбились вдребезги.
– Как думаешь, переломал он себе ребра? – обеспокоенно спросил Андрикос.
– Ну конечно! – заверил его Трасаки. – Ты что, не слышал, как он хряпнулся? Наверняка переломал.
– А слыхали, как он запищал: «Ой-ой-ой!»? – спросил Манольос, возбужденно потирая ладони. – Бьюсь об заклад, он переломал себе все ребра, потому и встать не мог. Только стонал и шарил руками по полу – гляделки свои искал.
– Значит, прогулка нам не грозит. А теперь сделаем, как сговорились, идет?
– Идет! Идет! – закричали товарищи.
Мимо пробежала собака; сорванцы, схватив по пригоршне камней, помчались следом. Но близ церкви Святого Мины их остановили вопли и ругань.
– Небось старая Хамиде Эфендину колотит, – догадался Трасаки. – Поглядим?
Мальчишки на цыпочках приблизились к решетчатой ограде. Им открылся просторный двор, заросший травой. Посреди двора высилась могила святого, украшенная разноцветными полосами ткани. Рядом стояла растрепанная босая старуха с крючковатым носом. Одной рукой она держала за горло своего сына, а в другой у нее были вилы, старуха грозно ими потрясала.
– Неверный пес, покарай тебя Аллах! Опять собрался к грекам, чтобы они накормили его свининой и опоили вином! Запорю до смерти!
Эфендина изо всех сил вырывался из лап матушки и орал благим матом.
– Не пойдешь! – бушевала старуха, вцепившись в него мертвой хваткой. – Не пущу! Или ты не понимаешь, какой это позор – идти туда! Ведь сам всякий раз, как протрезвеешь, катаешься, бьешь себя в грудь, срываешь чалму, мажешь лысину навозом и ходишь так по улицам, ревешь как ишак! А греки, знай, потешаются, мусором в тебя бросают. Хоть бы праха святого своего прадедушки постыдился! – Старуха указывала на могилу, украшенную разноцветными полосами.
– Я днем и ночью о нем думаю! – Эфендина воздел руки к небу. – Клянусь, мама, все время думаю о нем!
– Зачем тогда себя оскверняешь?
– Да затем, чтобы стать святым, как мой прадед! Не согрешив, святым не станешь. Если б я не грешил, то и не каялся бы, не взывал бы к Аллаху, не показывал бы людям лысину. Понятно тебе?
У старой Хамиде даже челюсть отвисла. Вдруг и впрямь истина глаголет устами ее придурковатого сына? Ведь говорили старики, что дед ее всю жизнь был последним проходимцем, и только когда вдоволь насладился мясом, вином, женщинами, когда из него уже труха стала сыпаться, ударился он в святость, залез на минарет да и так больше оттуда и не спустился. Ни еды, ни питья не принимал, лишь плакал, бил себя в грудь и взывал к Аллаху. Семь дней и семь ночей сидел он там, а на восьмой вдруг истошно завопил, так что вздрогнула вся Мегалокастро, и в небе появилась огромная стая ворон. Внял Аллах мольбам человека и послал воронье, чтобы прекратили его мучения… Что, если именно такой путь ведет к святости?
Хамиде уже не знала, то ли продолжать колотить беспутного сына, то ли оставить его в покое, присесть где-нибудь в уголке да прогреть на солнышке старые свои кости. Наконец она бросила вилы прямо на усыпальницу святого и отпустила Эфендину.
– Пропади ты пропадом! Делай как знаешь! Жри, пей, хоть лопни. А потом мажь себе лысину навозом. – Сказала и лениво поплелась в глубь двора.
– Жаль, до настоящей драки не дошло, – сказал Андрикос.
– Ничего, отец завтра задаст ему жару, – утешил приятеля Трасаки. – Ну все, пошли! А завтра, как солнце сядет, будьте готовы. Я зайду за вами. Захватите рогатки, а я возьму веревку!
– А я – палку, – сказал Андрикос.
– А я – кол, – прибавил Манольос.
– Давайте Николаса Фурогатоса с собой возьмем. Он сильный.
– Это ладно. – Манольос вдруг остановился. – А ну как ее отец нас застукает?
– Подумаешь! – отмахнулся Трасаки. – Что он нам сделает? Он же не нашенский, а из Сироса. Руки коротки!
– А мы сможем ее поднять? – засомневался Андрикос. – Ведь не меньше центнера потянет! Да еще, поди, кричать начнет…
Трасаки сдвинул брови.
– Вот что я тебе скажу, Андрикос: в таких делах нужна смелость. У тебя ее нет, тогда уходи, другого найдем.
– Это у меня-то смелости нет?! – обиженно вскинулся Андрикос. – Да у меня ее хоть отбавляй!
– Завтра увидим, – ответил Трасаки и прибавил шагу.
Подошли к школе.
– Только помните: могила! – приказал Трасаки. – Кто, хоть словом, обмолвится, лучше пусть не показывается мне на глаза. У отца завтра пирушка, стало быть, меня никто не хватится. А вы тоже смоетесь из дома. Скажете, мол, к вечерне идем. Матери еще и денег дадут – на свечу да на жареный горошек.
– Это ее, что ль, приманить?
– Еще чего! – фыркнул Трасаки. – Сами полакомимся!
Тем временем капитан Михалис, надвинув платок на брови, проезжал мимо Зловещей скалы. Слева плескалось море, справа каменной стеной вставала проклятая людьми гранитная глыба. Всякий христианин, проходя мимо, крестился и взывал об отмщении, ведь в каждой трещине тут тлеют кости замученных турками земляков.
Капитан Михалис тоже осенил себя крестным знамением. Десять лет прошло с тех пор, как у подножия этой скалы был убит его брат Христофис с двумя сыновьями. Сперва никто не знал, куда они сгинули, и лишь много дней спустя в обрыве, над которым кружилось тучами воронье, нашли три трупа с отрезанными языками. Так наказали их турки за то, что за полночь отец и сыновья возвращались навеселе домой с крестин Трасаки. Взглянули, видно, на море, душа в них взыграла, вот и затянули песню о Московите. Да напоролись на турок.
– Сколько уж веков ты тщетно взываешь о помощи, Богом забытый остров! – воскликнул капитан Михалис и тронул поводья. – Ни от кого нет тебе защиты – ни от Всевышнего, ни от сильных мира сего. Сам берись за оружие. Хватит надеяться на чудо да на Московита!
Глубоко вздохнув, капитан Михалис стал удаляться от моря в горы. Глаза его затуманились, ноздри жадно вдыхали свежий горный воздух. Скалы Крита весною пахнут чабрецом и шалфеем.
– До чего ж ты прекрасен, мой Крит! – снова вырвалось у него. – Эх, зачем я не орел, а то любовался бы тобой из поднебесья!
И правда, с высоты остров предстал бы, наверно, еще более прекрасным и величавым: опаленные солнцем вершины устремляются ввысь, а берег сверкает то белизной песка, то багровеет, крутой и обрывистый, будто облитый кровью. Среди темных гранитных скал в глубоких ущельях притаились тихие деревеньки, монастыри, одинокие часовенки. А как красивы три города с их венецианскими крепостными стенами – Ханья, Ретимно, Мегалокастро! Да только истерзана, взята в полон эта красота! Сам Господь Бог мог бы любоваться Критом с орлиной высоты, если б много веков назад не предал его забвению и не отдал на поругание нехристям, превратившим церкви в мечети.
Правда, далеко не все критяне смирились с жестоким приговором Всевышнего. То и дело брался народ за оружие, чтоб сбросить ненавистное ярмо. До сих пор живет в нем вера, что услышит его Владыка небесный, отложит другие дела и исправит сотворенную несправедливость. Может, кто-то и ждет Божьей милости со слезами и смирением, а критянин не таков: он, чтобы услышал его Господь, палит из винтовки прямо у того над ухом. Взбешенный султан насылает на мятежников всякую нечисть – пашей, низами с кольями, саблями да виселицами. А в подмогу им европейцы снаряжают бронированные корабли против борющейся со смертью утлой лодочки, затерянной в море между Европой, Азией и Африкой. Даже мать Греция молит критян сохранять терпение и спокойствие, опасаясь, что они потопят ее в крови. «Свобода или смерть!» – отвечает гордый Крит и колотит прикладом в небесные врата. Прежде восстания вспыхивали с каждым новым поколением, а теперь, после Великого восстания, гнев и вовсе застит глаза народу: не желают люди терпеть да выжидать и при каждом удобном случае бросаются на кровожадного зверя, не сознавая, что терзают собственное тело, сжигают свои деревни, оливковые рощи и виноградники, своими трупами усеивают землю Крита. А израненный остров по-прежнему задыхается в неволе – взлетает на воздух вместе с монастырем в Аркади в шестьдесят шестом году, вновь поднимается в семьдесят восьмом и опять терпит поражение. Сейчас идет восемьдесят девятый, христиане в деревнях снова зашевелились: все чаще потирая руки, обращают они взоры на север, к Греции, а то и еще дальше – к России. В который уж раз не дает им покоя голос предков. Тесно, невмоготу становится сидеть по домам, и потому собираются они вместе да просят учителя, священника или местного музыканта сыграть и спеть им о муках Крита, разжигая в сердце ярость и решимость. А с каждой новой весной быстрее струится по жилам кровь, побуждая к действию. Но турок тоже не дремлет, рассылает фирманы и войска, чтобы усмирить бунтовщиков.
Вскипала кровь и у капитана Михалиса. Он пришпорил кобылу и, объехав Зловещую, приблизился к городу Русес, стоящему на красноземе. Захотелось есть. И он завернул на постоялый двор, который держала богатая вдова, любительница повеселиться и большая охотница до мужского пола. Завидев его, она выбежала навстречу, пышнотелая, неопрятная, да еще и луком от нее разит. Капитан Михалис досадливо сморщился и отвернулся: он терпеть не мог распутных баб.
– Добро пожаловать, уважаемый капитан Михалис! Сколько лет, сколько зим! – закудахтала вдова. – Коли не постишься, то могу угостить тушеным зайцем с зеленым лучком и тмином.
И наклонилась, подвигая гостю скамейку. В вырезе сорочки призывно заколыхалась покрытая пушком загорелая грудь.
– Поешь, капитан Михалис, ты же путник – большого греха тут нет. – Вдова лукаво ему подмигнула.
Капитан Михалис рассвирепел. Ему были противны и эта женщина, и он сам, и даже мысль о еде вдруг опротивела.
– Ничего мне не надо! Я не голоден! – отрубил он и, вскочив на коня, помчался галопом.
Горы остались в стороне. Дорога терялась теперь в нежной зелени полей. Вокруг гудели пчелы, доверчиво щебетали птицы, вернувшиеся в свои прошлогодние гнезда. Сегодня, в первый день апреля, остров будто лучился счастьем… Но капитан Михалис ничего этого не замечал. Куда его понесло в такую рань? За кем гонится? А может, сам убегает от погони? Туча, застлавшая глаза, точно омрачила залитый солнцем берег. Дорога вилась перед ним, и окутанные утренним туманом Ласифьотские горы издалека напоминали медленно клубящийся дым. Двое пожилых крестьян на осликах, приложив руки к груди, поприветствовали его:
– Дай Бог тебе здоровья, капитан Михалис!
Но он не ответил на их приветствие. Мыслями он был уже у ограды Нури-бея и примерялся, как преодолеть ее, как проникнуть в сад. Ну влезет, а что дальше?..
Капли пота выступили у него на лбу. Он сунул руку за кушак и нащупал рукоять кинжала.
– Правду сказал собака! – прошептал он. – Один из нас лишний на этом свете!
Но когда капитан Михалис сжимал рукоятку кинжала, мысленно перепрыгивал через высокий забор и пробирался через сад, между горшков с цветами, к дому с решетчатыми окнами, за которыми еще горел красно-зеленый фонарь, ему внезапно почудился звонкий смех из верхнего окна. И тогда уже пот градом покатился у Михалиса со лба на шею, а затем по всему телу. Он опомнился: ведь он едет не затем, чтобы убивать. Какой-то бес овладел им, коварный, незваный, непохожий на свою родню, – он бесстыже улыбается, от него исходит аромат мускуса, а лицо… Боже, какой позор! Лицо у него женское!

