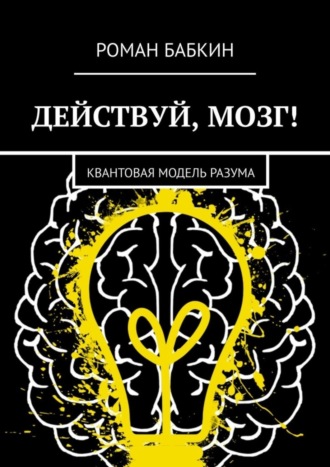
Полная версия
Действуй, мозг! Квантовая модель разума
Прямым следствием теории Фарадея-Максвелла стало то, что генераторы постоянного тока (те самые «динамо-машины», что впечатлили несчастного дикаря из рассказа Уэллса) были заменены на более эффективные устройства – генераторы переменного тока.
Вдохновлённый успехом Максвелл попытался подступиться к объяснению природы бытия, исходя из универсальности электромагнитных феноменов. И потерпел неудачу. Т.к. по-прежнему верил в эфир: его модель микромира казалась чересчур громоздкой и неуклюжей.
Из описания Максвелла не следовало, что носителем электрического заряда является частица.
Однако именно это предположил в 1897 году физик Джозеф Джон Томсон. По его мнению, причиной электромагнитных волн была эта гипотетическая частица, а не колебания эфира. Проведя ряд опытов (за которые в 1906 году был удостоен Нобелевской премии), Томсон доказал свою гипотезу. Частицу назвали «электрон».
Тогда учёным пришло в голову, что, возможно, атомарная природа бытия – объяснение получше, нежели теория эфира. И, следовательно, необходимо вообразить, как атомы устроены.
Сам Томсон предложил модель атома, известную как «пудинг с изюмом» (атом представляет собой положительно заряженную сферу, в которую вкраплены равномерно распределенные электроны).
А в 1911 году его ученик, физик Эрнест Резерфорд, сопоставив эту модель с результатом ряда экспериментов, создал более логичную конфигурацию. Это т. н. «планетарная модель атома» (в центре – положительно заряженное ядро, а вокруг, на большом расстоянии, вращаются, словно планеты вокруг светила, электроны).22
В дальнейшем модель Резерфорда тоже была пересмотрена (см. главу 5), в результате чего родилась целая научная отрасль – атомная физика. Воплотившаяся в таких технологиях, как атомная бомба и атомный реактор.
Итак, хорошая теория – в данном случае, классическая электродинамика – дала успешные прикладные результаты (генератор переменного тока вместо «динамо-машины») и, через ряд теоретических построений, новое объяснение природы бытия (атомарные модели вместо эфирных теорий).
Что, в связи с этим, можно сказать о механической модели мозга?
Первое и самое очевидное следствие представления «мозг-машина» – то, что его можно, в принципе, починить. Значит, нужно изменить отношение к безумию.
Ещё в конце XVIII века психиатр Филипп Пинель осуществил организационную реформу в подшефных ему психиатрических заведениях, включая больницу Сальпетриер (ту самую, которой впоследствии заведовал Шарко). По его указанию, душевнобольных перестали бить, истязать; с них сняли цепи, разрешили прогулки, переместили из узилищ в больничные палаты и т. д.
Дело было не в чувстве жалости или пресловутом «духе Просвещения» (которые наверняка были свойственны Пинелю), а в перемене концепции устройства разума. Безумие перестало считаться проклятием, с которым ничего нельзя поделать. «Одержимые» отныне назывались «пациентами»: людьми с психическими расстройствами (ср. с современным термином mental disorder: буквально – «нарушенный порядок разума»).
И, что бы впоследствии ни пытались выдумывать постмодернистские философы, приписывая психиатрам Нового Времени коварные замыслы по порабощению несчастных изгоев, то был акт милосердия. Однако основан он был на вполне рациональной предпосылке.
Во-вторых, логично видеть причину болезней механического мозга в неисправном функционировании деталей: его центров, узлов, связей. Следовательно, лечить мозг – значит искать сломанные детали, устранять и/или заменять их.
Такой взгляд блестяще подтвердился, по крайней мере, в отношении некоторых заболеваний.
Скажем, в течение многих столетий эпилепсия считалась «священной болезнью»: рационального лечения не существовало. Потому что – как помочь «одержимому», если в него вселилось нечто сверхъестественное? Звали магов, жрецов, священников. Но, что с ними, что без них, эпилептические приступы воспроизводились по какой-то своей, таинственной, логике.
Заметные изменения в подходах к лечению эпилепсии произошли в середине XIX века – всё в той же клинике Сальпетриер.
Ученик и коллега Шарко, доктор Бабинский, обратил внимание патрона на то, что приступы приступам рознь. У эпилептиков причина припадков заключается в наличие патологического очага в мозге, сообщающего электрические импульсы мышцам и заставляющим их судорожно сжиматься-сокращаться. А у истериков «виноват» тоже мозг, но иначе: очаг, скорее, психической, чем органической, природы.
Поэтому первых нужно отделить от вторых и лечить каждую категорию по-своему. В частности, эпилептикам помогают лекарства, снимающие лишнее возбуждение в патологическом очаге.
Следующий шаг в борьбе с эпилепсией был связан с изобретением и внедрением электроэнцефалографии (ЭЭГ) в 1910—20х гг.
ЭЭГ недвусмысленно подтверждала гипотезу о патологическом очаге в головном мозге как причине эпилептических приступов: на записи этот очаг был ясно виден. Теперь поиск противосудорожной фармакотерапии сопровождался объективным методом оценки её эффективности.
Сегодня существуют десятки антиконвульсантов, блокирующих патологические импульсы в мозге и позволяющих пациентам с эпилепсией жить полноценной жизнью.
В-третьих, механическая модель мозга позволила сформулировать первое научное толкование такому явлению, как «внушение» (специалисты предпочитают говорить «суггестия»). Это объяснило огромное число мозговых феноменов, которые ранее приписывали действию сверхъестественных сил.
Умиротворение «бесноватых» и обретение «расслабленными» вновь способности двигаться; внезапное исчезновение речи, зрения, слуха и столь же таинственное их восстановление после нескольких слов и жестов, произведённых целителем; загадочное поведение целых групп людей, выполняющих странные ритуальные действия, а то и вовсе бесследно исчезнувших в результате, вероятно, совершенного коллективного самоубийства – эти и им подобные факты веками вызвали изумление, страх.
Во второй половине XVIII века по популярности среди образованной европейской публики мало кто мог сравниться с Францем Месмером. Именно он предложил первое квазинаучное объяснение странным мозговым феноменам и стал, по сути, первым в мире профессиональным гипнотерапевтом.
Впрочем, Месмер вовсе не стремился объяснить мозг. Он хотел прояснить природу магнетизма, для которого тогда тоже не существовало никакого рационального толкования.
Франц Месмер предположил, что универсальными элементами бытия являются «мировые флюиды». Они пронизывают всю Вселенную и населяющих её существ, не исключая людей (идея не такая уж странная, если вспомнить, что предложенная Ньютоном гравитации тоже неосязаемая и дальнодействующая сила). Кроме того, они накапливаются в особых металлах – магнитах, и их силу можно использовать для лечения разнообразных душевных недугов (отсюда прозвище для подобных специалистов – «магнетизёры»).
Практикуя в разных уголках Европы и устраивая грандиозные шоу для больных (всё, как в древних книгах: «слепые прозревали, глухие стали слышать» и т.п.), Месмер понял, что дело не в магнитах.
Дело в нём самом, в его способности аккумулировать «флюиды» и передавать их людям. Причём эффект был особенно силён во время сеанса и ослабевал либо со временем, либо с увеличением расстояния между ним и страждущими.36
В 1815 году Месмер умер, не оставив какого-либо детального описания своей концепции. Однако его последователи ещё долго изумляли и восхищали детей века Просвещения.
После объяснения электромагнетизма, предложенного Фарадеем и Максвеллом, о каком-либо научном статусе «флюидной» теории не могло быть и речи.
К магнетизёрам начали относиться с презрением, а над их «братьями по разуму», спиритуалистами, откровенно потешались (Майкл Фарадей специально занимался этим вопросом и в ряде экспериментов показал, что спиритизм – разновидность шарлатанства).
Низвержение месмеризма-спиритизма не означало, что эффекты, которых добивался Месмер, были просто фокусами.
«Магнетизёрство» взялись объяснить новообразовавшиеся специалисты по мозгу человека (Шарко, Бабинский, Фрейд, Бехтерев и др.). Они использовали свою терминологию и применили новейшую теорию – механическую модель мозга.
Ведь если мозг-машина состоит из «сознательного» (или «высшей нервной деятельности») и «бессознательного» (или «подсознательного», управляемого машинообразными рефлексами), то ясно, что действия гипнолога (т.е. внешний средовой сигнал) сводятся к тому, чтобы дать мозгу некие терапевтические инструкции на уровне подсознания. Которые он обязательно выполнит, потому что его надзирающая и контролирующая структура – сознание – временно отключена.
В этом состоит суть медицинского и, само собой, глубоко научного воздействия. Которое в наши дни называется гипнозом и является вполне респектабельным психотерапевтическим методом.
В определённых случаях – например, при истерических неврозах – этот метод и вправду хорош; а иногда – просто-напросто единственное, что может помочь.
Но важно даже не это, а то, что значительное количество фактов о мозге было разъяснено: навсегда устранена всякая сверхъестественная подоплёка.
В-четвёртых, громадной важности следствием представления о мозге, как саморегулируемой и приспособляющейся к внешней среде машине, стало развитие теорий воспитания и терапевтических сообществ.
Вся современная педагогика рождена на рубеже XVIII – XIX вв. (деятельность Иоганна Гербарта, Иоганна Песталоцци, Фридриха Врёбеля и др.).
В разных версиях наставники предлагали воспитывать в человеке «гражданина», «личность», «природный дар» и пр. Но сходились в том, что воспитание надо начинать, как можно скорее, и что детей, не поддающихся перевоспитанию, не бывает.
Апофеозом этих идей стала педагогическая теория Антона Макаренко, которая позволила довести коллективное воздействие на индивидуума до уровня сверхуспешной социальной технологии.
Лечение средой нашло воплощение в исключительно медицинских программах.
Сегодня никого не удивить разнообразными терапевтическими группами и сообществами, где пациенты могут свободно общаться друг с другом, делиться своими проблемами и даже участвовать в управлении медицинской организацией.
Впервые идея терапевтической общины была реализована в психиатрической лечебнице «The Retreat» в Йорке. Это произошло в то же время, когда Пинель освобождал от цепей вверенных ему душевнобольных.
В-пятых, специализация на исследователей, диагностов болезней мозга и тех, кто эти болезни лечит, поначалу, несомненно, была целесообразна и крайне плодотворна. Несмотря на скепсис таких уважаемых писателей, как Достоевский.
Различение душевных и неврологических расстройств, выявление их патогенетических механизмов, разработка фармакологических средств воздействия на передачу биоэлектрических сигналов между нейронами вкупе с бурным развитием биохимии продлили миллионы жизней и избавили от мук десятки миллионов людей.
С многих «тайн» нашего разума была сорвана непроницаемая завеса. Люди с сомнительной репутацией – магнетизёры, спиритуалисты и прочие мистики – уступали своё место у постели больного бодрым практикам с университетским образованием и «естественнонаучным» мировоззрением: психотерапевтам, физиологам, психологам, неврологам, нейрохирургам, психиатрам.
Специалисты лечили правильно, по науке.
Они говорили: не «душа», а «психика»; не «чувства», а «аффекты»; не «видения», а «галлюцинации». Они делали не кровопускание, а, наоборот, внутривенные вливания; не прыгали вокруг больного, тряся бубном и бормоча заклинания – а помещали его в светлую и тёплую палату со звуконепроницаемыми стенами.
И пациенты, свыкаясь с новым взглядом на разум, послушно повторяли: «расшатались нервы», «психика перевозбудилась», «нервы разболтались», «мозги скрипят», «я – не меланхолик, просто у меня – слабый тип нервной системы» и т. д.
Мнилось: ещё чуть-чуть и последние загадки мозга будут разгаданы.
Ещё немного и учёные, подобно профессору Преображенскому из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», покопавшись в мозгах, откроют какой-нибудь супер-центр, управляющий всеми супер-рефлексами, или какую-нибудь особо важную железу (у Булгакова – гипофиз, у Декарта – эпифиз, но какая разница!), и всё станет окончательно ясно. Вопрос – как устроен и как возник разум? – будет закрыт. Раз и навсегда.
Этого не случилось.
Какой бы в сравнении с предыдущей теорией ни была прогрессивной, и сколько бы фактов ни проясняла, механическая модель мозга не являлась полным его объяснением.
Следовавшие из этого объяснения выводы, сыграв определённую положительную роль, очень быстро приобрели спекулятивное толкование. И, в некоторых случаях, обернулись трагедией.
Наивысший триумф модели «мозг-машина» пришёлся на первые десятилетия XX века.
Но уже в 1930—40х гг. эта концепция оказалась в глубочайшем кризисе: расцвели, размножились разнообразные спекуляции.
Психиатр и нейрохирург Эгаш Мониш в 1936 году опубликовал статью о новом методе лечения. Официально он назывался «лейкотомия», но большинству известен как «лоботомия».
Мониш исходил из общепринятого научного представления о мозге как машине: в неисправном механизме есть неправильно работающие центры или провода-связи, которые «закоротило». Значит, их надо механически разрушить, засовывая в мозг тонкий металлический прут, напоминающий стилет или нож для колки льда. В результате такой операции пациенты, страдающие, например, шизофренией или какой-либо психопатией, становились тихими и умиротворёнными.
Научное сообщество тоже исходило из представления о мозге как машине. Поэтому рукоплескало хирургу-новатору и вручило ему в 1949 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Вскоре выяснилось: вместе с умиротворённостью лоботомия влечёт серьёзные осложнения.
Люди становились эмоционально отрешенными, пассивными; часто наблюдались эпилептические припадки, отсутствие контроля над физиологическими отправлениями; резко и необратимо снижался интеллект.
В 1950х гг. изуверскую процедуру запретили, но беда в том, что сотням тысяч официально подвергнутых лоботомии пациентам помочь уже было нельзя.
Не менее болезненным и грубым методом лечения шизофрении является электросудорожная терапия (ЭСТ). Как и лоботомия, получила распространение в 1930х гг., но, в отличие от неё, до сих пор не запрещена.
Исходная идея всё та же: мозг – биоэлектрическая машина. Значит, если она ломается, надо долбануть по ней со всей дури: например, пропустить через мозг разряд электрического тока – хорошенько встряхнуть его, ввергнув в состояние шока.
Правда, что ЭСТ применяется только тогда, когда ничто иное (лекарства) не помогает. Но правда также в том, что таким способом можно лишь купировать острый психотический приступ, но не излечить человека.
Выше мы обсуждали, как модель «мозг-машина» позволила успешно справиться с эпилепсией – при помощи лекарств и ЭЭГ в качестве метода объективного контроля.
Однако в конце XIX века, исходя из той же модели, эпилепсию начали лечить хирургически. Одним из вариантов такого лечения стала каллозотомия – разделение полушарий головного мозга путем рассечения мозолистого тела (срединная структура, состоящая из отростков нейронов двух полушарий).
Данный метод, как и ЭСТ, хоть и ограничен строгими медицинскими показаниями, абсолютно легален. По современным оценкам, у 69% пациентов, перенесших нейрохирургическое вмешательство, эпилепсия сохраняется.18
Со стороны могло показаться, что теория успешно развивается: её обсуждали, уточняли, совершенствовали. Машинообразный мозг получал всё большее признание среди образованных людей, «лидеров мнений».
Скажем, известный писатель-фантаст Герберт Уэллс (заметим, биолог по образованию) колесил по миру и всюду, где мог, пропагандировал рефлекторную теорию.
В США появились бихевиористы, требовавшие изучать только поведение человека и сводившие психику к простой схеме «стимул-реакция». Их доктринёры зачитывались работами Павлова и сурово осуждали конкурентов – всё более погружавшихся в феноменологические глубины психоаналитиков.
А на родине прославленного академика, в СССР, ругали и фрейдистов, и бихевиористов, и заодно дуалистов прошлого, вроде Декарта и Фехнера.
Требуя при этом, кто – полной отмены психологии и замены её исключительно физиологией, кто – введения всеобщей дисциплины на основе учения Павлова (об этом, в частности, писал психиатр Владимир Бехтерев, ратуя за создание особой науки, рефлексологии человека).2
Активное волевое измерение мозга, впервые описанное Декартом, в представлении нейроучёных незаметно регрессировало до «нервно-психической деятельности», где, в зависимости от личных пристрастий теоретика, ведущую роль играли либо биологические, либо социальные факторы.
В концепцию стали привносить философские, политические, экономические и прочие, посторонние, смыслы. Глубинная связь модели с математикой и физикой была утрачена.
Спекуляции об управляемом средой мозге-машине вышли далеко за пределы медицины.
Вторая половина XIX столетия – время генерации уродливых социально-политических концепций по воспитанию целых народов, а первая половина XX века – период их жестокого воплощения, псевдонаучных попыток вывести «нового человека».
Нельзя сказать, что эти идеологемы стали прямым следствием представления «мозг-машина». Но они, безусловно, были с нею связаны.
Самим ходом вещей сложились условия для нечаянной экспериментальной проверки теории о механическом мозге.
Это произошло в период 1914—1945 гг. Когда сначала Европа, а затем весь мир погрузились в череду почти непрерывных войн, революций, восстаний.
Люди приучались думать о себе как винтиках в механизмах. Брали в руки автоматическое оружие; залезали в ползающие, плавающие, летающие машины и убивали других людей. Новые технологии войны позволяли не видеть врага воочию: массовые убийства, машинный способ устранения социальных «неполадок», достигли уровня конвейерной организации. Этому способствовала окрепшая химера «геополитики» – умозрительная схема, толкующая международные отношения как систему интересов государств-машин. Идеологические противники, инакомыслящие, целые народы трансформировались в абстрактные «массы» и «контингенты»: цифры в донесениях, надписи на картах. Они стали математическими функциями от территорий, которые населяли, и от средств производства, которыми пользовались. Их сложением, вычитанием, умножением и делением оперировали как алгебраическими величинами.
Декарт ужаснулся бы результатам такой проверки своей гипотезы (см. табл. 5).
Следствия теории о трёхмерном мозге-машине работали не так хорошо, как ожидалось. Гораздо хуже, нежели в случае классической теории электродинамики.
Новая теория не сопровождалась прорывом в смежных областях познания. Подобно тому, как это произошло в физике, где появилась «планетарная модель атома».
Кроме того, немаловажным критерием хорошего объяснения является его эстетическая привлекательность.
Модель Резерфорда изящнее, чем «пудинг с изюмом». Но мысль о том, что мы ничем не отличаемся от лабораторной мыши, и что из всякого человека можно выдрессировать некий «социальный тип», в сравнении с по-своему красивой логикой исходной теории Сеченова-Павлова и романтично-таинственной концепцией Фрейда, – отвратительна.
Далеко не все специалисты по мозгу человека понимали суть кризиса. А те, кто понимал, попытались спасти модель.
Четвёртое измерение?
В начале XX столетия в физике, биологии и математике происходило то, что принято называть «сотрясанием основ».
Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, окончательно оформленная им в 1907—1916 гг., растворила в себе механику Ньютона. Оказалось, что мир устроен сложнее, чем самая мудрёная машина. К тому же, в последний год, самого «естественнонаучного», XIX столетия физик Макс Планк ввёл понятие «квант» – родилась новая физическая теория.
У биологов были свои хлопоты. Их «альфа и омега» – теория биологической эволюции – неожиданно получила новое дыхание. В 1900 году переоткрыли законы Грегора Менделя. А ещё через девять лет появилось понятие «гены». Что в совокупности с предположением об их спонтанном изменении (мутациях) позволило сместить акцент в толковании теории Дарвина: в естественном отборе выживает не сильнейший, а наиболее удачливый.
Даже в стройную и много чего объясняющую теорию электродинамики пришлось вносить изменения. Точнее: выяснилось, что область её применения не так широка, как считалось. Тот же Эйнштейн в 1905 году объяснил феномен фотоэффекта (появление или усиление электрического тока в металле под воздействием света). Причём сделал это, исходя не из волновой природы света – как в теории Фарадея-Максвелла – а из того, что имеет место поток дискретных кусочков энергии, фотонов. Таким образом, вопрос о природе бытия снова стал решаться иначе.
В области математики нашёлся свой «бунтарь». Им оказался Георг Кантор, предложивший теорию множеств в 1891 году. Фактически он открыл новый универсальный язык математики (и науки в целом) – исследование и описание бесконечных множеств. Видный учёный Давид Гильберт на состоявшемся в 1900 году Парижском конгрессе предложил подумать об основаниях математики, что спровоцировало жаркие обсуждения и споры. Они продолжались десятки лет.
Словом, всё самое святое в науке – детерминированная Вселенная-машина, линейность времени, довлеющая роль среды в эволюции, волновая структура света, фундаментальная аксиоматическая логика – было подвергнуто сомнению.
Наметился переход от одной научной парадигмы к другой, а в теориях о мозге наблюдался застой.
Ряд специалистов предприняли попытку обновить модель трёхмерного мозга-машины. Они стремились открыть в нём четвёртое измерение.
Есть легенда, что психиатр Карл Густав Юнг, ученик Зигмунда Фрейда, предвидел Первую мировую войну. Неизвестно, так ли это.
Но если в этом есть хоть какая-то крупица смысла, то она в том, что специалист, ценивший присущую человеку интуицию, ощутил, что видеть во всех проявлениях человеческой жизни механизмы, рефлексы и жёстко детерминирующие поведение аффекты – явный перебор. Биологизированный, зажатый субъект, которым предписывал считать растянувшегося на кушетке пациента классический психоанализ, Юнгу не нравился.
Психиатр описал архетипы: «изначальные образы» или «унаследованные структуры мышления», помещенные в культурную память народов, т.н. «коллективное бессознательное».
По мнению Юнга, помимо биологических инстинктов, психологической маски и надзирающей (социальной) структуры, каждый человек обладает ещё частичкой «коллективной души». 28
Это, в интерпретации специалиста, и есть четвёртое измерение мозга.
Фрейда и Юнга часто противопоставляют: первый-де – материалист, а второй – идеалист и даже мистик.
В действительности концепция наследника Фрейда прагматичнее, ближе к реальности. У Юнга человек, скорее, одухотворенный полуавтомат, чем динамическая машина.
Скажем, предложенный аналитиком метод «активного воображения» предвосхитил возникшую впоследствии арт-терапию. А, например, индивидуация (современные синонимы: самопознание, самоактуализация, самосознавание и т.д.), которой Юнг придавал большое значение, стала описываться как главная цель человеческого бытия в работах таких видных представителей гуманистической психологии, как Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Джеймс Бьюдженталь.
Классическую рефлекторную теорию Сеченова-Павлова попытался очеловечить психолог Лев Выготский.
Он сформулировал три этапа развития поведения живых систем: преобладание биологических механизмов адаптации (инстинкты), преимущественно средовые приспособительные реакции (условные рефлексы) и собственно разумное поведение (человеческий интеллект). Описывая интеллект, психолог оговаривался, что этот этап не является пределом эволюции приспособительного поведения.4
Четвёртый этап, по мнению Выготского, происходит прямо сейчас (1930е гг.) и представляет собой совершенствование культурных инструментов. Тогда четвёртое измерение мозга – психологическое. Оно сформировано сознанием и представлено в мозге высшими психологическими функциями. Которые, в свою очередь, возникли в ходе культурно-исторического развития нашего вида.5
Мысль, как видим, совершенно юнговская. Не случайно, нынешние исследователи прямо связывают идеи Выготского и Юнга.6
Наиболее плодотворной попыткой облагородить тезис «мозг-машина» выглядит теория поля, завершенная психологом Куртом Левином к концу 1940х гг.



