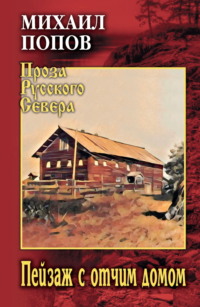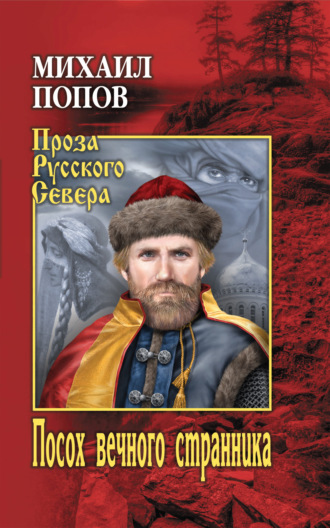
Полная версия
Посох вечного странника
– Как его звать? – спрашивает младший. Смысл Варавве доступен.
– Хрестус, – отвечает старший.
Начальник стражи уходит. Легионер остается один. Кроме него, в проёме оконца никого больше не видать. Ску-учно!
Солнце катит в небесную гору. В застенке жарко. От соломы исходит смрад пота, мочи и гноя. Но тут хоть крыша. А снаружи зной. По запыленному лицу легионера течёт пот. Да и немудрено. Его шлем – что тебе котелок, подвешенный над очагом. Того и гляди, мозги задымятся.
Варавва криво усмехается. Человеческих мозгов он ещё не пробовал. Хотя чего только в своей жизни не испытал!
Этот заморский юнец – совсем сосунок. С такими Варавва любил забавляться в термах. Но сейчас он не стал бы распалять себя. Любое вожделение, любой пароксизм он отдал бы за миг воли.
Мысль о побеге вспыхивает с новой силой. Что там у ромея из доспехов? Копьё, острый меч на правом бедре – он висит на ремне, перекинутом через левое плечо; на поясе слева нож; на левом запястье и предплечье ремни выгнутого щита. Да он, Варавва, взял бы его голыми руками, доведись схлестнуться один на один. Только бы хребет затрещал! Если бы удалось вырваться…
Зевая от скуки и ожидания неминуемого, Варавва уже собирается отступить от окна, как взгляд его неожиданно цепляется за руку ромея. Время от времени правая рука того ныряет в щит. Варавва приглядывается. Сбоку у локтя в щите выемка, оттуда торчит кусок арматуры – прутья лозы или самшита, а кожа покрытия отгибается, точно створка. Ромей постоянно ощупывает что-то, видимо, проверяет, на месте ли.
– Тайничок, – хмыкает под нос Варавва. – Что ж ты там прячешь, щенок? Золотишко? Или камешки?
Он живо скатывается с колоды, устремляется к сообщникам. Мысль его проста и доходчива: «Постучать… Запроситься… Отворят… А там будь что будет… Или – или…» Его понимают с полуслова. Зажигающая сила голоса действует как эликсир. Оба уже вздымаются с колен. Они уже готовы к схватке. Они уже согласны за ним в огонь и в воду. Но в этот миг, упреждая их, раздается грохот кованых запоров. Арестанты оборачиваются. В проёме дверей возникает легионер. Он машет обнаженным мечом, дескать, выходи. Из-за его плеча торчит копьё другого стражника.
Варавва коротко оглядывает сообщников. Надо действовать по его знаку. Они отвечают твердым немигающим взглядом.
Варавва выходит первым. И… на миг теряется. Глаза слепит солнце. Он жмурится, злясь на промедление. Но когда глаза обвыкают, сознает, что это и к лучшему. Легионеров не двое, как виделось, и даже не четверо, как обычно, – их целых две кварты. Где втроём стольких одолеть!
Арестантов выстраивают цепочкой. Легионеры с копьями наперевес берут их в каре. Выходит так, что и слева, и справа, и спереди, и сзади по три стражника, хотя всего их восемь. Вот она, хитрая ромейская наука.
Колонна шагает мерно и неуклонно. Варавва косит глаза сначала по левой стороне, потом по правой. Тот молокосос идёт справа от него и чуть впереди. До него три шага, это всего один прыжок. Если бы не оковы!
Колонна минует ворота, втягивается за стены внутреннего города. Дело худо. Это обитель префекта. Здесь римское военное командование, тут полно солдат. Отсюда не вырваться. Разве чудо какое спасёт.
Варавва не верит в чудеса. Будь что будет. Смерть – так смерть. Всё одно. Да и что такое в сущности эта смерть, что её все так боятся? Миг. Внезапно наступившая ночь. Только и всего. Но для него, Вараввы, ночь всегда была сообщницей. И кто сказал, что околевшее тело – конец всему?..
Старший конвоя, шагающий впереди, вскидывает руку, дескать, внимание – и резко останавливается. Конвоиры едва не натыкаются друг на друга. Варавва сжимает кулаки. Бежать! Он зыркает вправо – высоченный каменный забор; влево – столь же высокая терраса. Может, назад? Нет, туда путь заказан – позади пять копий, нацеленных в спину, да еще двое сообщников, которых надо миновать. Не пробиться. А если вперёд? Впереди одна спина – спина старшего. Но дальше – процессия, что пересекает путь. Там череда слуг, носилки, закрытые белыми балдахинами, – за ними какие-то важные персоны. Но главное препятствие – воины, которые сопровождают процессию, – у них обнажённые мечи и копья.
Взор Вараввы подёргивается пеплом. Ещё рано. Ещё не пора. Ещё не настала та минута.
Процессия, пересекающая путь, Варавву не интересует. Деланно равнодушно он отворачивается влево. На каменьях террасы, которая служит основанием какому-то зданию, он примечает надпись. Выбито по-ромейски, но догадаться, о чём речь, не трудно. Это казарма, построенная в честь императора Тиберия. А соорудил ее префект Иудеи Понтий Пилат.
Полуденный зной сверлит висок. Пот стекает по щекам Вараввы, оставляя грязные полосы. Охота пить. Но кто ему подаст, разбойнику!
Шествие важных персон заканчивается – процессия исчезает за поворотом. Старший конвоя даёт знак, и колонна вновь снимается с места.
Арестантов запирают в тесном каменном дворике. Три стены – глинобитный забор, четвертая – задник постройки. По углам и периметру встаёт стража. К тем прежним двум квартам присоединяется ещё одна. Зато тут с арестантов снимают цепи.
Сообщники Вараввы садятся прямо на каменистую землю. Взнузданные на время зовом вожака, они снова теряют волю, их тела словно растекаются. Варавва скользит по ним уже пустым взглядом и выбирает для себя место. Это противоположная от ворот стена. К забору его не подпустят. Стена постройки, с точки зрения стражи, надёжна. Зато там – горка щебня, камня. Стало быть, оттуда лучше обзор и опора для прыжка.
Варавва редко ошибается в выборе позиции. Не прогадывает он и на этот раз. С возвышения хорошо видна часть людной площади, окрестности. Он узнает эти места, хотя бывал здесь исключительно ночью: башня Антония, где размещается римское командование, край Гаваффы – каменного подиума…
Кого же к Гаваффе ведут? Худая, чуть сгорбленная спина, белый хитон, поступь неровная, зыбкая. Возле помоста стража сворачивает. На миг открывается измождённый лик. Надо же! Это давешний узник, которого проводили мимо застенка. Только одежда на нём другая. Было грязное голубое облачение – теперь белый хитон. Уж не первосвященник ли ему пожаловал?
Мысль, что Каиафа подарил бродяге облачение, кажется до того нелепой, что Варавве становится весело. Глава Синедриона стал благодетелем бродяг – ну не умора ли! А может, это Ирод преподнёс? А и впрямь! Почему бы царю Иудеи не пожаловать нищему хитон со своего плеча! Такой поворот ещё больше забавляет Варавву, его рот растягивает ухмылка – чего только не придёт в голову, когда её напечет весенним иерусалимским солнцем!
На Гаваффу возносят кресло. Варавва вытягивает шею. Замирает и толпа, собравшаяся внизу. Проходит минута – другая. На подиуме появляется грузный, облачённый в белую тогу человек. Варавва видит его профиль. Это Понтий Пилат. В месяце сентябре на празднике кущей он тоже был в белом.
(Кто спустя две тысячи лет помнит о наместниках Великой Римской империи? Только историки, узкие специалисты. Ибо все назначенцы кесаря давно канули в Лету, хотя, верно, и мнили о себе… Уцелел в памяти лишь один – этот.
Возвышаясь над толпой, префект Иудеи Понтий Пилат безмолвствует. Он знает себе цену, этот обрюзгший ставленник императора. Однако же и Пилат не ведает, что в историю он войдёт не как персона, приближённая к кесарю, не благодаря месту, которое занимает в имперской иерархии, а по причине того, что в один из дней месяца нисана он окажется на Гаваффе в центре судилища… Зато молва понизит его в должности. Почему через две тысячи лет его понизили в должности? Потому только, что прокуратор звучит как бы благороднее? Но разве можно ради красивости подменять истину? Пилат – префект. Прокуратор ведает финансами, а префект – и военачальник, и судья провинции. Вот сейчас он тем и занимается, возвышаясь над ропщущей толпой.)
С лица Пилата взгляд Вараввы устремляется вниз. Подсудимого скрывает подиум, на котором возвышается префект. А толпа видна хорошо, во всяком случае часть толпы, полукружьем повёрнутая к Гаваффе. Тут и знать, и простолюдины, и священники. Они поочередно переводят глаза то на префекта, то на подсудимого – это как зеркало для Вараввы. Но понять, о чём речь, трудно – Гаваффа довольно далеко.
Неожиданно доносится имя. Может, послышалось? Варавва подставляет к уху ладонь. Имя повторяется. Теперь слышится ясно и четко: Йешуа. Йешуа это его, Вараввы, собственное имя. Он получил его при рождении, это было три с лишним десятка лет назад. А Вараввой его назвали сообщники. Выходит, что – над ним, Вараввой, уже начался суд?! Он здесь, а судят его там?!
Гул толпы нарастает. Ясно доносятся отдельные голоса и видны вскинутые над головами кулаки. Оцепление солдат недовольно поводит плечами. Нет, догадывается Варавва, судят не его – судят того, в белом облачении, его тёзку.
Взгляд Вараввы выхватывает знакомое лицо. Это тот купец, который утром стоял подле застенка. Как странно изменилось его обличье. Нет ни недоумения, ни провинциальной робости, ни даже опаски. В жестах решимость, даже гнев. Он разгорячён. Он шумит вместе со всеми, а порой, кажется, и громче. Толпа – или сам того захотел – вытеснила его вперёд, почти под самую Гаваффу, где витийствуют несколько непримиримых раввинов и фарисеев.
Голос префекта, направленный в противоположную от Вараввы сторону, теперь и вовсе теряется в гуле людского скопища. Варавва ничего не слышит: ни единого слова Пилата, ни – тем более – ответов обвиняемого. Однако о чём идет речь – по крикам из толпы догадывается. Префект интересуется, в чём жители Иерусалима обвиняют этого человека. На Гаваффу, точнее на того, кто стоит у подножия подиума, обрушивается шквал брани.
– Морочил сынов Давидовых!
– Нарушал субботу!
– Объявлял себя мессией!
– Грозился разрушить Храм!
– Срывал колосья!
– Сбивал с пути истинного!
– Это враг кесаря!
Последнее выкрикивает купец. Варавва в этом почти не сомневается: у него клокочущий высокий голос и характерная картавость. Удивляет его другое: почему? Ну, назвался мессией – что с сумасшедшего возьмешь?! Ну, бродяга – разве мало таких?! Но преступник?!
Сочувствия к тёзке у Вараввы нет. Сколько таких было и сколько ещё будет. Он, Варавва, тоже в их череде. Но судьи! Разве этот торгаш имеет право судить. Он же ничего не знает. Ведь с его сандалий ещё не осыпалась красная дорожная пыль.
Над подиумом вздымается рука префекта. Складки тоги ниспадают, обнажая рыхлое предплечье. Площадь затихает, отзываясь лишь глухим ропотом. Пилат бросает какой-то вопрос.
– Йешуа! – отзывается толпа.
Рука Пилата вопрошающе тычет в подножие Гаваффы.
– Нет! – ревёт толпа. – Не этого!
Пилат разводит руками.
– Бар-ав-в-у-у! – доносятся голоса.
Пилат словно не понимает.
– Бар-аввана, – кричат одни.
– Вар-аввана, – вторят другие.
– Варавву, – орут третьи.
Пилат утишающе вскидывает руки и указательным пальцем тычет в подножие подиума: а этого?
– А этого распни! – ярится толпа. – Распни! Во имя кесаря! Во имя Тиберия!
Префект поднимается с кресла. Рука его властно простирается над толпой. Он молча кивает и скрывается за колоннадой.
Всё или не всё? И если всё, то что дальше? Варавва переводит глаза на стражу: нет ли тут каких подвижек? Забор не высокий, перемахнуть его ничего не стоит. Но дальше? Вся ли стража на виду? Куда ведёт боковая улочка? С чем граничит этот дом, стену которого он подпирает?
Тут раздаётся скрип. Варавва вскидывается. Это отворяются воротца дворика. Сначала появляется старший стражи, он входит чуть боком, за ним шествует кто-то из воинской знати. Варавва исподлобья оглядывает входящего. Дорогие сандалии, на голенях бронзовые щитки; облаченье армейского образца, но ткань не простая, а шелковая; широкий кожаный пояс с золотой пряжкой; крутые плечи, обтянутые блестящими ремнями; на голове сияет бронзовый шлем. Надо же! Сам легат Тулий пожаловал – начальник гарнизона. А обнаженный короткий меч в правой руке? Выходит, не просто пожаловал, а по его разбойную душу.
Легат манит Варавву пальцем. Весь набычившись, Варавва поднимается на ноги. Кровь ударяет в виски, точно тревожное било, но усилием воли он усмиряет зов. Ещё не сейчас, ещё не время. Делает шаг, другой…
И вот в тот миг, когда Варавва собирается кинуться навстречу обнажённому клинку, легат Тулий цедит фразу, которая повергает смутьяна в замешательство. Он переводит взгляд на стражника, косит на лежащих ничком сообщников. Снова кидает взгляд на легата. Может, ослышался? Тулий говорит по-арамейски, но с сильным акцентом. Может, он, Варавва, чего-то не понял?
– Ты свободен, – видя недоумение арестанта, повторяет начальник гарнизона.
– Свободен? – Варавва в оцепенении, ему не верится.
– Префект Иудеи дарует тебе жизнь, – легат поводит мечом. – В честь песаха. Как принято у вас, иудеев. – И кивает куда-то в пространство. – Вместо того…
Варавва, всё ещё настороженный, готовый к любому коварному удару меча, боком проскальзывает в открытые воротца. Пола его хламиды волочится по земле. Он машинально закидывает её на плечо. Это похоже на взмах птицы, которая вырвалась наконец из клетки. Но только похоже. Птице дай только волю – мигом взмоет в поднебесье или скроется в ветвях тамариска. А тут? В любую секунду тебя может догнать копьё или стрела, пущенная в спину. Так и кажется, что она уже свистит, да что свистит – дрожит меж лопаток, жадно напиваясь твоей крови.
Узкая улочка. Та самая, которую Варавва представлял несколько мгновений назад. Он пробегает от угла к углу, таится в нишах, прислушивается, нет ли погони. На пути оливковое дерево. У подножья ствола – кучка золы. Он хватает её в пригоршню, на ходу мажет лицо, остатки сыплет на волосы. Кто там посыпал голову пеплом? Моисей? Исайя? Да какая разница – цель-то все равно не та. Там в горе сыпали – у него радость. Просто эту радость – надо оберечь, любыми способами сокрыть от соглядатаев.
Варавва петляет по закоулкам, временами пробегает по плоским крышам, кое-где переваливается через дувалы, продирается сквозь плетёные заборы. Сколько это длится, он не замечает. Ноги сами собой выносят его на пустырь. Это северная сторона. Надо было держаться солнца. В северной меньше строений. Хотя почему?.. Это же совсем близко от Северных ворот. Какая разница, в какие бежать. Главное – выскользнуть. Удастся вырваться за пределы Иерусалима – тогда ищи ветра в поле. Уж там-то он не позволит себя словить.
Стража у городских ворот повседневная – два легионера. Значит, никто его не ищет. Неужели и в самом деле его освободили и тут нет никакого подвоха?!
За ворота Иерусалима вытягивается небольшой караван верблюдов. Два погонщика впереди, три позади. Варавва живо пристраивается к задним и с независимым видом проходит в их компании мимо осоловевших от пекла стражников.
– Всё, – хрипит беглец, едва минуя ворота. Сердце прыгает. Скорым шагом, чуть не бегом он сворачивает на самую узкую дорожку, которая ведёт от городских стен, и спешит, обходя камни, к кустам терновника – первому видимому укрытию. Жить все-таки лучше, чем помирать!
Терновник покрыт дымкой молодых побегов, однако кожу он не ласкает, а дерёт. Просто Варавва не обращает на это внимания. Что там шипы, когда на его теле не счесть шрамов и рубцов: и от ножей, и от кинжалов, и от мечей, и от копий – всего того, что создано человеком для калечения и убийства. Варавва не создавал оружие, но пользовался им всегда.
Продравшись сквозь кусты, Варавва опускается на колени, находит выемку и ничком падает на землю. Надо передохнуть. За последние двое суток он почти не смыкал глаз. Но не потому, что особенно маялся. Сна не было. Всё гадал, кто предал, где он совершил промашку.
Сон накатывает быстро и незаметно. Точно прибрежная волна, он касается стоп, охватывает чресла, набегает на грудь, достигает шеи, застит уши, глаза и уже в откате своём мягко тащит по камешнику, унося куда-то в пучину.
Варавва лежит, уткнувшись в перекрестье рук. Открыта только левая скула и уголок губ. Что ему снится, этому жестокому, дерзкому человеку? Или сны его пусты, как пусто место, где у людей трепещет душа? Что это? Уголок губ подрагивает, потом слегка растягивается. Неужели он улыбается? Радуется, что опять выкрутился? Или это злорадство – всегдашняя его суть – перекосило лицо?
Просыпается Варавва резко. Поднявшись на четвереньки, замирает. Сейчас он похож на волка, который прислушивается и принюхивается: что это за запахи? Что это за звуки? Нет ли тут опасности?
Стараясь не касаться ветвей, чтобы не обнаружить себя, Варавва выползает из залёжки и, хоронясь за кустарником, оглядывает окрестности. Поблизости ни души. А дальше? Он приподымает голову. У Северных ворот, из которых он давеча выскользнул, какая-то сумятица. Клубится пыль. Доносятся голоса. Впереди угадывается шеренга легионеров, за ними – кучка раввинов. Потом – густая толпа горожан. А над этой процессией плывёт матёрый тесовый крест. Куда направляются эти люди – догадаться нетрудно. На Лысой горе возвышаются два таких же креста. Туда.
Варавва вылезает из залёжки и, где ползком, где пригнувшись, устремляется ближе к Лысой горе. Временами его укрывают небольшие овражки, гряды кустарников. Но иногда он бежит на виду, рискуя попасться на глаза. Зачем ему это надо, что его сорвало из укрытия – он и сам не понимает. Любопытство? Едва ли. Он насмотрелся казней. Умирая, все корчатся одинаково. У всех алая кровь, у всех течёт моча и брызжет кал. Злорадство? Тоже нет. Злорадство вызывает поверженный враг. Казнить будут сообщников и, наверно, случайного бродягу. Сострадание? Ему такое неведомо.
У подножия Лысой горы Варавва замирает. Дальше нельзя. Тут последняя кайма кустарников. Иначе могут заметить. Но главное, что его останавливает, – склон. Не заметят его, но и он не разглядит ничего.
Процессия втягивается на гору и растекается вокруг лобного места. Большинство собравшихся встают спиной к солнцу. Варавве это на руку – не заслонят обзора. Но с другой стороны, опасно – могут заметить, ведь он как раз против солнца. Варавва присматривается. Глаза зевак устремлены на центр, к высоким крестам. Им явно не до него. И он уже без опаски переводит взгляд на лобное место.
Возле крестов двое его сообщников, они согбенны и понуры. Подле них легионеры. Чуть поодаль виден третий крест, видимо, тот, что всю дорогу плыл над толпой. Крест стоит, опираясь на короткую перемычку. Это напоминает мачту. Корабль затонул, мачта сломана, а рея упорно просится в небо.
Склон скрадывает часть обзора. Не всё видно. Но фигуру, простертую возле того креста, Варавва различает. Устало поникшие плечи, безвольно протянутая вдоль бруса рука. Лица несчастного не видно, его заслоняют ниспадающие пряди волос, но по белому хитону с золотистым подбоем Варавва догадывается, что это тот, кого он уже видел.
Варавва переводит глаза на своих сообщников. Их чем-то поят, скорее всего вином. Потом лёгкими тычками подгоняют к крестам. Как безвольно, как покорно недавние смутьяны идут на казнь.
– Бараны! – шепчет Варавва. – Хотя бы пальцем пошевелили!
Всё происходит быстро и даже буднично. Две стремянки, два легионера. Один поддерживает воздетого на крест осуждённого, другой попеременно прикручивает к перекладине его руки. Несколько минут – и вот уже один зависает на крестовине, корчась от вывернутых в изломе предплечий. Ещё несколько мгновений – и вот уже второй начинает трепетать, пристёгнутый сыромятными ремнями к перекладине.
Толпа внимает их корчам и стонам без сочувствия, однако и без злорадства. Она словно не торопится проявлять эмоции, приберегая их для финала.
Легионеры ждать не заставляют. Они склоняются над простёртым бродягой и рывком ставят его на ноги. Колени несчастного подгибаются, но упасть ему не дают. Доносится какая-то команда. С него срывают белый нарядный хитон, оставляя совершенно нагим. Один из легионеров, по виду старший, обводит взглядом толпу и протягивает к зевакам руку. Просит или требует? Конечно, требует. Даже если просит. Где это видано, чтобы завоеватель просил что-то у побеждённого. Вон каким превосходством пышет его калёное лицо!
Из толпы иудеев выныривает какая-то фигура. Ба! Да это опять купец. Выходит, и тут впереди всех оказался. Шустрый, однако! И чего это он нащупал в своей дорожной суме? Ага! Какую-то алую ткань. Разворачивает, протягивает ромею. В позе торгашеская подобострастность, на лице верноподданническое выражение. Начальник стражи благосклонно кивает. Алое покрывало переходит из рук в руки. Начальник стражи возвращается к осужденному, накидывает покрывало ему на плечи, другой легионер опоясывает его грубым волосяным жгутом. Снова доносится команда. На голову несчастного что-то надевают. Варавва приглядывается. Терновый венец. По впалой щеке ползёт тёмная струйка. Шипы накололи висок, и по лицу обречённого течёт кровь. Это не первая его кровь, судя по ссадинам. И, надо думать, не последняя…
Начальник стражи указывает на осуждённого, а потом воздевает руку к небу. Его голос не достигает Вараввы – ему вторит уже загоревшаяся от вида крови толпа:
– Царь Иудейский! Царь Иудейский!
Новый жест ромея – властная отмашка к земле – обрушивает толпу на колени.
– Царь Иудейский! Царь Иудейский!
Кто-то в охотку глумится над несчастным. На плечах багряница, на челе венец – чем не царь! Кто-то запаздывает преклонить колена, не одобряя того, что происходит, однако судьбу искушать не смеет.
Варавве не жаль бедолагу, который осуждён вместо него. Его, Варавву, никогда не жалели, ни в детстве, ни в юности. Единственно, о чём он думает, становясь мысленно на место жертвы, что его не стали бы обряжать царём. Ему бы руку скорее отрубили, чтобы поглумиться, или ногу, чтобы стало смешнее.
«Царю Иудейскому» подносят чашу. Он отказывается. Варавва качает головой – глупец. В чаше вино, смешанное со смирной. Его дают перед казнью, чтобы осужденный не испытывал страха и не столь страдал от мучений. А так только хуже будет. Ромеи не любят строптивых. Тебе ли, убогому, тягаться с ними!
Ответ следует без промедления – над головой жертвы взвивается бич. Он со свистом обрушивается на его плечи – несчастный падает наземь. «Ну что, дождался?!» – сплёвывает Варавва. Бич-флагрум взвивается снова. И снова падает на спину невинного. Потом еще раз, еще…
Ликтора – тюремного палача среди ромеев нет. Легионеры бичуют жертву сами. Полосуют неумело и грубо, но при этом бахвалятся друг перед другом, подзуживают один другого.
Флагрум в руке молодого ромея. Варавва узнает его. Это тот самый молокосос, который сторожил его в застенке. Где, интересно, его щит? Молодой ромей замахивается, охвостье бича путается, но цели всё-таки достигает, потому что плечи обречённого вздрагивают.
О, этот бич! Кто-кто, а Варавва не однажды испытал пагубу этой десятихвостки. Язвы навек запеклись на его спине. И не от пластин даже металлических, а от тех дроблёных бычьих костей, что вплетены в охвостье бича. Металл оставляет кровоподтеки, а осколки пронизывают, кажется, до самого нутра.
Бич уже не свистит, а чвякает, напоённый волглой пеной. Варавва выглядывает среди ромеев старшего. Стоило ли накидывать на этого бедолагу багряницу? Тот белый хитон мигом окрасился бы в тот же цвет. Или решили скрыть, чтобы не дразнить толпу? Или белого хитона стало жалко? Варавва отыскивает в толпе купца. Тот ловит взглядом кусок оборванной алой ткани. В позе его сокрушение. «А ты как хотел?!» – презрительно усмехается Варавва.
Бич больше не взлетает. Наступает заключительная стадия. Легионеры подходят к кресту, опрокидывают его на землю. Потом берутся за осуждённого. Один ромей подхватывает его тело под мышки, другой за ноги. Два-три шага – и они опускают несчастного на крестовину.
Что там творится дальше, разглядеть трудно – легионеры заслоняют обзор… Но по стукотку и звяканью Варавва догадывается, что заколачивают гвозди. Проходит минута-другая, стук затихает. Крестовину начинают поднимать. Кто-то из ромеев пробует взять на плечо, кто-то – в обхват на уровне живота. Этот разнобой приводит к неразберихе. Старший машет, велит отставить, командует, как надо браться. Четверо легионеров – по двое с обеих сторон – обхватывают перекладину и тянут крест волоком. Достигнув уровня двух распятий, они останавливаются. Комель креста, волочащийся по земле, неожиданно срывается вниз. Там яма. О! Выходит, её заранее выкопали. Выходит, этот бедолага всё равно был обречён. Из них троих один был бы помилован, а этот всё равно бы здесь пал. Разыгрывали над ним суд, а на деле уже и приговор заранее вынесли.
Крест медленно вздымается к небу. Взгляд Вараввы, до того следивший за суетой солдат, обращается к распятому. Окровавленные стопы, распухшие лодыжки, посиневшие голени, разбитые колени, дальше лохмотья набедренной повязки. Как ясно и чётко всё видно. Словно не издали, а вблизи. Кажется, протяни руку – и коснёшься… Вот впалый живот, вот частокол рёбер, вот грудь. Грудь сплошь иссечена флагрумом. Значит, лупцевали прямо по сердцу. Глаза Вараввы скользят выше. Ключицы, сломленная безвольно шея, подбородок, бескровные губы. Рот изломан страданием. Ни злобы, ни ненависти на губах нет. Одно страдание.