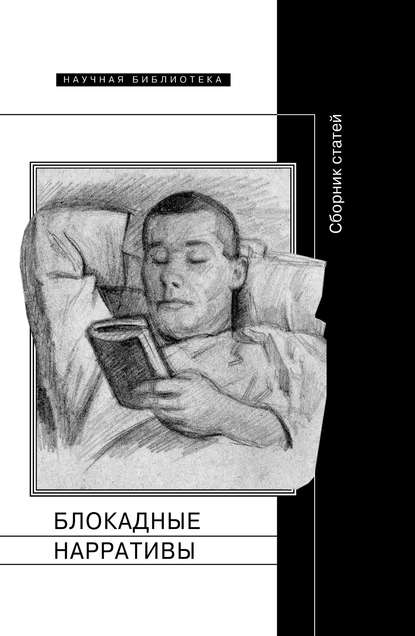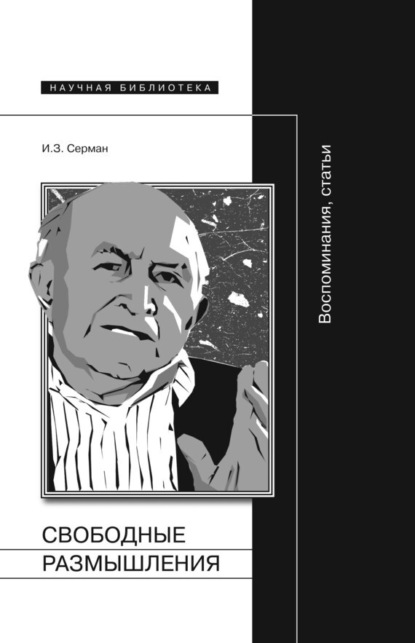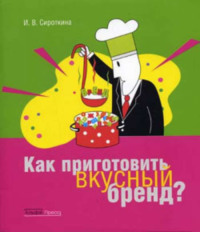Полная версия
Свободный танец в России. История и философия
Не менее горячо Дункан встретили передовые люди театра, режиссеры-новаторы, и первый из них – Константин Станиславский. Об их романе ходили сплетни и легенды. Но соединились Дункан и Станиславский исключительно на почве искусства, как художники-единомышленники. И еще: танец Айседоры повлиял не только на реформу балета, но и на преподавание сценического движения драматическим актерам, и на роль музыки в театре.
Дункан и Станиславский
В первый свой приезд в Россию Айседора дала только два концерта в Петербурге. Первый ее вечер, 13 декабря 1904 года, описывали много раз[50]. Зал Дворянского собрания[51] полон, сцена завешена серо-голубыми занавесами, пол затянут зеленоватым сукном. В императорской ложе – великая княгиня Мария Павловна и великий князь Владимир Александрович, главные покровители искусств в императорской фамилии. Среди публики – Михаил Фокин и Сергей Дягилев, Александр Бенуа и Лев Бакст, артисты балета, литераторы. Перед ними – молодая женщина в простой тунике под аккомпанемент одного рояля танцует Шопена. Во второй вечер, 16 декабря, Дункан показала в Зале Дворянского собрания программу «Танцевальные идиллии» и вернулась в Берлин.
Однако почти сразу за первым последовало ее второе турне: на этот раз Айседора выступила не только в Петербурге, но и в Москве, и Киеве. Вот тогда, в январе – феврале 1905 года, она и познакомилась с труппой Художественного театра. «Насколько балет привел меня в ужас, – вспоминала Айседора, – настолько же театр Станиславского исполнил меня энтузиазмом. Я отправлялась туда каждый вечер, когда сама не была занята в концерте, и вся труппа встречала меня с величайшей любовью»[52]. Восхищение было взаимным. «Увлекались мы тут Дункан, – сообщала О. Л. Книппер-Чехова брату. – Она смотрела у нас „Вишневый сад“ и была в восторге; была у меня в уборной, и я к ней ходила на другой день. Ты знаешь, она удивительно освежающе действует, какая-то она вся чистая, ясная, ароматичная и настоящая»[53].
Станиславский впервые увидел Дункан на концерте 24 января 1905 года. Как и многие другие зрители, он был «очарован ее чистым искусством и вкусом»[54]. Но его впечатления шли дальше очарования ее грацией, молодостью, живостью и свободой. Станиславский смотрел на Айседору как профессионал и сразу разглядел в ней серьезную артистку. Он записывает в дневнике: «Вечером смотрел Дункан. Об этом надо будет написать»[55]. Он столкнулся с чем-то, требующим осмысления, а главное, с чем-то очень близким ему самому, находящимся в зоне его собственных поисков. Потребность видеть Дункан, рефлектировал он позже, диктовалась изнутри артистическим чувством, родственным ее искусству. В разговорах с ней и о ней со своими коллегами из Художественного театра Станиславский отмечал: «Мы ищем одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства»[56].
Станиславский «не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде»[57], то есть зимой 1904/1905 года. Их личное знакомство состоялось, по-видимому, в декабре 1907 года, когда Дункан заключила контракт на полугодовое турне по России. Когда она давала концерты в Москве, Станиславский добился (беспрецедентный случай!), чтобы ей предоставили для выступлений сцену Художественного театра. Здесь в канун Нового, 1908 года состоялись два ее утренника[58]. Между Станиславским и Дункан сразу возникло взаимное уважение, восхищение талантом друг друга и – взаимное увлечение. Илья Шнейдер в 1908 году увидел их вместе в экипаже, когда те подъезжали к Художественному театру: «Они держались за руки, смотрели друг другу в глаза и улыбались: он – смущенно, она – восторженно и как бы удивленно»[59]. Станиславский чувствовал себя помолодевшим, окрыленным; в разгар зимы он забрасывал Айседору букетами[60]. Две недели общения наэлектризовали обоих. Первой не выдержала Айседора:
Как-то вечером я взглянула на его прекрасную, статную фигуру, широкие плечи, черные волосы, лишь на висках тронутые сединой, и что-то восстало во мне против того, что я постоянно исполняю роль Эгерии[61]. Когда он собирался уходить, я положила ему руки на плечи и, притянув его голову к своей, поцеловала его в губы. Он с нежностью вернул мне поцелуй. Но принял крайне удивленный вид, словно менее всего этого ожидал. Когда я пыталась привлечь его ближе, он отпрянул и, недоуменно глядя на меня, воскликнул:
– Но что мы станем делать с ребенком?[62]
После этого случая Станиславский больше не рисковал заходить к ней в гримерную, а когда все-таки согласился поужинать в ресторане, то, несмотря на водку, шампанское и отдельный кабинет, вел себя столь безупречно, что бедная Айседора окончательно поняла: «только Цирцея могла бы разрушить твердыню добродетели Станиславского»[63]. Дункан завершает свой рассказ горьким размышлением (отсутствующим в русском переводе ее книги):
Я часто слышала о страшной опасности, которой подвергаются молодые и красивые девушки, поступающие на сцену. Тем не менее на примере моей карьеры, как она складывалась до этого момента, читатель может понять, что дело обстояло как раз наоборот. На самом деле я страдала от слишком большого преклонения, уважения и восхищения, которые внушала своим поклонникам[64].
Однажды Станиславский показал Мгеброву «исписанные крупным почерком листы», закапанные слезами – знак «глубокого раскаяния» артистки: Дункан писала ему о том, что «с того момента она поняла все <…>, что теперь она заживет новою жизнью, что я показал ей настоящий путь художника, что отныне она перестанет быть легкомысленной, и прочее»[65]. Станиславский увещевал Айседору оставить пирушки и посвятить себя работе: «Умоляю Вас: трудитесь ради искусства»[66]. Та послушно отвечала: «Я продолжаю работать с радостью»; «Я продолжаю работать и надеюсь на Вашу дружбу»; «Всю прошлую неделю я работала – с утра до вечера каждый день»; «Думаю о Вас. Работаю целый день, не скучаю»[67].
В январе и феврале 1908 года Айседора выступала в Петербурге; в это время она и Станиславский обмениваются множеством писем и телеграмм. Он продолжает наставлять, а она не теряет надежды на встречу. Дункан то зовет Станиславского приехать и даже прибегает для этого к посредничеству близкого к нему А. А. Стаховича, то телеграфирует Станиславскому: «не знаю, надо ли вам приезжать», то вновь зовет провести с ней уикенд на водопаде Иматра в Финляндии[68]. В ответных письмах Станиславский осторожен, как и в своих поступках: он тщательно редактирует фразы, которые могли бы быть истолкованы как малейший намек на флирт[69]. Однако, когда вместо очередного приглашения увидеться он получает телеграмму, которую прочитывает как отказ, то не может скрыть своей грусти и легкой ревности:
Увы! Мы больше не увидимся, и я спешу написать Вам это письмо потому, что скоро у меня не будет Вашего адреса. Благодарю за мгновения артистического экстаза, который пробудил во мне ваш талант. Я никогда не забуду этих дней, потому что слишком люблю Ваш талант и Ваше искусство, потому что слишком восхищаюсь Вами как артисткой и люблю Вас как друга.
Вы, может быть, на некоторое время нас забудете, я не сержусь на Вас за это. У Вас слишком много знакомых и мимолетных встреч во время Ваших постоянных путешествий.
Но… в минуты слабости, разочарования или экстаза Вы вспомните обо мне. Я это знаю, потому что мое чувство чисто и бескорыстно. Такие чувства, надоедливые порою, встречаются не часто[70].
Дункан привезла детей в Россию c целью найти поддержку для своей школы, требовавшей постоянных средств[71]. Она мечтала, чтобы школа существовала при Художественном театре, и убеждала Станиславского, что учиться свободному танцу во взрослом возрасте бесполезно – желание танцевать надо взращивать с детства. Отчасти поэтому, когда в следующий свой приезд в Москву Айседора увидела в труппе МХТ «несколько красивых девушек <…>, которые пытались танцевать», то назвала результат «плачевным»[72]. Станиславский в принципе с ней соглашался и взялся хлопотать о школе: разговаривал с В. А. Нелидовым[73], добился у В. А. Теляковского согласия принять Дункан и потом инструктировал ее, как держаться с директором императорских театров[74]. Кроме того, он составил проект и даже смету гастролей Дункан с детьми[75].
Теляковский после концерта Айседоры отмечал в дневнике, что она «на всех, несомненно, произвела впечатление <…> Все заговорили о классическом древнем балете Греции, Рима, Индии, Китая и других стран»[76]. Айседора отправилась к нему сразу после приезда в Петербург. После разговора о своей школе она попросила Теляковского показать ей балетное училище. Это и было сделано, а позже устроены показательные выступления: сначала танцевали дети хореографического училища, затем – ученицы Дункан[77]. Однако с устройством школы так ничего и не получилось. «Императорский балет в России пустил слишком крепкие корни» – объясняла Айседора, – и потому здесь «еще не наступил день для свободных движений тела»[78].
Весной 1909 года в России оказались и Айседора, и Гордон Крэг, для которого Дункан добилась приглашения ставить в Художественном театре «Гамлета». Их живой интерес к системе Станиславского поддержал режиссера морально, однако двухнедельная «дунканиада с танцами» его утомила. С Айседорой они «плясали до 6 часов утра каждый день», а с Крэгом ежедневно по семь часов говорили «об изгибах души Гамлета на англо-немецком языке»[79]. Однако и после этого Станиславский не потерял ни живого интереса, ни теплого чувства к Дункан. После недолгой разлуки они опять встретились, на этот раз – в Париже. «Завтра Париж и Дункан!!! – пишет он в предвкушении Л. А. Сулержицкому. – Интересно, какая она в Париже? Интересно посмотреть и школу»[80]. Однако к тому моменту Дункан стала подругой миллионера Париса Зингера[81]. Увидев ее в Париже, Станиславский был неприятно поражен: Айседора «неузнаваема, подделывается под парижанку»[82] (по-видимому, для него это было бранным словом). Его оттолкнул буржуазный быт артистки: «Греческая богиня в золотой клетке у фабриканта, Венера Милосская попала среди богатых безделушек на письменный стол богача вместо пресс-папье. При таком тюремном заключении говорить с ней не удастся, и я больше не поеду к ней»[83]. Станиславский, по-видимому, временно забывает, что ведь и сам он – фабрикант. Вместо этого в голову ему закрадывается мрачное подозрение: «Неужели она продалась или, еще хуже, неужели ей именно это и нужно? <…> Как жаль, если Дункан – американская аферистка»[84]. Однако следующая встреча проходит много лучше: Айседора вновь «мила, как в Москве»[85], а богач Зингер перестает казаться Станиславскому заносчивым. Тем не менее он прощается с Дункан и бежит из «развратного» Парижа.
В марте 1910 года Станиславский получает письмо от Дункан из Каира. Айседора с Зингером совершают круиз на яхте по Нилу, и она вкладывает в конверт несколько открыток и фотографий, в том числе снимок ее дочери Дидры – та очень понравилась Станиславскому в Париже. Он тепло отвечает Айседоре и спрашивает ее о новой программе[86]. В ответ он получает известие о том, что ее «новая программа» лежит рядом с ней в колыбельке – это ее и Зингера сын Патрик, появившийся на свет 1 мая (по новому стилю). В декабре 1912 года Дункан пишет Станиславскому, что «стосковалась по России», «хочет видеть Кремль» и просит помочь устроить ей турне в России. Она также сообщает, что ее брат Августин, американский актер и режиссер, едет в Москву подписать ее контракт. В Москву Дункан приезжает в самом начале 1913 года и успевает увидеть (16 января) одно из последних представлений «Гамлета»[87].
Узнав о трагической гибели детей Дункан в Париже 19 апреля 1913 года, Станиславский шлет ей телеграмму: «Если изъявление скорби далекого друга не ранит Вас в Вашем безмерном страдании, позвольте выразить отчаяние перед немыслимой поразившей Вас катастрофой»[88]. В попытке бороться с тяжелой депрессией Дункан открывает новую школу – храм искусств «Дионисион» – в предместье Парижа Бельвю, в здании, которое предоставил в ее распоряжение Зингер. В апреле 1914 года четыре ее ученицы (которых она после гибели собственных детей удочерила) – Ирма, Анна, Лиза и Тереза Дункан, в сопровождении брата танцовщицы Августина Дункана и его новой жены Маргериты едут в Россию. Цель поездки – отобрать десять детей в школу Дункан. 30 апреля ученицы выступили с демонстрацией упражнений и этюдов в гостинице «Астория»: среди гостей «сиял своей красотой и благожелательностью Константин Сергеевич Станиславский. Он пришел с громадным букетом разных белых цветов. Девушки положили его на пол и танцевали вокруг него»[89]. 11 мая ученицы дали концерт в петербургском Театре музыкальной драмы. В Москве они не смогли найти театр для выступлений и отправились в Киев. По их счастью, Художественный театр тоже выехал туда на гастроли, и Станиславский помог девушкам устроить несколько вечеров и даже, когда старые номера были исчерпаны, поставить новые: «Пришлось среди всех своих дел режиссерских, актерских помогать этим детям. Я расскажу им, что, по-моему, здесь в звуках изображено, они сымпровизируют, я отберу, что хорошо. Так две программы поставил… А вот классический балет я бы никак не сумел ставить, не взялся бы». Режиссер прекрасно понимал дух свободного танца, отличающегося как от классической хореографии, так и от драматической пантомимы.
Когда в 1921 году Айседора приняла решение приехать в страну большевиков для устройства там школы, она, по-видимому, рассчитывала на поддержку старого друга. В телеграмме, посланной с дороги, из Ревеля, она просит Станиславского встретить ее на вокзале. По той или иной причине он на вокзал не пришел, но первым посетил Дункан, когда ее поселили на квартире балерины Екатерины Гельцер, уехавшей на гастроли. Старым друзьям было что рассказать друг другу. Станиславский начал говорить о тех перипетиях, которые выпали на долю его и театра. Однако Айседора не дослушала его до конца. Настроена она была самым революционным образом: «Либо вы должны признать, что ваша жизнь подошла к концу, и совершить самоубийство, либо <…> начать жизнь снова и стать коммунистом»[90]. Через несколько дней Станиславский позвонил, чтобы пригласить ее на свою постановку – оперу «Евгений Онегин». Когда после спектакля он поинтересовался ее впечатлением, Айседора заявила, что опера как театральная форма ее никогда не интересовала и что сюжет «Евгения Онегина» слишком далек от современных событий и слишком сентиментален – для трактовки в такой реалистической манере. За глаза Дункан называла Станиславского «un vieux gaga».
То ли из‐за этих разногласий, то ли из‐за того, что у Айседоры начался роман с Есениным, Станиславский теперь ее сторонился. Она с грустью упрекала старого друга, что тот не пришел ни на одно из выступлений ее московской школы. Тем не менее на диспуте «Нужен ли Большой театр?» 10 ноября 1921 года Станиславский встал на защиту Дункан (и Большого театра). Там Айседору раскритиковал Мейерхольд, когда-то восхищавшийся босоножкой. Отстаивая Дункан, Станиславский говорил о ее тонком художественном чутье, большом значении для развития балета, о яркости и жизнеутверждающей силе ее творчества. В декабре 1922 года Станиславский побывал на концерте студии Дункан в Париже, а летом 1925 года, оказавшись в Астрахани, присутствовал на выступлении ее московской школы[91]. И все же прежней близости между ними уже не было. В последний год жизни Станиславского художник Н. П. Ульянов писал его портрет. Во время сеансов он пытался развлечь старца беседой:
Я пробовал говорить о Сальвини, Дузе, о которых он всегда любил говорить и вспоминать с большим интересом, но все проходит как бы мимо него. Упоминаю Айседору Дункан.
– Авантюристка, – он произносит это слово бескровными губами, устремив глаза в тетрадь[92].
«Мгновения артистического экстаза», когда-то вызванные танцовщицей, в памяти Станиславского потускнели, и «дунканиада» казалась ему теперь странным эпизодом его жизни. Но позволим себе предположить, что в каком-то дальнем уголке его души сохранялся восторг при виде легконогой плясуньи, испытанный им в 1908 году. Тогда танец Дункан подсказал режиссеру секрет высшей простоты, стал синонимом «внутреннего мотора», «души» актера. Айседора утвердила его и в намерении сделать своих актеров ловкими и пластичными, и – возможно – впустить в свои спектакли музыку, превратив ее из аккомпанемента в действующее лицо.
Глава 2
Сделать то, что велит музыка
На рубеже XIX и ХХ веков музыка стала синонимом страсти и способом выражения самых глубоких чувств. Для придания своему танцу большей выразительности Дункан стала брать музыку серьезную, которая ранее не считалась танцевальной, дансантной. У нее, по мнению современников, «пустоту старой балетной музыки заполнила эмоциональность Глюка и Шопена, пафос греческих хоров и подъем Шестой симфонии Чайковского»[93]. Никогда еще в театре танца музыка не была поставлена на такую высоту; использовать ее эмоциональную силу стало частью эстетической программы свободного танца. А вместе с этим вновь встали вопросы о природе этой силы – почему музыка так действует на человека? и что значит – соединить ее с движением?[94]
«Великое и страшное дело»
Под влиянием музыки Лев Толстой бледнел и менялся в лице – до выражения ужаса[95]. Чрезвычайно музыкальный – он сам играл, слушал знаменитых исполнителей – Толстой всерьез задумывался над загадкой этого вида искусства. Он, конечно, знал слова Шопенгауэра о музыке как «стенографии чувств». Но в глубине души у него «все-таки оставалась некоторая доля недоумения: Que me veut cette musique? [Чего хочет от меня эта музыка?] Почему звуки так умиляют, волнуют и раздражают?»[96]
Те же самые вопросы мучают героя его «Крейцеровой сонаты»:
Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего, собственно, не чувствую, что понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу… И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился. Тоже музыка дошла; а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует[97].
Музыка настолько раздражает чувства героя, что приводит его к безумию и убийству. В страхе перед ее иррациональной властью он предлагает учредить над музыкой «государственный контроль, как в Китае, чтобы не давать возможности безнравственным раздражениям овладевать нами»[98]. Как известно, о музыке, как мощной и потенциально опасной силе, писал еще Платон, советуя поставить ее на службу государству и «установить, путем твердых законов, бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему»[99].
В попытке объяснить иррациональную силу музыки Толстой проводит аналогию с гипнозом: «Музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося»[100]. И действительно, в то время гипнотизеры на своих сеансах часто использовали музыку с целью вызвать ту или иную эмоцию. А гипноз тогда считался таинственным и чрезвычайно опасным средством. Сближение музыки и гипноза заставляло – и не только Толстого, но и врачей – бояться за душевное здоровье тех, кто музыкой увлекался. Некоторые даже опасались, что чрезмерное увлечение музыкой перерастет в «психическую эпидемию». «Укажите мне ту интеллигентную семью, где бы не раздавалась музыка – игра на рояли, на скрипке или пение, – писал невролог Г. И. Россолимо. – Если вы мне укажете на таковую, я в ответ назову вам также дома, где инструмент берется с бою, особенно, если в семье преобладает женский пол»[101]. Подобно герою «Крейцеровой сонаты», Россолимо предлагал ввести «медико-психологическую нормировку эстетического воспитания»: исключить из школьной программы «некоторые виды современного вырождающегося искусства», запретить детям посещение театров и участие в любительских спектаклях, а музыкальное образование ограничить хоровым пением. Однако сам доктор был страстным любителем музыки и часто устраивал у себя дома импровизированные концерты. Однажды у него гостил скрипач-виртуоз Адольф Бродский. Хозяин приготовил ему сюрприз – достал на вечер несколько скрипок Страдивари; растроганный теплым приемом, Бродский много играл – в том числе «Дьявольские трели» Тартини.[102] В тот вечер и сам врач, и его гости, должно быть, особенно остро ощутили дьявольское наваждение музыки – ее, говоря словами «Крейцеровой сонаты», «великое и страшное дело».
Задолго до Толстого вопрос о том, почему музыка «раздражает» чувства, задавал Готхольд Эфраим Лессинг. Он думал, что это происходит из‐за отсутствия в музыке «гармонической плавности» и внезапных перемен настроения:
Вот мы предаемся трогательной меланхолии и вдруг приходим в озлобленное состояние. Как? Почему? Против кого? Всего этого музыка не может выяснить; она оставляет нас в этом отношении в неизвестности и в тумане… Мы ощущаем как во сне; и все эти бессвязные ощущения больше утомляют слушателя, чем доставляют ему наслаждение[103].
Лессинг сравнивал музыку с поэзией, и сравнение выходило в пользу последней. В отличие от музыки, действующей как гипноз – в обход сознания и воли, – поэзия обращается к осознанным, произвольным и общезначимым чувствам читателя, к аффектам его души. Она «никогда не позволяет нам потерять нить наших ощущений; тут мы не только знаем, какое чувство мы испытываем, но также – и почему испытываем его». Только при этом условии, считал Лессинг, «внезапные переходы от одного настроения в другое не только терпимы, но даже приятны». Музыкальное произведение, таким образом, только выиграет, если добавить к нему слова. Поэтический текст мотивирует перемену чувств и свяжет противоречивые состояния «при помощи отчетливых понятий, которые могут быть выражены только словами». Опредмечиваясь в поэтических идеях и образах, музыка перестанет раздражать слушателя своими внезапными переменами настроения и принесет ему, наконец, высшее удовольствие.[104] Лессинг здесь также неявно цитировал Платона, считавшего в музыке важным, прежде всего, слово, затем – ритм и только после этого – звук. Принесет пользу только музыка, положенная на слова; музыки как демонстрации технической виртуозности, чисто инструментальной Платон не признавал, находя «отдельно взятую игру на флейте и на кифаре… безвкусной и достойной лишь фокусника»[105].
Но опредметить музыку можно не только словами. В «Крейцеровой сонате» Толстой писал, что напряжение, вызванное музыкой, разрешается в действии – марше, молитве или пляске. Цитируя его, Выготский спрашивал: «Если военный марш разрешается в том, что солдаты браво проходят под музыку, то в каких же исключительных и грандиозных поступках должна реализоваться музыка Бетховена?»[106] Великая музыка должна была найти не менее талантливое, а главное – действенное физическое воплощение. Платон рекомендовал обучать музыке не иначе, как в сочетании с гимнастикой: первая влияет на душу, размягчая и изнеживая ее, вторая – действует на тело, воспитывая в человеке силу и мужество. На вопрос Толстого – что делать, чтобы «музыка дошла»? – создатели нового танца отвечали: надо передать ее движением, соединить с жестом. По поводу же того, как именно соединить, имелись разные мнения. Одни предлагали вернуться к первоначальному единству музыки, слова и жеста, характерному для античного театра, другие – реализовать программу Платона о сочетании мусического и гимнастического воспитания. Так в начале ХХ века вновь появились «орхестика» и «ритмика».
Хорея, орхестика, ритмика
В Древней Греции поэзия, или распевная речь, музыка и танец относились к мусическим искусствам – μουσική и практиковались только вместе – в театре, в виде песни-пляски, или хореи. Возврат к синкретическому единству мусических искусств, их новый синтез и в конечном счете создание современного Gesamtkunstwerk стало мечтой театра рубежа XIX и ХХ веков.
Первый путь – исторической реконструкции хореи, или того первоначального единства, в котором мусические искусства пребывали в античном театре, – был особенно сложным. В отличие от скульптуры или живописи, мусические искусства – это не собственно произведения, а сама человеческая деятельность, которая предшествует произведениям и из которой они возникают.[107] И если некоторые произведения-объекты – картины или статуи – дошли до нас почти в неприкосновенности, то о художественной деятельности мусических искусств известно гораздо меньше. Тем заманчивее казалась мысль каким-то образом эти последние восстановить, воспроизвести.
По словам Роджера Бэкона, возвращающего античную традицию хореи, «пляска и все изгибы тел сводятся к жесту, который есть корень музыки, ибо он находится в соответствии со звуком благодаря сходным движениям и надлежащим конфигурациям»[108]. Если принять, что античная поэзия началась с отбиваемого ритма, то можно попытаться прочесть ее как своего рода запись танца или инструкцию по созданию звуков и жестов – например, реконструировать движения, «закодированные» в поэмах Гомера или в античных трагедиях и комедиях. Еще в 1903 году Айседора Дункан задумала поставить трагедию Эсхила «Просительницы» с хором – поющим и пляшущим. Для хора она наняла десять греческих мальчиков, чтобы найти музыку, слушала византийские гимны и консультировалась с греческим священником, а движения пыталась восстановить на основе сохранившихся вазовых и скульптурных изображений. Довольно скоро, однако, она поняла, что это слишком сложная для нее задача; практические трудности положили конец ее греческому эксперименту[109].