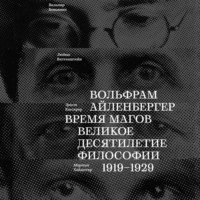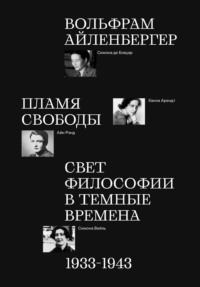Полная версия
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
Невозможно дать на этот вопрос непротиворечивый ответ. Ведь цирюльник либо стрижет себе волосы не сам и, значит, по определению принадлежит к множеству людей, которым он стрижет волосы. Но если он стрижет себя сам, то тем самым нарушает заданное определение множества – «стрижет волосы всем тем и только тем в Чизуике, кто не стрижет себя сам». Предположение, что чизуикский цирюльник просто лысый, это, конечно, милая шутка, но она совершенно не разрешает неизбежно при этом возникающие сложности и противоречия теории множеств.
Таковы «коротко стриженные» философско-языковые доводы Витгенштейна в пользу того, что мир, коль скоро он определен как «совокупность фактов», сам никак не может быть фактом. Но если сам мир не есть факт, то – согласно «Трактату» – не может быть и наделенных смыслом суждений о состоянии мира как целого, даже суждений типа «В мире имеются три вещи». А равно и суждений типа: «Мир существует». Или: «Мир не существует».
Стало быть, несмотря на все размахивания Рассела листком бумаги в гостиничном номере, не существует возможности осмысленно сказать, что в мире имеются по меньшей мере три вещи. Впрочем – и для Витгенштейна это решающий момент, – в данном случае содержание этого суждения может быть вполне отчетливо и бесспорно показано как истинное, благодаря тому простому факту, что на листке находятся три кляксы. Где же тут, дорогой Бертран, все-таки заключена твоя проблема? Или ощущаемое тобой ограничение? Всё, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно и непротиворечиво.
Рассел на лестнице
Но как раз с подобным ограничением смысла Рассел в Гааге примириться не желает. В пользу своего нежелания он может привести вполне наглядный и кажущийся неопровержимым контраргумент, а именно: философский трактат Витгенштейна, в соответствии с проведенными в нем границами между осмысленными и мнимо осмысленными суждениями, сам не может во многом не состоять из полностью бессмысленных суждений.
«Ведь что, дорогой мой Людвиг, спрашиваю я тебя, представляет собой суждение вроде „Мир есть всё то, что имеет место“, как не суждение о мире как целом?» На что Витгенштейн с полным душевным спокойствием мог бы ответить другу: «Вот это ты, дорогой Бертран, видишь совершенно правильно, и как раз на данное противоречие я сам настоятельно указал в двух последних тезисах моего трактата. Возьми и прочитай:
6. 54. Мои суждения уточняются следующим образом: тот, кто понимает меня, в конце концов признает их бессмысленными, когда проберется сквозь них, по ним, над ними. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взобрался по ней.)
Он должен преодолеть эти суждения, чтобы правильно увидеть мир.
7. То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием.
Понимаешь, дорогой Бертран, понимаешь? Моя книга, правильно понятая, не высказывает совершенно ничего наделенного смыслом, но она кое-что показывает. Как произведение она есть одно-единственное указующее действие, причем показывающее «другой мир», то есть другое видение мира – более ясное, более честное, менее искаженное, а равно удивляющееся, более скромное, безоснóвное, более осмысленное. Но прежде всего – более свободное, ибо в этом новом мире уже нет необходимости размышлять, прибегая к аргументам, об определенных вопросах, в особенности о философских вопросах, – ведь они признаны бессмысленными, и в этом качестве даже познаны на опыте. К примеру, это мир без утверждений о том, каков он есть «на самом деле». Если угодно, это мир без идеологий и идеологических подозрений.
Именно это более свободное ви́дение мира моя книга предлагает читателю. Ну, примерно, дорогой Бертран, как если бы я сейчас указал пальцем вон на то облако в небе и спросил тебя, видишь ли и ты в его форме льва, а теперь, смотри, оно больше похоже на дракона. Вон там пасть, а сзади хвост… видишь, видишь? Вон там – крылья, глаза, которые как раз закрываются от ветра… Но когда-нибудь, конечно, достигается точка, когда все объяснения и указания должны закончиться, когда ты попросту сам должен увидеть его и понять, когда оно просто должно показаться тебе самому… Точно в этом смысле я и написал в предисловии, что эта работа откроется лишь тому, «кто уже самостоятельно приходил к мыслям, в ней изложенным, – или, по меньшей мере, предавался размышлениям подобного рода».
Тщетно. Рассел просто не видел. Не понимал. Видел иначе, принципиально иначе, нежели Витгенштейн. С полным основанием, как ему казалось, он остановился уже на одной из первых ступенек Витгенштейновой лестницы и никак не желал двинуться дальше. «Витгенштейн стал совершеннейшим мистиком»[67], – подытоживает Рассел в одном из писем гаагские споры. В этом не было ошибки. Наоборот, он затронул нечто важное. Точно так же и Витгенштейн, вернувшись на Рождество 1919 года в Вену, испытывал ощущение, что хотя бы некоторые содержательные аспекты трактата сумел Расселу разъяснить. Но главное – Рассел, философ с мировым авторитетом, чьи книги прекрасно продаются повсюду, изъявил готовность написать короткое введение к работе своего давнего ученика. Хотя Витгенштейну и не удалось разъяснить другу центральное философско-языковое значение различения между «сказать» и «показать», он снова воспрянул духом. С предисловием Рассела шансы на продажу, а тем самым на публикацию его работы резко возрастают, о чем он и поспешил написать издателю Фиккеру. Правда, без желаемого успеха. Тот по-прежнему считал книгу абсолютно непродаваемой.
Почему мира не существует
Возможно, всё дело в том, что издатель сомневался, что кому-то еще, кроме горстки логиков и специалистов по теории множеств, будет интересен вопрос, наделены ли смыслом суждения о мире как таковом. В конце концов, не всё ли равно, ведь это просто тщеславный спор о словах? В соотнесенности с нашей конкретной повседневностью это предположение действительно может показаться убедительным. Однако, по крайней мере для самопонимания современной философии – и ее многочисленных проблем, считающихся центральными, – от этого вопроса зависит очень многое, в известном смысле даже всё. Достаточно вспомнить Декарта и его пронизавший всю философию Нового времени скептицизм относительно действительного существования этого мира в том виде, в каком мы его ежедневно переживаем и описываем, – или, может статься, это обман, созданный всемогущим демоном: существует ли мир вообще?
Звучит серьезно. Абсолютно экзистенциально. Однако трактат Витгенштейна разоблачает это основополагающее эпистемологическое сомнение как сугубо мнимый вопрос – поставленная проблема есть на самом деле классический пример бессмыслицы, – а потому ясно мыслящему человеку лучше к ней вообще не прикасаться. Ибо:
6.5. Когда ответ нельзя облечь в слова, вопрос тоже нельзя задать словами.
Тайны не существует.
Если вопрос может быть сформулирован, на него возможен ответ.
6.51. Скептицизм не неопровержим, но явно бессмыслен, когда пытается возбудить сомнения там, где невозможно задать вопрос.
Сомнение существует лишь там, где возможны вопросы, вопросы – лишь там, где возможны ответы, а ответы – лишь там, где нечто может быть сказано.
Итак, проблема исчерпана Витгенштейном. Не решена и не опровергнута. Нет, она исчерпана в том смысле, что отложена в сторону, поскольку признана ложной уже в самой постановке. Или вспомним другой, по времени куда более близкий, пример – Мартина Хайдеггера, когда зимой 1919 года он обжигает уши студенческой аудитории безусловнейшим из всех вопросов. И вопрос этот не о том, есть ли что-то (например, три кляксы на листке бумаги), а о том, есть ли «что-то вообще». Пожалуй, еще одна формулировка, звучащая поначалу осмысленно, но, в конечном счете, таковой не оказывающаяся. Что отнюдь не означает, будто Витгенштейн был совершенно глух к меняющей мир мощи, таящейся за хайдеггеровским вопрошающим импульсом. Напротив, разве он сам не написал в своем трактате:
6. 522. Есть в самом деле нечто, чего не передать словами. Оно проявляет себя. Вот что мистично.
6.44. Мистическое заключено не в том, как явлен мир, а в том, что он есть.
Как и Хайдеггер, Витгенштейн не перестает испытывать изначальное удивление, что нечто вообще есть. А в особенности – что это «нечто» показывает себя нам как непосредственно наделенное смыслом, даже истинное, достаточно лишь открыть глаза. Только вот Витгенштейн, не в пример Хайдеггеру, как раз не считал, что в полностью неискаженном вопросе о простой данности «чего-то вообще», а тем более этого мира, сокрыта философская тайна, чей подлинный смысл необходимо вновь заставить заговорить. По его убеждению, каждая попытка в этом направлении рано или поздно закончится языковой бессмыслицей, если не чем-нибудь похуже.
Под потоком
В те же сентябрьские дни 1919 года, когда в Людвиге Витгенштейне бушуют бури бессмыслицы, и он чувствует себя как бы отрезанным от других людей «закрытым окном», Мартин Хайдеггер переживает истинный взрыв творческих сил: «История, горизонты проблем, настоящие шаги плодотворных решений, принципиально новые способы ви́дения, возможности самых неожиданных формулировок и выражений, стремительное соединение подлинных комбинаций – всё это бьет ключом, просто бьет ключом, так что и физически, и по времени практически невозможно объять этот поток, удержать его, систематически исчерпать»[68], – пишет он жене во Фрайбург 9 сентября 1919 года из крестьянской усадьбы под Констанцем, куда на несколько недель уехал писать. Тем не менее, шварцвальдскому философу докучают тяжкие личные заботы. Его браку угрожает кризис. Всего несколько дней назад Эльфрида в письме призналась ему, что у нее роман с бывшим одноклассником. Зовут его Фридель Цезер. Он работает врачом в университетской клинике Фрайбурга. Отвечая в письме на это признание, Хайдеггер поначалу весьма горд и миролюбив. Далее он сразу же толкует обстоятельства как жизненно-философскую проблему, которую суждено разрешить ему и только ему:
Сегодня утром пришло твое письмо, а чтó в нем, я уже знал. Бесполезно говорить по этому поводу много слов и всё разбирать. Довольно, что ты сказала мне об этом в своей простой, уверенной манере. ‹…› что Фридель влюблен в тебя, я знал давным-давно ‹…› порой удивлялся, что ты не сказала мне раньше. ‹…› С моей стороны было бы простодушием и пустой тратой сил, если бы я хоть чуточку на него обиделся. ‹…›
Я уже пришел к проблеме общения как такового, которая особенно меня занимала в эти дни, когда я познакомился с новыми людьми. И вот что замечаю: по сути, все они мне безразличны – проходят мимо, будто за окном, – смотришь им вслед и порой когда-нибудь вспоминаешь ‹…› Великое призвание к вечной миссии всегда с необходимостью предполагает и обреченность одиночеству, и для сущности такого человека типично, что другие ничего о нем не знают – напротив, считают одинокого богатым, почитаемым, обожаемым, авторитетным и важным, а затем удивляются, когда с его стороны им достается безмерное пренебрежение (или полное отсутствие всякого внимания)[69].
Вот они опять – люди, которые проходят мимо, «будто за окном»! Все эти обыкновенные люди и слишком многочисленные массы, с которыми Хайдеггер не может или попросту не хочет установить настоящую связь. Люди, которые даже не подозревают о бушующих в нем творческих интеллектуальных бурях, люди, которых он в этой основополагающей духовной асимметрии должен отвергнуть, а значит, обидеть. Романтический образ великого одиночки, обреченного судьбой решать, самостоятельно и при этом неизбежно оставшись совершенно не понятым, свою сверхчеловеческую, на него одного возложенную проблему – гениальный отщепенец. Таково самопонимание Хайдеггера. И останется таковым на всю жизнь.
Замутненный взгляд
И отнюдь не метафорическая случайность, что Хайдеггер, отвечая Эльфриде, оживляет декартовский образ сомнения – сидящего за окном философа, которого сам ход его размышлений приводит к тому, что сомнительной оказывается даже человечность окружающих его людей. Влияние Декарта на философию Нового времени, как всё отчетливее сознает в этом году Хайдеггер, совершенно фатально: Декарт и его скептический мысленный эксперимент, Декарт, который установил мыслящего, а значит исчисляющего субъекта как первооснову всякой достоверности («я мыслю, следовательно, я существую»), Декарт, который свел философию к чистой теории познания, Декарт, полностью разделивший мир надвое – на дух и материю… Декарт – образцовый философский враг. Его мышление маркирует поворотный пункт, после которого в западной философии всё окончательно пошло вкривь и вкось.
«Вневременная задача», чьи очертания Хайдеггер в эти полные эйфории дни начала сентября 1919 года уже видит перед собой – то самое искусство «принципиально нового ви́дения» и прорыва в совершенно новые «горизонты проблем», – заключается не в чем ином, как в освобождении его страны, ее культуры, ее совокупной традиции от злой магии философии субъекта и теории познания Нового времени, от ее чистой исчисляющей рациональности и сосредоточенности на естественных науках. Он полагает, что его западные сородичи – все поголовно – находятся в плену фундаментально ложных подходов к миру и представлений о самих себе. Взгляд на действительность у них искажен безвопросным принятием ложной понятийности. Потому-то они могут воспринимать себя самих, мир и друг друга лишь крайне туманно, как бы сквозь матовое стекло.
Но мало того, что это прогрессирующее замутнение взгляда никто уже не замечает. Нет, за столетия такой взгляд на реальность настолько глубоко проник в наше культурное самопонимание, что даже трактуется как высочайшая и единственно истинная форма познания мира и задним числом вообще прославляется как подлинный прорыв на свет Просвещения! Словом, кошмарный сон, ставший реальностью!
Однако: коль скоро что-то есть кошмарный сон, то ведь ото сна можно пробудиться. Во всяком случае, уже к осени 1919 года Хайдеггер ощущает себя окончательно пробудившимся: он начинает самостоятельно и со всей последовательностью философствовать за пределами заданного Декартом каркаса теории субъекта и познания Нового времени. Отныне Хайдеггер размышляет, как теперь сказали бы, outside the box[70]. И его первый и главный тезис действительно звучит так: There is no box![71] Нет никакого изолированного внутреннего пространства опыта, которое словно стеклом отделяет мыслящего субъекта от так называемой реальности. Декартов скептицизм по отношению к внешнему миру, а равно и напрямую связанный с ним вопрос, как «на самом деле» устроена реальность, его абсолютное разделение субъекта и объекта познания – всё это, как снова и снова показывает Хайдеггер в ходе пристального феноменологического и непредубежденного рассмотрения, суть чисто мнимые проблемы и мнимые приниципы.
И более чем понятно, что в это прорывное лето Хайдеггер пишет Эльфриде: «Как ты раньше правильно отметила, я уже безусловно, причем с намного более широкими горизонтами и проблемами опередил его (Гуссерля)»[72], – и таким образом в критический кульминационный момент их брака обращается к жене как благородной спутнице на новом пути. Правда, всего несколькими строчками ниже он вновь выставляет себя одиноким мудрецом и ясновидцем. Несмотря на то, что сентябрьские письма Хайдеггера 1919 года читаются как полные надежды исповеди, он больше не уверен, сумеет ли вообще найти подлинно душевный, то есть любящий подход к ней. Что, если она уже на стороне других? Что, если выходец из крупной буржуазии Фридель Цезер, у которого с финансами намного лучше, увлек ее назад к общепринятому, то есть, подчиненному этикету и внешним проявлениям пониманию любви? Тут он больше ни в чем не может быть уверен.
Стало быть, он ищет и находит в эти дни единственную достоверность, доступную ему как человеку: достоверность труда, творчества, мышления. Ибо здесь ничто больше не расщеплено, нет больше щелей сомнения. Здесь всё едино. Всё – творческое кипение! Жаль только, что невозможно навеки остаться в этом магическом месте абсолютного эроса: когда-нибудь придется снова вернуться в мир Фриделя и Ко:
‹…› в этой абсолютной продуктивности есть опять-таки нечто жутковатое: работается как бы само собой (es schafft), и всё же чувствуешь себя полностью в это погруженным, особенно когда такое состояние отступает и приходит расслабленность, и снова возвращаешься в окружающий мир, вот тогда я знаю, что полностью и абсолютно был в себе, а главное, в объективном мире проблем и духа – здесь нет чуждости, здесь ничто не проходит мимо, вовне, ты сам идешь со всем этим, увлекаешь его за собой, – в творческой жизни всякая чуждость изчезла, но после тебя тем более разрывает и будоражит стояние на том берегу, в естественном окружающем мире…[73]
Стало быть, в эти дни у Хайдеггера всё в движении, всё в творчестве, прямо-таки в прорыве. Он говорит об этом – es schafft. О каком же «es» здесь идет речь? Конечно, не о том, что, согласно совсем новой на тот момент теории Зигмунда Фрейда о бессознательном, образует низшую ступень триады «сверх-Я – Я – Оно (Es)» и обеспечивает в управляемых инстинктом глубинах каждого субъекта его подлинную творческую динамику. Нет, Хайдеггерово «es» уже на этом раннем этапе его размышлений есть воздействие совершенно иного характера и категории. Это то самое жутковатое – или лучше сказать словами Витгенштейна: мистическое – «es», которое поистине проявляется лишь в вопросе о том, что есть как данность – «was gibt es?» Это «оно» находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта («полностью в себе и в объективном мире»), активности и пассивности («ты сам идешь со всем этим, увлекаешь его за собой», внутреннего и внешнего («здесь ничто не проходит мимо, вовне»)… Понятийно охватить это «es» отнюдь не легко. Даже Хайдеггеру. Однако опыт этой творческой первопричины всякого смысла и всякого бытия для него отныне неопровержим. Всю свою жизнь он будет искать для него язык.
Вместе в одиночестве
Сентябрьские письма Хайдеггера служат впечатляющим свидетельством того, насколько серьезно философ относится к своему сплаву философии и повседневности. Настолько серьезно, что, в конце концов, он проводит полную параллель между проблемами своего брака и своим философским проектом. Пожалуй, никто из философов так не делал: он приравнивает супружеские ошибки, допущенные его «современной» женой Эльфридой, к заблуждениям, в которых находится современная философия. Этой «золотой» философской осенью то и другое предъявляет Хайдеггеру экстремальные, прямо-таки высочайшие требования. Однако они делают его только сильнее и продуктивнее, поскольку в абсолютной жесткости столкновения дают ему возможность сделать то, что он ощущает своей подлинной миссией: беспощадно и абсолютно трезво пробиться к существенному, отбросить всё неподлинное, надуманное и притворное. На дворе 13 сентября 1919 года:
Я не обиделся на твое признание – как бы я мог, ведь мне ежедневно приходится абсолютно трезво переживать беспощадность и горечь познания ‹…› жизнь в ее первозданной мощи глубже и полнее познания, и вся наша философия еще больна тем, что позволяет уже познанным вещам предопределять свои дальнейшие проблемы – так, что они изначально искажены и отягощены парадоксами[74].
Видеть сквозь поверхностное, отбрасывать условности, бороться с фальшью, безоглядно проникать в суть вещей, повсюду добираться до подлинности. Конечно, после 1919 года так говорят многие. И отнюдь не только философы. Не в последнюю очередь все эти понятия (поверхностное, условность, кажимость, притворность) относятся в Германии к уже прочно укорененному в культурной сфере и всё обостряющемуся в послевоенный период антисемитизму.
Напротив, миссия Хайдеггера в это время еще не была отчетливо политической. Пока что ее радикальность, как показывает пример «вопрошающего переживания», ограничивалась внутренним пространством философских идей. В означенном случае она породила самый общий и свободный от всех содержательных предубеждений вопрос о подлинном смысле выражения «es gibt» («есть», «существует», «имеет место»).
Спросить проще, свободнее от условностей, обобщеннее, а главное, безусловнее, кажется, просто невозможно. И ответить тоже. Да, «здесь», как неоспоримо показано, что-то есть. Даже целый мир. И постоянное удивление его простым присутствием, здесь-бытием (Da-Sein) или данностью – это что угодно, но только не естественная, свободная от предпосылок установка по отношению к миру. Скорее, оно требует, как недвусмысленно подчеркивает сам Хайдеггер, специфической формы углубления или медитативного погружения, не имеющей ничего общего с повседневным и во многом неотрефлексированным модусом, с которым мы обычно идем по жизни и миру.
Два чудака
Представим себе в порядке эксперимента двух молодых мужчин, которые вместе гуляют по городу, – и один вдруг говорит другому: «Как странно, что вообще что-то есть! Как удивительно: там! и там! и вон там! Ты ведь тоже видишь!» А другой кивает и говорит: «Да, вижу. Оно и мне показывает себя. И знаешь, я всегда думаю: подлинно мистическое – это не каков мир, а то, что он вообще есть».
Вот ведь чудаки! И всё же такой диалог вполне могли бы вести в 1919 году Мартин Хайдеггер и Людвиг Витгенштейн. И с большой философской уверенностью можно допустить, что они бы прекрасно друг друга поняли. Только вот Хайдеггер затем охотно продолжил бы говорить и философствовать о смысле этого «есть». А Витгенштейн – наверняка нет. Ведь там, где один (Хайдеггер) предполагал подлинно открывающий вопрос, даже прорыв к истинно неискаженному познанию бытия, другой (Витгенштейн) видел лишь предсказуемую бессмыслицу и порожденные языком мнимые проблемы.
Опережая миры
Так или иначе, основную ошибку философии – по крайней мере, со времен Декарта – Хайдеггер после 1919 года усматривает как раз в том, что она приняла теоретическое отношение в качестве исходного и подлинного. Но именно это и ставит фактическую ситуацию с ног на голову и неизбежно создает целое гнездо теоретико-познавательных псевдопроблем, к числу которых в первую очередь относится картезианский скепсис относительно существования реальности в смысле этой внешней действительности. Ведь сама по себе такая постановка вопроса вытекает только из теоретической установки, а тем самым, по убеждению Хайдеггера (да и Витгенштейна тоже), попросту ложно помещена в философское пространство:
Спрашивать о реальности окружающего мира, по отношению к которому всякая реальность уже представляет собой многократно переформированное и перетолкованное производное, значит поставить все подлинные проблемы с ног на голову. Окружающее содержит в себе самом свое подлинное самоудостоверение. Настоящее решение проблемы реальности внешнего мира заключается в понимании, что это вообще не проблема, а нелепость[75].
Первично данное для Хайдеггера, стало быть, не эта реальность, но некий окружающий мир (Umwelt). И эта «мировая» реальность всегда уже есть изначально значимая тотальность связей, которые, если последовательно их прослеживать, в итоге указывают на совокупный мир смысла. Именно на этот специфический способ данности нам мира необходимо, по убеждению Хайдеггера, вновь обратить философский взгляд. Ведь мы на самом деле утратили и забыли и этот взгляд, и связанные с ним экзистенциальные озарения – с фатальными последствиями как для самих себя, так и для культуры в целом. Тот, кто, будучи человеческим присутствием (Dasein), считает изначальным лишь производный теоретический подход, отдаляется таким образом от мировой силы подлинно значимого. В 1919 году Хайдеггер называет это обусловленное всей нашей культурой отчуждение от подлинного и изначального «стиранием значимости» – значимости мира, других людей, собственной самости. Все они, если вновь прибегнуть к картезианской метафоре окна, воспринимаются только через матовое стекло теории. Стало быть, ложная жизнь в поддельном мире и в ложно обоснованной совместности.
Здесь в очередной раз становится ясно, до какой степени очерченная Хайдеггером программа феноменологического новообретения мира несет в себе конкретно-экзистенциальные характеристики: уже на этой ранней стадии его размышлений она порождает фундаментальную идеологическую критику современной технической эпохи с ее всеохватной логикой овеществления и превращения в стоимость. Начиная с Хайдеггера, эта критика откликается и в критических теориях ХХ – XXI веков – как выразился Теодор Адорно в своем самом, наверное, известном афоризме: «В ложном не может быть правильной жизни». Именно Хайдеггер, как никто, убежден в этом уже в 1919 году. Оттого-то, по его мысли, в качестве экзистенциального идеала требуется изначальное и непритворное, то есть подлинное «присутствие»! (Терапевтическое требование, которого Адорно и его последователи как раз не выдвигали.) Если оглянуться назад из нашего времени, можно отчетливо увидеть, что Хайдеггера с его философской программой просто нельзя не считать важнейшим провозвестником послевоенного немецкого экологического движения: целостность, осознанное отношение к окружающему миру, критика техники, связь с природой… Всё это – заложенные еще в 1919 году стержневые мотивы мышления, которое в своем воззвании к подлинности и непритворности во всех жизненных обстоятельствах открыто призывает к органичному укоренению и закреплению в окружающем мире, переживаемом в качестве исконного, сиречь: на родине, в родном ландшафте, в его обычаях, нравах, диалектах и во всем, что может сюда относиться. На самом деле полностью аутентичным человек может быть лишь в своем исконном месте, в своей среде. Для Хайдеггера таким местом, как известно, был Шварцвальд.