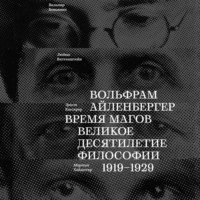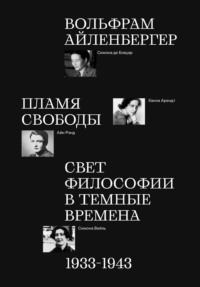Полная версия
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
В августе 1919-го Витгенштейн, конечно, уже не испытывает страха смерти. Его лишь терзают сомнения относительно подлинно решающего вопроса: находится ли для человека вроде него хорошая, наделенная смыслом, счастливая жизнь вообще в пределах достижимого? Уже 5 сентября 1919 года он приступает к осуществлению второго шага своей программы выживания. Став человеком совершенно неимущим, он поступает на годичные педагогические курсы на венской Кундмангассе, чтобы учительствовать в народной школе. Итак, больше никакой философии. Никогда!
Мартин Хайдеггер в ту пору ничего не знал о новой экзистенциальной программе Витгенштейна. Она бы могла поколебать его новые устои. Ведь он тоже только что вернулся с войны – и хотел только одного: философствовать.
Иные обстоятельства
«Трудно жить философом, – пишет вернувшийся с войны Мартин Хайдеггер 9 января 1919 года своему старшему другу и покровителю Энгельберту Кребсу. – Ведь внутренняя правдивость по отношению к себе и к тем, для кого станешь учителем, требует жертв, и отказов, и боев, которые научному ремесленнику всегда остаются чужды»[41]. Без сомнения, сказано всерьез. О себе, своем мышлении, своем пути. «Я верю, – продолжает Хайдеггер, – что философия – мое внутреннее призвание».
Комиссованный в первые годы войны по причине сердечного заболевания (собственный диагноз: «слишком много спорта в юности!»), в ее последние месяцы, с августа по ноябрь 1918 года, Хайдеггер служил метеорологом на фронтовой метеостанции № 414. Во Второй битве на Марне германскому вермахту для применения отравляющих газов были необходимы прогнозы наблюдательной метеостанции, расположенной на возвышенности. В самих боевых действиях Хайдеггер не участвует. Хотя наверняка следит в бинокль за тысячами немецких солдат, выбегающих из окопов навстречу верной смерти. В его личных записях и письмах ужасы войны не упомянуты. Если Хайдеггер и говорит в то время о «жертвах», «отказах» и «боях», то имеет в виду прежде всего свою университетскую и личную ситуацию.
Начиная с зимы 1917-го настоящий фронт для него проходит не в Арденнах, а в собственных четырех стенах. Это не национальный фронт и не геополитический, но конфессиональный. И в самом деле, католическому философу, получающему поддержку от церкви, «жить» – то есть сделать должностную карьеру – весьма тяжко. Особенно если он, как Мартин Хайдеггер, женится на протестантке, да еще и тайком, а главное, если эта женщина, вопреки прежним своим обещаниям, все-таки не хочет ни переходить в католическую веру, ни крестить по католическому обряду ребенка, которого носит под сердцем.
Открытые фланги
Ныне едва ли возможно представить себе, каким скандалом был межконфессиональный брак в 1919 году в узком жизненном и профессиональном окружении Хайдеггера. Особенно переживали его родители-ортодоксы, которых Мартин в трогательных письмах этих месяцев снова и снова заверяет, что, если разобраться, спасение душ их сына и их внука отнюдь не потеряно навсегда.
Итак, его брак создает проблему – а вскоре и сам становится проблематичным. Притом, что, женившись на Тее Эльфриде Петри, сын церковного служки Хайдеггер – по крайней мере чисто экономически – сделал прекрасную партию. Ведь его избранница, приехавшая в 1915 году во Фрайбург изучать политэкономию, происходит из состоятельной семьи из среды достаточно высокого прусского офицерства, – так что в последние годы войны родители жены не раз выручали молодую пару деньгами. По окончании войны, однако, Петри – как и миллионы немцев, они вложили свое состояние в военные займы – терпят тяжелые убытки и оказываются не в состоянии впредь поддерживать фрайбургскую семью[42].
Поэтому в ноябре 1918 года, вернувшись с фронта, Хайдеггер и финансово стоит на краю пропасти. Если он хочет дальше жить как философ, ему срочно требуется стабильный доход, то есть место, – а значит, нужен новый покровитель. От теологического факультета Фрайбургского университета приват-доцент, который, защитил свою диссертацию, получая церковную стипендиию, ожидать уже ничего не мог. В 1916 году его, в церковных кругах считавшегося пока незрелым, а вдобавок ненадежным, несколько раз, вопреки рекомендациям декана Кребса, демонстративно обошли при внутренних назначениях. Теперь оборвалась и эта последняя связь.
И свои университетские надежды во Фрайбурге Хайдеггер полностью возлагает на главу первой философской кафедры и подлинного основоположника и лидера так называемой феноменологии – Эдмунда Гуссерля. Однако Гуссерль – философ чисто научного направления – вызывает у мыслителя, связанного с религией, глубокие сомнения. Стало быть, на первых порах Хайдеггеру в его стремлении приходится туго. В 1916–1917-м старый мэтр вообще не обращает внимания на молодого ученика. Только зимой 1917–1918 годов он начинает к нему присматриваться, а вскоре оказывает ему поддержку. И, с должным пафосом сообщая в упомянутом письме от 9 января 1919 года своему церковному другу Энгельберту Кребсу, что «теоретико-познавательные исследования ‹…› сделали систему католицизма проблематичной и неприемлемой» для него, молодой Хайдеггер, возможно, действительно свидетельствует о решительном повороте в своей биографии. Ну а если смотреть на дело с практической точки зрения, то речь идет о четко продуманном маневре философа-карьериста, который, тщательно изучив новую обстановку, пришел к заключению, что последний его академический шанс – однозначный отход от католицизма. Всего за два дня до этого письма Кребсу Эдмунд Гуссерль лично обратился в министерство в Карлсруэ с требованием предоставить Хайдеггеру новое место ассистента с твердым годовым жалованьем, поскольку иначе этот необычайный талант грозит уйти «в денежную профессию» и будет потерян[43].
В рамках биографического корсета, сконструированного Беньямином из «характера» и «судьбы», «внутренних задатков» и «внешних обстоятельств», отход Хайдеггера от «системы католицизма» представляется предельно логичным. Можно даже сказать, системно-логичным.
Как и следовало ожидать, Гуссерля в Карлсруэ услышали. Министерство, правда, еще ломается по поводу предоставления полной ассистентской ставки (ее одобрили только осенью 1920 года), однако разрешает читать оплачиваемый курс лекций. Призвание Хайдеггера к философии пока что спасено. Отныне он может мыслить, избегая всякого католического давления. Первый послевоенный семестр во Фрайбурге начинается уже 25 января 1919 года. В распоряжении Хайдеггера ровно три недели, чтобы подготовиться. А за четыре дня до начала лекций рождается его первый сын, Йорг.
Мир без воззрений
Во Фрайбурге, по сравнению с большими городами вроде Мюнхена и Берлина, живется относительно неплохо. Город расположен в сельскохозяйственном районе, и с продуктами питания дело обстоит чуть лучше, да и буржуазные революции и уличные бои этих месяцев обходят его стороной. Тем не менее, аудитория, которую Хайдеггер увидел с кафедры на первой лекции 1919 года, наверняка производила плачевное впечатление. Перед ним сидела малочисленная кучка в большинстве своем подавленных мужчин, многие – давно уже не студенческого возраста, вынужденных теперь делать вид, будто видят перед собой будущее. Как до них достучаться? Как их заинтересовать? Как разбудить? Бегством в башню из слоновой кости, обращением к самым абстрактным и далеким вопросам? Или, скорее, близкой их опыту трактовкой Здесь и Сейчас? Молодой доцент решил сделать то и другое сразу. И тем самым подарил философии один из величайших ее часов[44].
Согласно расписанию, Хайдеггеру надлежало читать о Канте, но в последнюю секунду он решительно меняет тему. Новое название лекции: «Идея философии и проблема мировоззрения»[45]. Иными словами, речь пойдет о самопонимании философии как самостоятельной области знаний: по ту сторону методов и объяснений эмпирического естествознания, а главное, по ту сторону доминирующего в это время жанра обширных мировоззренческих трудов – таких, например, как великий цивилизационно-теоретический трактат Освальда Шпенглера «Закат Европы». Как будто бы достаточно ясно, что цели и методы философии не тождественны целям и методам естествознания. Но чем она отличается от построения, отягощенного ценностями мировоззрения? Имеется ли здесь вообще значимое различие?
Если следовать феноменологическому подходу Гуссерля, ответ однозначен: да. Ведь отличительная черта феноменологии – методически строгий способ раскрытия мира. Однако, не в пример естественным наукам, феноменология не стремится объяснить или прогнозировать ход явлений, но намерена как можно более объективно и нейтрально осмыслить их вообще в фактической их данности. Под девизом «Назад, к самим вещам!» феноменология пытается укрепиться, по выражению Хайдеггера, как «дотеоретическая первичная наука» (vortheorethische Urwissenschaft) – как точный опытный фундамент, существующий до всякого естествознания, а главное, до всех искаженных предрассудками мировоззрений и идеологий.
Первопроходец
Как раз на этот путь ступает Хайдеггер, новый ассистент Гуссерля во Фрайбурге, в своей первой лекции. В своей простейшей представимой форме, по мысли Хайдеггера, главный вопрос феноменологии звучит так: Gibt es etwas? (Есть ли что-то? Существует ли нечто?). И, если да, каким образом это «что-то» всякий раз дано нашему сознанию? Как оно проявляется? Не без горького подтекста доцент Хайдеггер, намекая на шаткое «августовское переживание» начала войны 1914 года, называет этот вопрос о «есть ли» философским «вопрошающим переживанием». Но послушаем самого Хайдеггера:
§ 13. Вопрошающее переживание: есть ли что-то?
Уже в вопросе «есть ли?..» имеется нечто. Вся наша проблематика подошла к решающему месту, которое при всей своей кажущейся скудости вовсе не производит такого впечатления. Всё зависит от того, ‹…› что мы понимающе следуем смыслу этой скудости и задерживаемся при ней ‹…› Мы стоим на методическом распутье, где решается вопрос о жизни и смерти философии как таковой, стоим у бездны: дальше мы либо сорвемся в Ничто, то есть в абсолютное опредмечивание, либо нам удастся прыжок в другой мир, или точнее: сначала вообще в сам мир. ‹…› Допустим, нас совсем бы здесь не было. Ну что ж, тогда бы не имелось этого вопроса ‹…›.
И чуть дальше, еще раз уточняя важнейший вопрошающий импульс:
Что значит: «есть»?
Есть числа, есть треугольники, есть картины Рембрандта, есть подводные лодки; я говорю, еще сегодня есть дождь, назавтра есть телячье жаркое. Многогобразное «есть», и каждый раз оно обладает разным смыслом и всё же одним и тем же повсюду встречаемым моментом значения. ‹…› Далее: спрашивается, есть ли что-то. Спрашивается не о том, имеются ли стулья или столы, дома или деревья, сонаты Моцарта или религиозные силы, а о том, есть ли вообще что-то. Что означает: вообще что-то? Совершенно общее, самое общее, так сказать, то, что вообще причитается каждому возможному предмету. О нем можно сказать, оно есть что-то – и коль скоро я так говорю, я высказываю о предмете минимум того, что может быть высказано. Стою перед ним без предпосылок[46].
Итак, двадцатидевятилетний мужчина читает свою первую лекцию как академический философ и дрожащим от решимости голосом призывает слушателей признать в одном из казалось бы тривиальнейших оборотов немецкого языка судьбоносный вопрос самóй философии. Кто здесь говорит – клоун? маг? пророк?
Стоит немного остановиться на этом ключевом пассаже его первой послевоенной лекции, ведь он являет собой не что иное, как зародыш всей хайдеггеровской философии присутствия (Dasein). Если последовать призыву Хайдеггера и чуть дольше задержаться на обороте «есть» (es gibt) – так сказать, медитируя, вникнуть в его возможные применения и смыслы, – то, действительно, выявляется загадка особой глубины: что, собственно, подразумевает это «есть»? В чем заключен его подлинный смысл? В конце концов, в своей самой общей форме оно касается всего и вся. Просто всего, что есть.
Ровно через десять лет Хайдеггер с той же кафедры будет утверждать, что вся его философия кружит возле вопроса о смысле слова «быть». И с той же фрайбургской кафедры провозгласит, что он – первый человек за 2 500 лет, который вообще вновь открыл и пробудил к жизни смысл этого вопроса, но прежде всего – его значение для конкретной жизни и мышления всех людей. Напряженность намечается уже в 1919 году, когда он говорит о вопросе «есть ли» как о «подлинном перепутье», которое решает о «жизни и смерти философии».
Стало быть, если выбрать направление «абсолютного опредмечивания» и, таким образом, оставить вопрос о «том, что есть», естественным наукам, то философии грозит судьба, которую диагностирует и Витгенштейн: она станет ненужной, в лучшем случае – сможет понимать себя как служанку естествознания. В худшем – деградирует до того вида зыбкого обобщения, стоящего на ложном, отягощенном предрассудками ценностном фундаменте, который Хайдеггер связывает с понятием мировоззренческой философии. То есть всё зависит от того, удастся ли «прыжок» в другой мир, в другое философствование, а тем самым – в другое понимание бытия. Вперед, по третьему пути.
Без алиби
Однако выбранное Хайдеггером понятие прыжка, ключевое в религиозной философии Сёрена Кьеркегора, уже показывает, что в этой подлинно спасительной альтернативе речь не может идти о чисто логическом, доказательном или просто рационально мотивированном выборе. Вместо этого речь идет, скорее, о решении, которое требует большего и другого. А именно чего-то, что в первую очередь зиждется не на причинах, но на воле и мужестве, а главное, на конкретном личном опыте, сравнимом с религиозным переживанием обращения, другими словами – на призвании.
В этом пассаже о «вопрошающем переживании» угадывается и вторая, наиболее важная для позднего Хайдеггера, мыслительная фигура. Она кроется за следующим спекулятивным рассуждением: а что, если бы «нас» – как людей – вообще бы здесь (da) не было? То есть не было бы на свете, в мире? Что тогда?
Хайдеггер утверждает: тогда бы не было и вопроса о «том, что есть». Иными словами, мы, люди, суть единственные существа, которые могут задать себе вопрос о том, что есть, а значит, о смысле бытия. Поэтому только для нас всё, что имеется, существует здесь (da) – и в этой данности, по сути, находится под вопросом. Только для нас «имеется» мир. И оттого уже вскоре Хайдеггер заменит понятие «человек» понятием «присутствие» (Dasein).
Новое царство
Уже на первой лекции Хайдеггер возвещает своей глубоко травмированной войной аудитории, ни много ни мало, возможность «другого мира» – мира и жизненной формы подлинно философского вопрошания. Ибо, не в последнюю очередь, в рассуждениях о прыжке имеется в виду и это. Завоевать новое царство каждый индивид может лишь самостоятельно. На пути в философию нет алиби. То, что направляет прыжок и делает его возможным, в конечном счете, невозможно абстрактно передать или просто провозгласить с кафедры: оно должно быть изведано и осмыслено само, изнутри, и затем проявиться в конкретном жизненном свершении.
«Дотеоретическая первичная наука», путь которой намерено проложить вопрошающее переживание Хайдеггера, уже не есть, таким образом, наука в классическом смысле. Она нацелена на большее и другое, нежели только на описание данного, а именно на фундаментально иной способ постичь характер его данности. А значит, и данности самой себя. Стало быть, уже весной 1919 года можно видеть, насколько мышление Хайдеггера отмечено нерасторжимым сплетением «вопросов бытия» (онтологии) и «вопросов существования» (экзистенции). Как сказано в заключение лекции:
Но философия достигает успеха лишь абсолютным погружением в жизнь как таковую ‹…› Она не строит себе иллюзий, это – наука абсолютной честности. В ней нет пустой болтовни, есть только вникающие шаги; в ней спорят не теории, но только подлинное вникновение с неподлинным. Подлинное же вникновение достижимо лишь честным и безоглядным погружением в подлинность жизни как таковой, в конечном счете, лишь подлинностью самой личной жизни[47].
Ограничение, которое в той же радикальности и бескомпромиссности тогда же имеет место и в мышлении обладающего военным опытом Людвига Витгенштейна.
Верность событию
Ситуацию специфического вызова, в которой находятся молодые философы 1919 года, можно сформулировать и так: необходимо обосновать для себя и для своего поколения жизненный проект, который движется по ту сторону детерминирующего «каркаса» (Gestell) «судьбы и характера». Конкретно биографически это означает: дерзнуть вырваться из прежде направляющих структур (семьи, религии, нации, капитализма). А во-вторых, найти модель экзистенции, которая позволит переработать интенсивность военного опыта и перевести его в область мышления и повседневного существования.
Беньямин намерен осуществить это обновление романтическими средствами всединамизирущей критики. Цель Витгенштейна – на продолжительный срок установить в повседневности то совершенное мистическое успокоение и примирение с миром, которое он испытывал в мгновения величайшего страха смерти. Задачу, перед которой ставит Хайдеггера его личная ситуация в 1919 году, можно было бы сформулировать и так: на фоне уже существующего представления о себе самом как о «необузданном мыслителе» Хайдеггер ищет способ, позволяющий примирить интенсивность военного опыта – обнаруживающего для него принципиальное сходство с интенсивностью мышления – с условиями некой желанной «повседневности». То есть, с одной строны, жизнь в буре мышления, а с другой – примирение с повседневным. Речь здесь идет о задаче, которая, принимая во внимание его уже в 1919 году очень непростой характер, требует полной самоотдачи. Так, 1 мая 1919 года он пишет Элизабет Блохман (давней близкой подруге своей жены):
Нам нужно уметь ждать прихода мгновений высоконапряженной интенсивности наполненной смыслом жизни – и надо жить с этими мгновениями непрерывно, – не столько наслаждаясь ими, сколько встраивая их в жизнь, брать их с собой в нашу последующую жизнь и включать в ритм той жизни, что еще может наступить[48].
Редко какой женатый мужчина был более философичен, заявляя, что впредь всё останется романом, которому дóлжно ограничиваться немногими свиданиями «высоконапряженной интенсивности». Но то, что справедливо для Хайдеггера как любовника, справедливо и для эроса его мышления: он хочет оставаться открытым великим мгновениям, подлинным событиям вникновения, а остаток существования проживать, что называется, в верности этим великим событиям. Для такой верности – единственной, что интересует его в его присутствии, – ему, прежде всего, необходима свобода. В мышлении. В действии. В любви. Весной 1919 года он наконец начинает разрывать свои цепи: католицизма, родительского дома, брака, а если присмотреться – и феноменологии Гуссерля.
Немецкие добродетели
Первый послевоенный семестр в Берлинском университете Фридриха-Вильгельма (ныне Университет Гумбольдта) ставит Эрнста Кассирера – на тринадцатом году его службы в качестве приват-доцента – перед весьма специфическими проблемами. Ведь в первые недели января 1919 года, как вспоминает его жена,
‹…› на улицах Берлина много стреляли, и Эрнст часто ездил на лекции в университет посреди пулеметной пальбы [восстания «Союза Спартака». – В. А.]. Однажды во время такого уличного боя повредили электропроводку в здании университета, как раз когда Эрнст читал лекцию. Впоследствии он любил рассказывать, как спросил у своих студентов, закончить ли ему лекцию или продолжать, и они единогласно проголосовали за «продолжение» ‹…› Так что Эрнст тогда закончил лекцию в кромешной тьме, меж тем как на улице не прекращалась пулеметная стрельба[49].
Не воплощает ли человек в напряженнейшей ситуации именно то, что Хайдеггер и Витгенштейн прославляют как идеальный желанный результат своего мышления: глубоко прочувствованную веру в ценность собственных действий, непоколебимую позицию и решительность, то есть истинный, подлинный, ответственный за свою судьбу характер? Без сомнения, да. Правда, Кассирер в последнюю очередь описал бы свое поведение таким образом. Ведь к понятию «характер», в ту пору центральному как раз в мировоззренчески консервативных кружках, сложившихся вокруг таких популярных философов, как Освальд Шпенглер, Отто Вейнингер или Людвиг Клагес, он уже по чисто политическим причинам старался обращаться как можно меньше. По убеждению Кассирера, философский заряд понятия «характер» – особенно в форме национального характера – играл на руку риторике национального шовинизма, а также культу «подлинности» и «исконного ядра», по сути своей свободе чуждому. Тем самым он поощрял именно те духовно-политические силы в Европе, которые авансом выставляли мировую войну как неизбежную, смертоносную борьбу за выживание между различными европейскими культурами. Для Кассирера люди, рассуждавшие об истинном «характере человека» или о «сущностном ядре народа» как о чем-то таком, что из глубинного нутра определяет их совокупные действия – или даже проявляется в пограничных ситуациях как обязательная спасительная сила, – были, прежде всего, непросвещенными. А в глазах Кассирера это не в последнюю очередь означало: они совершенно не были немцами.
Именно в этом направлении он в 1916 году, когда, приближаясь к своей кульминации, бушевала война, завершил работу под названием «Свобода и форма. Исследования по истории немецкого духа». Центральное ее место гласит:
Безусловно, необходимо иметь ясность в том, что, как только задаешь вопрос о своеобразии духовного «существа» народа, касаешься глубочайших и сложнейших проблем метафизики и общей критики познания. ‹…› «Собственно, – так говорится в предисловии Гёте к „Учению о цвете“, – все наши попытки выразить сущность какого-нибудь предмета остаются тщетными. Действия – вот что мы обнаруживаем, и полная история этих действий охватила бы, без сомнения, сущность данной вещи. Напрасно стараемся мы опеределить характер какого-нибудь человека; но сопоставьте его поступки, его дела, и вы получите представление о его характере»[50].
Ценностно отягощенные догадки об «истинном характере» и «нутре» человека в конечном счете указывают на роковые принципиальные метафизические допущения. Но мышление Кассирера – в этом он следует своим вечным философским путеводным звездам, Канту и Гёте, – предпочитает обходиться без допущения предзаданного внутреннего сущностного ядра. Нам как существам чувственным и, в конце концов, разумным (таково умеренное допущение Кассирера) лучше придерживаться в своих суждениях того, что дано непосредственно: чтó есть вещь, ктó есть человек, проявляется в совокупности их поступков и действий по отношению к другим предметам и людям. Иными словами, сущность нельзя заранее абстрактно определить, окончательно назначить или вызвать магическими средствами – она снова и снова будет проявляться и утверждать себя в заданном контексте.
Стало быть, к Великой войне и ее катастрофе привели, по убеждению Кассирера, дурная метафизика и ложный, абсолютно «не-немецкий» ответ на вопрос о сущности человека. Поэтому легко себе представить, почему он и позднее с удовольствием неоднократно рассказывал об упомянутом выше послевоенном эпизоде в аудитории. С его точки зрения, в нем проявляется основополагающая человеческая способность – даже в самых напряженных ситуациях хранить верность собственным философским идеалам и воплощать их для других как можно более наглядно. А этот идеал для Кассирера прост: действовать максимально автономно. То есть культивировать для себя и других способности, позволяющие стать активным творцом собственной жизни, а не пассивным ее спутником. Формирование себя самих, а не определение через других. Объективные основания, а не глубинная подлинность. Вот в этом, согласно Кассиреру, и состоит подлинный вклад немецкой культуры в универсальную идею человека, блестяще воплощенную его философскими путеводными звездами – Кантом и Гёте.
Нелюбимый
Что эта его немецкая культура очень уж благосклонна к нему как ученому, зимой 1919 года отнюдь не скажешь. На тринадцатом году доцентуры в Берлинском университете Кассирер-ученый, хотя он и пользуется международным признанием, всё еще остается так называемым «экстраординарным профессором», по-прежнему не имеет права принимать экзамены, оставаясь философом по совместительству. Запись в берлинском телефонном справочнике вполне объективно и правильно именует его «частным ученым» (Privatgelehrter)[51]. «Я не могу заставить их любить меня, и они действительно терпеть меня не могут», – обычно заявляет Эрнст своей жене, когда его снова обходят при назначении на вакантную профессуру. В минувшие годы он издал несколько высококлассных работ – прежде всего, «Понятие субстанции и функции» (1910)[52]; после кончины в 1916 году его философского учителя и покровителя Германа Когена Кассирер считается бесспорным главой Марбургской школы неокантианства, к тому же – едва ли не ведущим знатоком Канта среди своих современников. Однако за годы войны для академической карьеры это стало скорее препятствием, нежели преимуществом, ведь национал-консервативные круги всё более открыто подозревали марбуржцев, сплотившихся вокруг Когена и Кассирера, в том, что они, эти «ученые-евреи», отчуждают и отделяют подлинное учение и роль Канта от их «исконных» – а стало быть, немецких – «корней». Уже в годы войны ужесточение националистического дискурса постоянно разжигало в стране антисемитизм – яркий пример: так называемая «перепись евреев» 1916 года в германской армии. Этот настрой, лишь усилившийся после вступления в войну, с ее окончанием не иссяк. Фамилия Кассирер в этом контексте представляет собой, опять-таки, яркий пример крупнобуржуазного широко разветвленного семейства немецких евреев, чьи представители занимают центральное положение как в экономической, так и в культурной жизни Берлина – это фабриканты, промышленники и инженеры, издатели, врачи, коллекционеры искусства и, ну да, философы[53]. Кассиреры образцово «ассимилированы» и как раз поэтому, в силу специфических «внутренних оснований» сущностной логики немецкого национализма, вызывают особые подозрения[54].