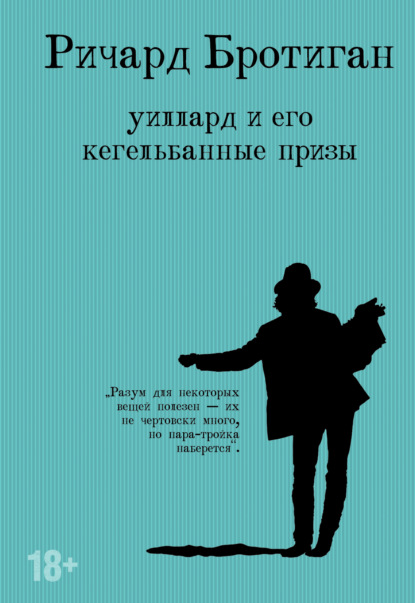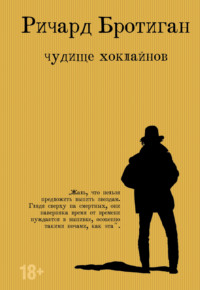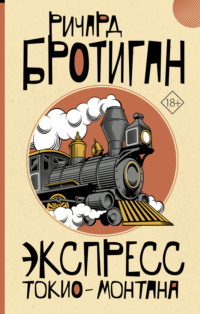Полная версия
Лужайкина месть
За период Второй мировой войны я лично убил 352 892 неприятельских солдат, не ранив ни одного. Детям во время войны нужно гораздо меньше госпиталей, чем взрослым. Дети больше смотрят на это с точки зрения смерти-без-пощады.
Я потопил 987 линкоров, 532 авианосца, 799 крейсеров, 2007 эсминцев и 161 транспорт. Транспортные суда были не очень интересной мишенью: маловато азарта.
Кроме того, я потопил 5465 торпедных катеров. Понятия не имею, зачем понадобилось столько их топить. Но так бывает. Четыре года подряд, стоило мне обернуться – и я топил торпедный катер. Непонятно мне до сих пор. 5465 торпедных катеров – это много.
Я потопил только три подводные лодки. Субмарины просто не по моей части. Первую свою подлодку я потопил весной 1942-го. В декабре и январе толпы пацанов выскакивали на улицу и топили субмарины налево и направо. Я выжидал.
Выжидал я до апреля, а потом однажды утром по дороге в школу – БАБАХ! – моя первая подлодка, прямо напротив бакалейной лавки. Вторую я пустил на дно в 1944-м. Я мог себе позволить ждать следующей два года.
Последнюю подводную лодку я потопил в феврале 45-го, через несколько дней после того, как мне исполнилось десять. Подарки в том году меня не очень сильно удовлетворили.
А было еще небо! Я взмывал в него в поисках неприятеля, а гора Рейнир высилась на моем фоне, как холодный белый генерал.
Я был асом, я летал на «пи-38», «груммане дикой кошке», «мустанге пи-51» [19] и «мессершмитте». Да-да – на «мессере». Я захватил один и перекрасил в особый цвет, чтобы наши не пытались меня сбить по ошибке. Мой «мессершмитт» узнавали все, и враг большую цену платил за эти встречи.
Я сбил 8942 истребителя, 6420 бомбардировщиков и 51 дирижабль заграждения. Больше всего дирижаблей я сбил в самом начале военных действий. Позже, году в 43-м, перестал сбивать их вообще. Слишком медленные.
Кроме того, я уничтожил 1281 танк, 777 мостов и 109 нефтеперерабатывающих заводов, поскольку знал, что наше дело правое.
– Помните Пёрл-Харбор! – говорили нам.
– Ну еще бы! – отвечали мы.
Вражеские самолеты я сбивал, раскинув руки на бегу в стороны, а бежал я дьявольски быстро и орал во всю глотку: ТРА-таттаттаттаттаттаттаттаттаттатта!
Дети больше так не делают. Теперь дети ведут себя иначе, а поскольку они ведут себя иначе, у меня случаются целые дни, когда я чувствую себя призраком ребенка – изучаю воспоминания об игрушках, заигранных до того, что снова стали землей.
Раньше я делал еще одну штуку, очень здоровскую для юного самолета. Отыскивал пару фонариков и зажженными держал их ночью в вытянутых руках – я был ночным пилотом и проносился по улицам Такомы.
В самолет я играл и дома: брал из кухни четыре стула и составлял вместе. Два стула смотрели в одну сторону и были фюзеляжем, и по стулу на каждое крыло.
Дома я чаще играл в пикирующий бомбардировщик. У стульев это почему-то получалось лучше всего. Моя сестра сидела на стуле прямо за моей спиной и передавала по рации срочные сообщения на базу.
– У нас осталась всего одна бомба, но авианосец упускать нельзя. Придется бросать бомбу прицельно в дымовую трубу. Прием. Благодарю вас, капитан, удача нам потребуется.
А потом сестра говорила мне:
– Думаешь, сможешь?
И я отвечал:
– Еще бы, только держи покрепче фуражку.
Твоей Фуражки
Больше Нет Вот Уже
Двадцать Лет
1 января
1965 г.
Прямой эфир
Я слушаю прямой эфир по новому радиоприемнику, купленному несколько недель назад. Это транзисторный белый пластмассовый приемник с AM/FM. Я крайне редко покупаю новые вещи, так что мой бюджет немало удивился, когда в итальянском магазине электроприборов я купил это радио.
Очень любезный продавец рассказал мне, что продал больше четырехсот таких приемников итальянцам, которые хотели слушать по FM передачу на итальянском.
Не знаю почему, но это сильно меня поразило. Отчего мне захотелось купить радио – так я и удивил свой бюджет.
Радио стоило $29.95.
Теперь я слушаю прямой эфир, поскольку снаружи льет дождь и мне больше нечем занять уши. Я слушаю это новое радио и вспоминаю другое новое радио, что жило в прошлом.
Мне было, кажется, лет двенадцать, Тихоокеанский Северо-Запад, где зима – вечный дождь и вечная слякоть.
У нас был старый приемник 1930-х годов, в огромном корпусе, похожем на гроб, и я его боялся, потому что дети порой боятся старой мебели – она напоминает о мертвых людях.
Звучало это радио из рук вон плохо, и слушать мои любимые передачи было все сложнее и сложнее.
Починке оно не поддавалось. За жалкое подобие звуков цеплялось из последних сил шкалы.
Давным-давно пора было купить новое радио, но мы не могли, потому что были бедные. В конце концов скопили на первый взнос и по слякоти пошли в местный магазин радиотоваров.
Мы – это мама, я и сестра, и втроем мы слушали новехонькие радиоприемники, будто в раю очутились, пока не остановились на одном, который в итоге и купили.
Он был головокружительно прекрасен, в превосходном деревянном корпусе и пахнул небесной лесопилкой. Настольная модель, что тоже было просто замечательно.
Мы с радиоприемником шли домой по слякотным улицам без тротуаров. Радио лежало в картонной коробке, и мне доверили его нести. Я очень гордился.
То был один из счастливейших вечеров в моей жизни: я слушал любимые передачи по новехонькому радио, а дом сотрясала проливная зимняя гроза. Каждая передача звучала, как ограненный алмаз. Топот копыт лошади Малыша Циско [20] сверкал, точно кольцо.
Я сижу сейчас, лысеяжиреястареягодыспустя, слушаю прямой эфир по второму новому радио в своей жизни, а призраки той грозы сотрясают дом.
Я пытался рассказать кому-то о тебе
Я пытался рассказать кому-то о тебе несколько дней назад. Ты не похожа ни на одну девушку, какие прежде попадались мне на глаза.
Я не мог сказать:
– Ну что – она вылитая Джейн Фонда [21], только волосы рыжие, другой рот и она, разумеется, не кинозвезда.
Я не мог этого сказать, поскольку ты совсем не похожа на Джейн Фонду.
В конце концов, я пересказал тебя, как фильм, который видел ребенком в Такоме, штат Вашингтон. Наверное, я смотрел его году в 41-м или 42-м: где-то тогда. Мне, видимо, было лет семь-восемь – или шесть. Фильм был о сельской электрификации – идеальное кино 1930-х годов с моралью «Нового курса» [22] для ребенка.
Кино рассказывало о фермерах, живших в деревне без электричества. Чтобы видеть ночью, они пользовались лампами – шили, читали. Никаких домашних приборов у них не было – ни тостеров, ни стиральных машинок; радио слушать они тоже не могли.
Потом они построили плотину с большими электрогенераторами, по всей округе расставили столбы и над полями и пастбищами протянули провода.
Оттого, что они просто ставили столбы, чтобы по ним бежали провода, веяло невероятным героизмом. Они выглядели древними и современными сразу.
Потом в кино показали Электричество – как молодого греческого бога, что пришел к фермеру и навсегда отнял у него его темную жизнь.
И фермер неожиданно, истово, просто нажав на выключатель, получил электрический свет, при котором ранним черным зимним утром можно доить корову.
Семья фермера начала слушать радио, у них появился тостер и много яркого света, чтобы шить платья и читать газеты.
Невероятное кино вообще-то: оно будоражило меня, как «Усеянное звездами знамя» [23], фотографии президента Рузвельта или его выступления по радио.
– …Президент Соединенных Штатов…
Мне хотелось, чтоб электричество стало во всем мире. Мне хотелось, чтобы все фермеры на свете могли слушать по радио президента Рузвельта.
Вот так ты на меня смотришь.
В Хеллоуин по домам на кораблях до самого моря
В детстве я на Хеллоуин играл, как будто я моряк и, выпрашивая по домам сласти, иду на кораблях до самого моря. Мешок с конфетами – штурвал, маска – паруса, рассекающие чудесную осеннюю ночь, а крылечные огни сияют, как порты захода.
Попрошай был капитаном нашего корабля, и он говорил: «Мы в этом порту ненадолго. Сойдите на берег, хорошо вам повеселиться. Только помните, мы отчалим на заре с отливом». Боже мой, он не соврал! Мы отчалили на заре с отливом.
Ежевичный автомобилист
Ежевичные кусты росли повсюду – зелеными драконьими хвостами взбирались на бока заброшенных складов в промзоне, знававшей иные времена. Кусты были такие мощные, что люди клали на них доски, как мосты, чтобы добраться до больших ягод посередке.
Мостов в кусты было много. Некоторые по пять или шесть досок длиной, и на них надо осторожно балансировать, потому что на пятнадцать футов вниз – одни сплошные ежевичные кусты, и если упадешь, колючками расцарапает очень сильно.
Туда не заглядывали мимоходом нарвать немножко ежевики для пирога или съесть с молоком и сахаром. Туда ходили собрать ежевики для варенья на зиму или чтобы продать, поскольку денег хотелось побольше, чем на билет в кино.
Не описать, сколько там было ежевики. Ежевичины громадные, как черные алмазы, но добираться до них – все равно что брать штурмом замок: в ход шла средневековая ежевичная инженерия, вырубка ходов и прокладка мостов.
– Замок пал!
Временами, когда надоедало собирать ежевику, я вглядывался в тенистую темницу в глубине кустов. Там виднелось что-то смутное, не разберешь что, и какие-то силуэты, текучие, как призраки.
Однажды мне стало так любопытно, что я припал к пятой доске моста, который построил в кустах, и стал смотреть вглубь, где колючки походили на шипы грозной булавы, пока глаза не привыкли к темноте и прямо под собой я не увидел седан «форда» модели А.
Я так долго лежал на доске, рассматривая машину, что свело ноги. Через два часа, разодрав одежду и исцарапавшись до крови, я проделал ход на переднее сиденье этой машины – руки на руле, одна нога на педали газа, другая на тормозе, а вокруг, будто в замке, пахнет обивкой, – и через ветровое стекло сквозь сумеречную тьму стал глядеть вверх, в зеленые солнечные тени.
Пришли другие сборщики и принялись собирать ежевику на досках прямо надо мной. Они ужасно радовались. Наверное, раньше никогда там не бывали и не видели такой ежевики. Я сидел под ними в машине и слушал, как они разговаривают.
– Эй, гляди, какая ежевичина!
Резинка Торо
Жизнь не сложнее поездки через Нью-Мексико в одолженном джипе, с девушкой на переднем сиденье, такой красивой, что мне становится хорошо во всех отношениях всякий раз, когда я на нее смотрю. Выпало много снега, и нам пришлось дать кругаля на сто пятьдесят миль, потому что снег забил нужную дорогу, точно склянку песочных часов.
Вообще-то я страшно рад, потому что мы едем в крошечный городок Торо, штат Нью-Мексико, узнать, открыто ли 56-е шоссе до каньона Чако. Мы хотим посмотреть там индейские руины.
Земля укутана снегом так плотно, словно только что получила государственную пенсию и теперь предвкушает долгую и приятную жизнь вдали от дел.
Мы замечаем кафе, умостившееся в снежной праздности. Мы тормозим, девушка остается в машине, а я иду в кафе выяснять про дорогу.
Официантка немолода. Она смотрит на меня, словно я – иностранный фильм, только что вышедший сюда из-под снега, с Жан-Полем Бельмондо и Катрин Денёв [24] в главных ролях. Кафе пахнет завтраком длиной в полсотни футов. За ним сидят два индейца – жуют яичницу с ветчиной.
Они молчат, им любопытно. Смотрят на меня краем глаза. Я спрашиваю официантку про дорогу, и официантка говорит, что дорога закрыта. Сообщает об этом одной быстрой окончательной фразой. Ну, ничего не поделаешь.
Я шагаю было к двери, но один индеец поворачивается и говорит краем рта:
– Дорога открыта. Я утром по ней ехал.
– До самого Сорок четвертого шоссе открыта? Которое в Кубу? – спрашиваю я.
– Да.
Официантка вдруг переключает все свое внимание на кофе. Кофе нуждается в безотлагательной заботе, и официантка занята сейчас им во благо всех будущих поколений любителей кофе. Без ее преданного труда кофе в Торо, штат Нью-Мексико, может и вовсе исчезнуть.
44:40
Когда я познакомился с Кэмероном, он был глубоким стариком, не снимал теплые тапочки и уже не разговаривал. Только курил сигары и временами слушал пластинки Бёрла Айвза [25]. Жил он с одним из своих сыновей, а тот и сам дотянул до средних лет и уже сетовал на старость:
– Черт возьми, как ни крути, годы мои уже не те.
У Кэмерона в гостиной было свое кресло. Накрытое шерстяным одеялом. В это кресло больше никто не садился – как будто Кэмерон всегда в нем сидел. Креслом командовал его дух. Старики умеют так делать с мебелью, на которой заканчивают свои дни.
Зимой он уже не выходил наружу, но летом порой сидел на веранде и глядел мимо розовых кустов на улицу, где жизнь расписывала свой календарь без него, словно и не было никогда никакого Кэмерона.
Хотя Кэмерон был. Был он прекрасным танцором и в 1890-х танцевал ночи напролет. Прославился своими танцами. Свел в могилу не одного скрипача, и с Кэмероном девушки всегда танцевали лучше, и все они любили его за это, и все они млели, краснели и хихикали, слыша его имя. От одного имени его или вида трепетали даже «серьезные» девушки.
Много сердец разбилось, когда в 1900 году он женился на самой юной дочери Синглтона.
– Не такая уж она красивая, – горестно твердили неудачницы и плакали на свадьбе.
Еще он чертовски хорошо играл в покер – а в тех краях люди играли в покер очень серьезно и с большими ставками. Однажды человека, сидевшего рядом с ним, поймали на шулерстве.
На карту были поставлены куча денег и лист бумаги, представлявший двенадцать голов скота, двух лошадей и повозку. Они были частью ставки.
О том, что человек жульничает, дал знать один из игроков: не говоря ни слова, он резко перегнулся через стол и перерезал тому человеку глотку.
Кэмерон машинально протянул руку и пальцем зажал человеку яремную вену, чтобы кровь не хлестала по всему столу. Он поддерживал умирающего человека на стуле, пока не закончилась партия и не выяснилось, кому достались двенадцать голов скота, две лошади и повозка.
Хотя Кэмерон больше не разговаривал, отблески таких вот событий читались в его глазах. Ревматизм превратил его руки в овощи, но в их неподвижности чувствовалось огромное достоинство. Сигару он поджигал так, будто вершил историю.
Как-то в 1889 году он целую зиму пас овец. Он был молодым человеком, совсем подростком. То была долгая одинокая зимняя работа в богом забытом краю, но Кэмерону нужны были деньги – отдать долг отцу. Один из тех сложных семейных долгов, в детали которых лучше не вдаваться.
Той зимой Кэмерону только и оставалось любоваться на овец, однако он нашел чем себя ободрить.
Над рекой всю зиму летали утки и гуси, а хозяин стада выдал Кэмерону и другим пастухам огромное, нереальное, можно сказать, количество боеприпасов для винчестера 44:40, чтобы отгонять волков, хотя в округе никаких волков не водилось.
Из-за волков хозяин стада переживал ужасно. До смешного прямо, судя по грудам боеприпасов для 44:40, которые он выдал своим пастухам.
В ту зиму Кэмерон со своим ружьем попользовался этими боеприпасами от души: он палил в уток и гусей со склона холма в двух сотнях ярдов от реки. 44:40 – не сказать чтобы лучшее в мире ружье для охоты на пернатую дичь. Оно стреляет огромными медленными пулями, словно толстый человек открывает дверь. Такого рода ставки были как раз для Кэмерона.
Длинные зимние месяцы этого семейно-долгового изгнания ползли день за днем, выстрел за выстрелом, пока в конце концов не настала весна, и к тому времени Кэмерон извел на этих гусей и уток несколько тысяч патронов и ни разу не попал.
Кэмерон любил рассказывать эту историю, считал, что это очень смешно, и сам всегда смеялся. Он рассказывал ее почти столько же раз, сколько успел пальнуть в этих птиц, много лет ниже по течению от моста 1900 года, и на мосту, и вверх по течению, по десятилетиям этого века, пока не перестал разговаривать вообще.
Чудный денек в Калифорнии
На День труда [26] в 1965 году я шел по железнодорожным путям на окраине Монтерея и смотрел на тихоокеанскую береговую линию Сьерры. Меня всегда поражало, до чего океан здесь похож на высокогорную реку: гранитный берег, неистово-ясная вода и зеленое постоянно сменяется голубым, а хрустальная, как люстра, пена поблескивает в скалах, точно река течет высоко в горах.
Здесь трудно поверить, что перед тобой океан, если не задирать голову. Иногда мне нравится думать, что этот берег – небольшая речушка, и старательно забывать, что до другого берега 11 000 миль.
Я обогнул излучину. Там на песчаной отмели среди гранитных валунов устроили пикник люди-лягушки. На всех аквалангистах были черные резиновые костюмы. Люди стояли кру́гом и ели большие ломти арбуза. Двое оказались хорошенькими девушками – поверх костюмов на них были мягкие фетровые шляпы.
Люди-лягушки, разумеется, разговаривали о своих лягушачьих делах. Часто они вели себя, как дети, и бризом до меня доносило летние диалоги головастиков. У некоторых на плечах и вдоль рук на костюмах были прочерчены жутковатые голубые линии, будто новенькие кровеносные системы.
Между людьми-лягушками резвились две немецкие овчарки. На собаках черных резиновых костюмов не было, да и на песке собачьей амуниции я не заметил. Наверное, их костюмы лежали за камнем.
Один человек-лягушка плавал на спине у берега и ел ломоть арбуза. Его кружило и мотыляло волнами.
Куча их оборудования громоздилась у огромной скалы, похожей на театр. Прометей при виде нее описался б от счастья. Под скалой лежали желтые кислородные баллоны. Похожие на цветы.
Люди-лягушки встали полукругом, двое побежали к морю и вернулись, швыряясь кусками арбуза в остальных, а еще двое принялись бороться в песке, и собаки лаяли и скакали вокруг них.
Девушки в покладистых клоунских шляпах, облитые своими черными резиновыми костюмами, были очень хорошенькими. Жуя арбуз, они сверкали, как алмазы в короне Калифорнии.
Почтамты Восточного Орегона
В дороге по Восточному Орегону: осень, ружья на заднем сиденье и патроны в перчаточном ящике или в бардачке, называйте как угодно.
Я был просто пацан, ехал охотиться на оленей в эту горную страну. Мы проделали длинный путь, стартовав до темноты. А потом всю ночь.
Теперь в машину светило солнце, жалило жарко, как насекомое, пчела какая-нибудь, что попалась и жужжит по лобовому стеклу.
Я клевал носом и расспрашивал дядю Джарва, втиснутого рядом со мной на переднем сиденье, об окрестностях и местном зверье. Я разглядывал дядю Джарва. Он рулил, и руль почти вжимался ему в живот. Дядя Джарв весил хорошо за две сотни фунтов. В машине ему едва хватало места.
В сумерках моего полусна был дядя Джарв, а во рту у него – щепотка табака «копенгаген». Она там всегда была. Люди раньше любили «копенгаген». Повсюду висели плакаты, предлагавшие его купить. Больше таких плакатов не увидишь.
В школе дядя Джарв был знаменитым спортсменом, а потом легендарным кутилой. Когда-то он снимал по четыре гостиничных номера разом, и в каждом по бутылке виски, но все они ушли. Он постарел.
Теперь дядя Джарв жил тихо, задумчиво, читал вестерны и каждое субботнее утро слушал оперу по радио. Во рту всегда щепоть «копенгагена». Четыре гостиничных номера и четыре бутылки виски испарились. Его уделом и неизменным состоянием стал «копенгаген».
Я был просто пацан, с удовольствием размышлявший о двух коробках патронов 30:30 в бардачке.
– А горные львы там есть? – спросил я.
– Пумы, что ли? – спросил дядя Джарв.
– Ага, пумы.
– Конечно, – сказал дядя Джарв.
Лицо его покраснело, а волосы поредели. Красавцем он никогда не был, но женщинам это не мешало – он им все равно нравился. Мы снова и снова пересекали один и тот же ручей.
Мы его пересекли по крайней мере раз десять, и каждый раз это было удивительно – снова увидеть ручей, потому что он был приятный: обмелел после долгих месяцев жары, только струйка течет по лесным вырубкам.
– А волки там есть?
– Встречаются. Скоро город будет, – сказал дядя Джарв.
Показалась ферма. Она была пуста. Заброшена, как музыкальный инструмент.
Возле дома стояла большая поленница. Интересно, привидения жгут дрова? Конечно, это их дело, но дрова были цвета прошедших лет.
– А дикие кошки? За них кучу денег можно огрести, да?
Мы проехали лесопилку. За ручьем была крошечная запруда. На бревнах стояли два мужика. У одного в руках коробка с обедом.
– Так, мелочь, – сказал дядя Джарв.
Мы уже въезжали в город. Крошечный городишко. Дома и магазины – развалюхи, выглядели так, будто над ними пронеслось немало ураганов.
– А медведи? – спросил я, как раз когда мы повернули и прямо перед нами возник пикап, а два мужика вытаскивали из него медведей.
– Медведи тут кишмя кишат, – сказал дядя Джарв. – Вон, например, парочка.
И точно… будто так и надо, мужики вытаскивали медведей, словно огромные тыквы, обросшие длинной черной шерстью. Мы остановили машину возле медведей и вылезли.
Вокруг стояли люди и смотрели на медведей. Все эти люди были старыми друзьями дяди Джарва. Все они сказали дяде Джарву «привет» и где же его носило?
Я никогда не слышал, чтобы столько людей говорили «привет» одновременно. Дядя Джарв уехал из городишки много лет назад. «Привет, Джарв, привет». Я ждал, что медведи тоже поздороваются.
– Привет, Джарв, старый пройдоха. Что это у тебя на пузе? Это что, покрышки?
– Хо-хо, вы на мишек поглядите.
Детеныши, пятьдесят-шестьдесят фунтов весом. Их подстрелили на ручье Старика Саммерса. Мать убежала. Когда медвежата погибли, она удрала в чащу и спряталась где-то неподалеку в обществе клещей.
Ручей Старика Саммерса! Мы же как раз туда и едем охотиться! Вверх по ручью Старика Саммерса! Я там никогда не был. Медведи!
– Во она злая будет, – сказал один мужик.
Мы должны были остановиться у него в доме. Он-то и подстрелил медведей. Добрый друг дяди Джарва. Во время Великой депрессии они в школе вместе играли в футбол.
Мимо прошла женщина. В руках она держала пакет с продуктами. Остановилась и посмотрела на медведей. Подошла очень близко и нагнулась к медведям, ткнув верхушками сельдерея им в морды.
Медведей положили на веранду старого двухэтажного дома. Углы дома покрыты деревянными узорами. Именинный пирог из прошлого столетия. А мы будем торчать там всю ночь праздничными свечками.
На решетках веранды росли какие-то странные лозы с цветами еще страннее. Я и раньше видел такие лозы и цветы, но на доме – никогда. Это был хмель.
Я впервые видел, чтобы хмель рос на доме. Странный выбор. Я к ним привык не сразу.
Солнце светило на веранду, и тени хмеля ложились на медведей, как на два стакана темного пива. Спинами они опирались на стену.
– Здравствуйте, джентльмены. Что будете пить?
– Пару пива «Медведь».
– Посмотрю в леднике, холодные ли. Я их туда как раз ставил… ага, холодные.
Мужик, подстреливший медведей, решил, что ему они не нужны, и кто-то сказал: «Может, отдашь мэру? Он любит медведей». Население городка – триста пятьдесят две души, считая мэра и медведей.
– Пойду скажу мэру, что тут для него парочка медведей, – объявил кто-то и ушел искать мэра.
О, какие будут вкусные медведи: запеченные, жареные, вареные или со спагетти – медвежьи спагетти, как готовят итальянцы.
Кто-то видел его у шерифа. Почти час назад. Может, он еще там. Мы с дядей Джарвом ушли в крошечный ресторанчик обедать. Дверь отчаянно нуждалась в ремонте – открывалась, как ржавый велосипед. Официантка спросила, что мы будем заказывать. У двери стояло несколько игральных автоматов. Вся округа настежь.
Мы заказали сэндвичи с ростбифом и картофельное пюре с подливкой. Там летали сотни мух. Одна достойная компания обнаружила ленты липкой бумаги, виселицами развешенные по всему ресторану, и нашла себе на них приют.
Вошел старик. Сказал, что хочет молока. Официантка принесла ему стакан. Он выпил и по дороге к двери сунул пятак в игральный автомат. Потом покачал головой.
После еды дяде Джарву понадобилось сходить на почтамт и послать открытку. Мы пошли – почтамт оказался маленький и больше всего походил на хижину. Мы открыли сетчатую дверь и зашли внутрь.
Там было полно почтамтовых штук: прилавок, старые часы с длинным понурым маятником, как подводные усы, – он тихо качался туда-сюда, вовремя догоняя время.
На стене висела огромная фотография голой Мэрилин Монро. Я впервые видел такую на почтамте. Мэрилин Монро лежала на чем-то большом и красном [27]. Я подумал, что странно вешать это на стену почтамта, но, в конце концов, в этой стране я был чужеземцем.