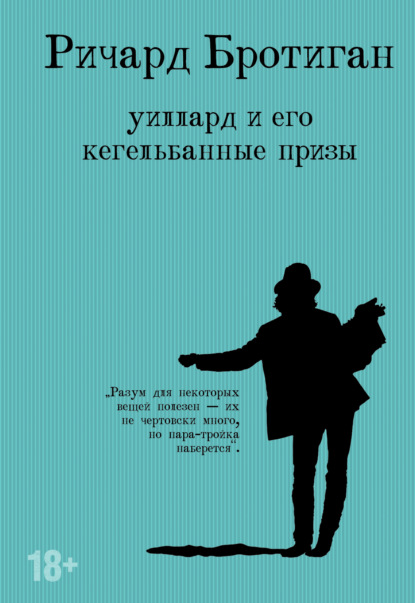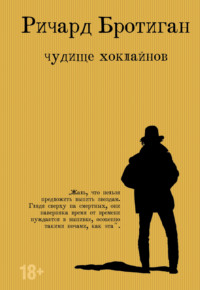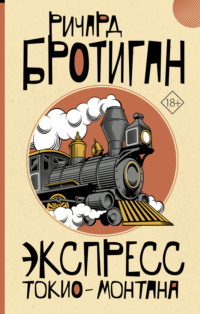Полная версия
Лужайкина месть
Рассказ о современной жизни в Калифорнии
Существуют тысячи рассказов с оригинальными началами. Этот не из них. Мне кажется, рассказ о современной жизни в Калифорнии можно начать только так, как Джек Лондон начал «Морского волка» [8]. В такое начало я верю.
В 1904 году получилось, получится и в 1969-м. Я уверен, что начало может донестись и через десятки лет, и послужить этому рассказу так же хорошо, потому что здесь у нас – Калифорния, где можно делать все, что заблагорассудится, и богатый молодой литературный критик уже сел на паром из Сосалито в Сан-Франциско. Он только что провел несколько дней в хижине у друга в Милл-Вэлли. Друг зимой читает в этой хижине Шопенгауэра и Ницше. Вместе им очень здорово.
Плывя в тумане по заливу, он размышляет, не написать ли ему эссе под названием «Необходимость свободы: мольба о настоящем художнике».
Волк Ларсен, разумеется, торпедирует паром и берет богатого молодого литературного критика в плен, где тот немедленно превращается в юнгу-дневального и вынужден носить смешную одежду, им все помыкают, как хотят, а он ведет замечательно интеллектуальные беседы со старым Волком, ему дают поджопников, его хватают за глотку, повышают в чине до помощника капитана, он взрослеет, встречает свою единственную любовь Мод, сбегает от Волка, мотыляется по всему этому чертову Тихому океану в лохани чуть получше спасательной шлюпки, находит остров, строит на нем из камней хижину, глушит дубинкой тюленей, чинит разбившийся парусник, хоронит Волка в открытом море, получает поцелуи и т. д.: а все для того, чтобы шестьдесят пять лет спустя закончить этот рассказ о современной жизни в Калифорнии.
Слава Богу.
Пожар тихоокеанского радио
Крупнейший океан на свете начинается или заканчивается в Монтерее, Калифорния. Все зависит от языка, на котором вы говорите. От моего друга только что ушла жена. Просто вышла из дома и даже не попрощалась. Мы с ним сходили взяли две пинты портвейна и направились к Тихому океану.
Это старая песня – ее заиграли все музыкальные автоматы в Америке. Песня крутилась так долго, что записалась даже в американской пыли, а та осела на всё и превратила стулья, машины, игрушки, лампы и окна в миллиарды проигрывателей, и те воспроизводили эту песню ушам нашего разбитого сердца.
Мы устроились на маленьком пляже, похожем на уютный уголок, окруженный гранитными скалами и огромностью Тихого океана со всем многообразием его словарей.
По транзистору моего друга слушали рок-энд-ролл и мрачно пили портвейн. Мы оба пали духом. Я тоже не знал, что он собирается делать с остатком своей жизни.
Я еще отхлебнул портвейна. По радио «Пляжные мальчики» [9] пели песню о калифорнийских девушках. Они им нравились.
Глаза его были мокрыми ранеными ковриками.
Я пытался утешить его, словно какой-то странный пылесос. Читал ему те же остохреневшие ектеньи, которые принято читать людям, если хочешь помочь их разбитым сердцам, но никакие слова тут не помогут.
Вся разница только в звуке другого человеческого голоса. Что б ни собирался сказать, никакого счастья человеку не будет, если ему дерьмово оттого, что он потерял того, кого любит.
В конце концов мы подожгли радиоприемник. Друг обложил его бумажками. Чиркнул спичкой. Мы сидели и смотрели. Я никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь поджигал радио.
Пока приемник кротко догорал, языки пламени влияли на те песни, которые мы слушали. Песня, стоявшая номером 1 в «Лучших 40», вдруг сама в себе упала до № 13. № 9 стал № 27 посреди припева о том, как кого-то любить. Они спотыкались в популярности, как сломанные птицы на лету. А потом уже им всем стало слишком поздно.
Эльмира
Будто в грезе юного американского принца-охотника за утками, я возвращаюсь в Эльмиру и вновь стою на мосту через реку Лонг-Том. Здесь всегда конец декабря, вода высока и грязна, из холодных глубин своих шевелит темными безлистыми ветвями.
Иногда на мосту идет дождь, а я смотрю вниз по течению – туда, где река впадает в озеро. В моей грезе всегда есть топкое поле, окруженное старой черной деревянной изгородью, и ветхий сарай – сквозь стены и крышу пробивается свет.
Мне тепло и сухо под чистыми слоями королевского белья и непромокаемой одеждой.
Иногда там холодно и ясно, и я вижу свое дыхание, а на мосту иней, и я смотрю вверх по течению – в древесные заросли, что тянутся в горы на много миль, туда, где берет начало река Лонг-Том.
Иногда на заиндевевшем мосту я пишу свое имя. Выписываю его очень аккуратно, а иногда еще пишу по инею «Эльмира» – так же аккуратно.
У меня всегда с собой двуствольный дробовик шестнадцатого калибра и горсти патронов в карманах… патронов, пожалуй, слишком много, потому что я подросток, немудрено разволноваться, что их не хватит, и патроны тянут меня к земле.
Карманы набиты таким грузом свинца, что я почти как глубоководный ныряльщик. Иногда я даже хожу смешно, потому что в карманах слишком много патронов.
На мосту я всегда один, и всегда над мостом высоко-высоко летит к озеру стайка диких уток.
Иногда я смотрю на дорогу, не едет ли машина, и если машина не едет, стреляю в уток, но они слишком высоко, и мой выстрел ничего не сделает, разве что досадит им чуть-чуть.
Иногда едет машина, и я просто смотрю, как утки летят вдоль реки, а выстрел оставляю при себе. Вдруг едет помощник шерифа или егерь? Где-то у меня в голове сидит мысль, что с моста стрелять уток нельзя.
Интересно, правда ли.
Иногда я не смотрю, едет ли по дороге машина. Утки слишком высоко, до них не добьешь. Я знаю, что зря потрачу патрон, так что пусть себе летят.
Утки – всегда стая жирных крякв, только что из Канады.
Иногда я иду через крошечный городишко Эльмира, и он очень тих, потому что утро совсем раннее, и забыт Богом под дождем или на морозе.
Каждый раз, проходя через Эльмиру, я останавливаюсь и смотрю на местную среднюю школу. Классы всегда пусты, внутри темно. Кажется, там вообще не учатся, и темнота никогда не уходит, потому что нет причин зажигать свет.
Иногда я не иду в Эльмиру. Я перелезаю деревянную черную изгородь и иду по топкому полю, мимо просветленного ветхого сарая вдоль реки к озеру, надеясь на хорошую утиную охоту.
Всякий раз зря.
Эльмира очень красивая, но с охотой мне там не везет.
Я всегда еду в Эльмиру стопом миль двадцать. Стою на морозе или под дождем, с дробовиком, в королевском одеянии для утиной охоты, люди останавливаются и подбирают меня – так я и попадаю в Эльмиру.
– Куда едешь? – спрашивают они, когда я залезаю в машину. Я сижу рядом, дробовик скипетром балансирует между ног, и стволы целятся в крышу. Ружье наклонено, стволы целятся в крышу над пассажиром, а пассажир всегда я.
– В Эльмиру.
Кофе
Иногда жизнь сводится к банальному кофе – и к той степени близости, до которой чашка кофе позволяет дойти. Однажды я где-то читал о кофе. Дескать, полезен и стимулирует организм.
Сперва я подумал, что странно сводить все лишь к этому – странно и как-то невкусно; однако со временем стал замечать, что в каком-то, пускай не очень широком смысле, это действительно так. Сейчас объясню.
Вчера утром я отправился к одной девушке. Она мне нравится. Что бы ни связывало нас когда-то – всё теперь в прошлом. Ей наплевать на меня. Я упустил ее и теперь жалею об этом.
Я позвонил и в ожидании замер на лестнице. Было слышно, как она двигается там, наверху. Судя по звукам, только что встала. Я ее разбудил.
Потом она стала спускаться. Ее приближение я ощущал всем нутром. С каждым ее шагом мои кишки напрягались, притягивая ее все ближе к двери и заставляя-таки мне открыть. Она увидела меня, и это ее не обрадовало.
А когда-то давным-давно это обрадовало ее очень сильно. На прошлой неделе. А я все пытаюсь понять, куда это делось, притворяясь наивным.
– Как-то мне странно сейчас, – сказала она. – Я не хочу разговаривать.
– А я хочу кофе, – сказал я, потому что именно кофе хотел сейчас меньше всего на свете. Я сказал это так, словно зачитывал чужую телеграмму – от человека, который действительно хотел чашку кофе, а на остальное ему наплевать.
– Хорошо, – сказала она.
Я поднялся за ней по ступенькам. Все было нелепо. Она еле успела одеться, и одежда еще не приспособилась к ее телу. О ее заднице я рассказал бы отдельно. Мы прошли в кухню.
Она взяла с полки банку растворимого кофе и выставила на стол. Поместила рядом чашку и ложечку. Я поглядел на все это. Она водрузила на плиту кастрюлю с водой и разожгла под ней огонь.
За все это время она не сказала ни слова. Одежда приспособилась-таки к ее телу. Я – никогда. Она вышла из кухни.
Затем спустилась по лестнице и вышла наружу проверить, нет ли почты. Не помню, чтобы я заметил что-нибудь в ящике. Она поднялась обратно и ушла в соседнюю комнату. И закрыла за собой дверь. Я поглядел на кастрюлю с водой.
Я знал, что пройдет целый год прежде, чем вода закипит. Теперь стоял октябрь, и в кастрюле было слишком много воды. Вот в чем проблема. Я слил полкастрюли в раковину.
Теперь вода должна закипеть быстрее. Через каких-нибудь полгода. Дом молчал.
Я выглянул на задний двор. Там стояли пакеты с мусором. Я поглядел на мусор – и исследовал все упаковки, ошметки и прочий хлам, пытаясь вычислить, что она ела все это время. Я ничего не понял.
Наступил март. Вода начала закипать. Я обрадовался.
Я поглядел на стол. Банка растворимого кофе, пустая чашка и ложка напоминали набор инструментов могильщика. Все, что вам нужно для приготовления одной чашки кофе.
Десять минут спустя, уходя из этого дома с чашкой кофе, погребенного во мне, как в могиле, я сказал ей:
– Спасибо за кофе.
– Пожалуйста, – ответила она. Через закрытую дверь. Словно зачитывала ответную телеграмму. Мне действительно пора было уходить.
Больше в тот день я не готовил кофе. И ощущал себя очень легко. Пришел вечер, я поужинал в ресторане и отправился в бар. Что-то выпил, с кем-то поговорил.
Обычные ребята за стойкой, обычная болтовня в баре. Ничего не запомнилось, бар закрылся. Два часа ночи. Мне захотелось проветриться. В Сан-Франциско стояли колотун и туман. Я поражался туману и ощущал себя очень живым и раздетым.
Я решил навестить еще одну девушку. С ней мы не были друзьями вот уже больше года. А однажды были очень близки. Мне захотелось узнать, о чем она сейчас думает.
Я пришел к ее дому. Звонка на ее двери не было. Уже небольшая победа. Неплохое занятие – вести счет своих небольших побед. Я, по крайней мере, веду.
Она отворила. Еле прикрывшись спереди халатиком. Она увидела меня и не поверила, что это я.
– Что тебе нужно? – спросила она, поверив-таки, что это я. Я вошел.
Она посторонилась и закрыла дверь, повернувшись так, чтобы я увидел ее профиль. Даже не позаботилась завернуться в халатик полностью. Просто прикрывалась им спереди, и всё.
Я видел линию ее тела, ничем не прерываемую, от головы до пят. Выглядело как-то странно. Возможно, потому, что было уже слишком поздно.
– Чего ты хочешь? – спросила она.
– Я хочу кофе, – сказал я. Какой все-таки дурацкий ответ, если кофе – совсем не то, чего действительно хочешь.
Она посмотрела на меня и опять показала мне профиль. Мой приход ее вовсе не радовал. Пусть наша великая медицина доказывает, что время лечит. Я скользнул глазами по безупречной линии ее тела.
– Как насчет чашечки кофе? – спросил я. – Я хочу поговорить с тобой. Мы не разговаривали уже тысячу лет.
Она поглядела на меня и опять повернулась в профиль. Я все глядел на линию ее тела. Плохи дела.
– Слишком поздно, – сказала она. – Завтра мне рано вставать. Хочешь кофе – там растворимый на кухне. Я пошла спать.
Свет на кухне еще горел. Я заглянул через коридор на кухню. Мне больше не хотелось идти на очередную кухню и готовить очередной кофе для себя самого. Вообще расхотелось куда-то идти и просить кого-то о кофе.
Я понял, что прошедший день обернулся каким-то странным паломничеством – хотя я вовсе не это имел в виду. Слава богу, хоть на этом столе я не обнаружил банки кофе и пустой белой чашки с ложечкой.
Говорят, весной голова молодого мужчины заполняется фантазиями о любви. Останься у него чуть больше времени – кто знает, может, там хватило бы места и на чашку кофе?
Утраченные главы «Рыбалки в Америке». «Речушка Рембрандта» и «Сток Карфагена»
Две эти главы потерялись в конце зимы – начале весны 1961 года. Я их везде искал, но нигде не мог найти. Понятия не имею, почему не переписал их заново, как только понял, что они потерялись. Загадка, что и говорить, но я этого не сделал, и теперь, восемь лет спустя, решил вернуться в ту зиму, когда мне было двадцать шесть, я жил в Сан-Франциско на Гренич-стрит, был женат, у меня имелась малышка-дочь, а я написал эти две главы во имя ви́дения Америки и потом их потерял. Теперь я туда возвращаюсь – посмотрим, удастся ли мне их отыскать.
Речушка РембрандтаРечушка Рембрандта выглядела в точности как ее название и протекала в заброшенной местности, где зимы стояли очень гадкие. Речушка начиналась на высокогорном лугу, окруженном соснами. Настоящего света дня после этого она, пожалуй, и не видела, поскольку, собравшись в один поток из маленьких луговых ручейков, стекала среди сосен в темную чащобу каньона, тянувшегося по краю гор.
Речушку наполняла маленькая форель – такая дикая, что почти не боялась, если подходишь к воде, останавливаешься и смотришь на рыбок.
Я никогда не ловил ее – ни в классическом, ни даже в функциональном смысле. Да и вообще знаю про эту речушку только потому, что мы ставили на ней палатку, когда уходили охотиться на оленей.
Нет, для меня эта речка не была рыбной – мы лишь брали из нее воду для лагеря, а носил ее, кажется, в основном я. А также мыл в этой речке горы посуды, потому что был совсем подростком, и легче заставить это делать меня, чем мужиков, которые старше и мудрее: им требовалось время, чтобы пораскинуть мозгами о том, куда могут забрести олени, а также выпить виски – оно, кажется, помогало течь мыслям об охоте и других вещах.
– Эй, пацан, вытаскивай-ка голову из задницы да сходи сделай чего-нибудь с этими тарелками, – так говорил один из старейшин охоты. Голос его до сих пор раздается на тропах охотничьего мрамора, цветного от звуков.
Я часто вспоминаю речушку Рембрандта – она была похожа на картину, что висит в самом большом музее мира, чья крыша достает до звезд, а галереям ведомо мельтешенье комет.
Ловил рыбу я в ней всего один раз.
Снастей у меня не было – только «винчестер» 30:30, – поэтому я взял ржавый гнутый гвоздь, привязал к нему белую бечевку, точно призрак своего детства, и попробовал поймать на него форельку, насадив на гвоздь кусок оленины. Почти поймал – выхватил из воды, но она сорвалась с гвоздя и снова упала в картину, а та унесла ее прочь с моих глаз, снова вернула в Семнадцатый Век, где место ей – на мольберте человека по фамилии Рембрандт.
Сток КарфагенаРека Карфаген с ревом вырывалась из-под земли: ее источник напоминал дикий колодец. После чего она заносчиво текла десяток миль по открытому каньону, а затем просто исчезала в земле. Это место называлось Сток Карфагена.
Река любила всем рассказывать (а все – это небо, ветер, несколько деревьев, что росли рядом, птицы, олени и даже звезды, как ни трудно в это поверить), до чего она великая.
– Я с ревом вырываюсь из-под земли и с ревом возвращаюсь под землю. Я – владычица собственных вод. Я себе и мать, и отец. Мне не нужна ни единая капля дождя. Поглядите на мои гладкие, сильные, белые мускулы. Я сама себе будущее!
Такие разговоры вела река Карфаген тысячи лет. Что и говорить: всем (а все – это небо и т. д.) она осточертела по самое не хочу.
Птицы и олени старались держаться от этих мест как можно дальше. Звездам пришлось занять выжидательную позицию, а ветра в этой местности стало заметно меньше; ветра́ испускала только река Карфаген.
Даже форель, что обитала в ней, стыдилась реки и всегда радовалась, что нужно умирать. Ничего нет хуже, чем жить в хвастливой реке.
А однажды река Карфаген, по обыкновению хвалясь своим величием, на полуслове пересохла:
– Я – владычица… – И просто остановилась.
Невероятно. Ни капли воды больше не выходило из земли, а сток ее вскоре превратился в струйку, сочившуюся, будто сопливый пацанячий нос.
По иронии воды вся гордыня реки Карфаген пропала и в каньон вернулось хорошее настроение. Сюда вдруг снова слетелись счастливые птицы – посмотреть, что стало с этим местом, – поднялся сильный ветер, и даже звезды, кажется, высыпали на небо раньше – кинуть взгляд вниз и блаженно улыбнуться.
В нескольких милях отсюда, в горах бушевала летняя гроза, и река Карфаген взмолилась, чтобы ливень прилетел и спас ее.
– Прошу тебя, – попросила река, хотя от ее голоса осталась лишь тень шепота. – Помоги. Мне нужна вода. Моя форель умирает. Посмотри только на этих бедных рыбок.
Гроза посмотрела на форель. Рыбки были очень довольны тем, что всё так обернулось, хотя скоро все они умрут.
Грозе пришлось сочинить какую-то невероятно запутанную историю о том, как ей нужно навестить чью-то бабушку, у которой сломался морозильник для мороженого, и, чтобы его починить, зачем-то требуется очень много дождей.
– Но, может быть, через несколько месяцев нам удастся встретиться. Перед тем, как прийти, я позвоню тебе по телефону.
А на следующий день, конечно, было 17 августа 1921 года, и на машинах съехалось множество народу из города и прочих мест. Они смотрели на бывшую реку и в изумлении качали головами. К тому же, с собою у них была масса корзинок с провизией.
В местной газете появилась статья с двумя фотографиями: на них изображались две пустые дыры в земле, которые раньше были источником и стоком реки Карфаген. Дыры выглядели, как ноздри.
Еще на одном снимке на лошади сидел ковбой. В одной руке у него был зонтик, а другой он показывал в глубины Стока Карфагена. Выглядел очень серьезно. Фотография должна была смешить людей, и у нее это прекрасно получалось.
Ну вот, теперь у вас есть утраченные главы «Рыбалки в Америке». По стилю они, наверное, немного отличаются, потому что и я сам сейчас изменился – мне тридцать четыре года. К тому же, в самом начале я, наверное, и написал их немного иначе. Интересно, что в 1961 году переписывать их я не стал, а дожидался 4 декабря 1969 года, почти десять лет спустя, чтобы вернуться и попробовать забрать их с собой.
Погода в Сан-Франциско
Стоял облачный день, и мясник-итальянец продавал фунт мяса очень старой женщине, только скажите на милость, на что такой старухе сдался фунт мяса?
Куда ей столько мяса – она же совсем старая? Может, она брала его для пчелиного роя, дома у нее этого мяса ждут пять сотен золотых пчел, набитых медом.
– Вам какого сегодня мяса? – спросил мясник. – У нас есть неплохой фарш. Постный.
– Не знаю, – ответила она. – Фарш – не совсем то.
– Ну да, постный. Сам рубил. И положил побольше постного мяса.
– Фарш – совсем не то, – сказала она.
– Ну да, – сказал мясник. – Фарш сегодня – самое оно. Вы в окно посмотрите. Облачно. У облаков внутри дождь. Я бы взял фарш, – сказал он.
– Нет, – сказала она. – Не хочу фарша и не думаю, что пойдет дождь. Я думаю, вылезет солнце, день будет прекрасный, а я хочу фунт печенки.
Мясника это потрясло. Продавать печенку старухам, считал он, никуда не годится. Как-то это его нервировало. Расхотелось с ней разговаривать.
Он неохотно отрезал фунт печенки от огромной красной глыбы, завернул его в белую бумагу и положил в коричневый пакет. Все это было ему крайне неприятно.
Потом он взял у старухи деньги, отсчитал сдачу и ретировался в отдел птицы, чтобы как-то взять себя в руки.
Шевеля своими костями, точно корабельными парусами, старуха вышла на улицу. Она победно несла печенку до подножия очень крутого холма.
Она взбиралась на холм с трудом – она же была очень стара. Уставала, приходилось останавливаться. Пока не добралась до вершины, отдыхала много раз.
На вершине холма стоял старухин дом: высокий, каких много в Сан-Франциско, с эркерами, отражавшими облачный день.
Она открыла сумочку, что была как осеннее поле, и вблизи от упавших веток старой яблони нашла ключи.
Затем открыла дверь. Дверь была ей любимым надежным другом. Старуха кивнула двери, вошла в дом и по длинному коридору направилась в комнату, полную пчел.
Пчелы были повсюду. Пчелы на стульях. Пчелы на фотографии покойных родителей. Пчелы на занавесках. Пчелы на допотопном радио, что когда-то слушало тридцатые годы. Пчелы на старухиной расческе и щетке, точно в сотах.
Пчелы бросились к старухе и преданно толпились вокруг, пока она разворачивала печенку и выкладывала ее на облачное серебряное блюдо, что вскоре прояснилось солнечным днем.
Сложные банковские загвоздки
У меня есть счет в банке, потому что я устал закапывать деньги на заднем дворе, а кроме того произошло кое-что еще. Несколько лет назад я закапывал там деньги и наткнулся на человеческий скелет.
У скелета в одной руке были остатки лопаты, а в другой – полурастворившаяся банка кофе. Банка была набита какой-то ржавой пылью – наверное, когда-то ею были деньги. Поэтому я завел себе банковский счет.
Но и с ним, по большей части, не очень хорошо получается. Когда я стою в очереди к окошечку, передо мной почти всегда оказываются люди со сложными банковскими загвоздками. И мне приходится стоять и терпеть эти карикатурные финансовые распятия Америки.
Происходит примерно вот как. Передо мною стоят три человека. Мне нужно обналичить небольшой чек. Банковское обслуживание меня займет не больше минуты. Чек уже подписан. Он у меня в руке и смотрит прямо на кассиршу.
А в этот миг обслуживают клиента – даму пятидесяти лет. На ней длинное черное пальто, хотя стоит жара. Похоже, в пальто ей очень удобно, к тому же от нее странно пахнет. Несколько секунд я думаю об этом, а потом понимаю, что это – первый признак сложной банковской загвоздки.
Затем она лезет в складки своего пальто и извлекает тень холодильника, набитого прокисшим молоком и морковкой, которой уже исполнился год. Она хочет положить эту тень на свой сберегательный счет. Бланк уже заполнила.
Я задираю голову к потолку банка и делаю вид, что это Сикстинская капелла.
Старушка изо всех сил вырывается, когда ее уволакивают. Весь пол в крови. Она откусила охраннику ухо.
Мужества ей не занимать, это уж точно.
Чек у меня в руке – на десять долларов.
Следующие два человека в очереди – на самом деле один. Это пара сиамских близнецов, но у каждого – своя банковская книжка.
Один кладет на сберегательный счет восемьдесят два доллара, а второй свой закрывает. Кассирша отсчитывает ему 3574 доллара, и он кладет деньги в карман штанов на свой половине.
На все это уходит время. Я снова смотрю на потолок банка, но уже не могу притворяться, что это Сикстинская капелла. Чек мой весь пропитался по́том, будто его выписали в 1929 году.
Последняя личность между мной и окошечком – совершенно безликая. Настолько безликая, что едва ли вообще там стоит.
Личность выкладывает на стойку 237 чеков и хочет положить их на текущий счет. Общая сумма на них – 489 000 долларов. Кроме того, у личности есть 611 чеков, которые она хочет положить на сберегательный счет. Эти – на сумму 1 754 961 доллар.
Его чеки застилают всю стойку, как особенно удачная вьюга. Кассирша начинает свои подсчеты так, будто готовится бежать на очень длинную дистанцию, а я стою и думаю, что скелет на заднем дворе, наверное, все-таки принял верное решение.
Высотка в Сингапуре
Только высотка в Сингапуре сообщает какую-то красоту этому дню в Сан-Франциско, где я иду по улице – мне кошмарно и я наблюдаю, как мой разум функционирует с коэффициентом полезного действия жидкого карандаша.
Мимо проходит молодая мамаша – она разговаривает с маленькой девочкой, которая, на самом деле, еще слишком мала для бесед, но все равно рассказывает о чем-то мамаше, причем весьма возбужденно. Я не могу разобрать, что она говорит, такая она маленькая.
То есть, совсем еще малышка.
А потом мамаша ей отвечает, и мой день взрывается дурковатым фейерверком.
– Это была высотка в Сингапуре, – говорит она маленькой девочке, а та отвечает ей с большим воодушевлением, точно ярко раскрашенная звуками монетка:
– Да, это была высотка в Сингапуре!
Неограниченный запас 35-миллиметровой пленки
Люди не могут понять, зачем он с ней. Не доходит. Он такой симпатичный, а она – никакая. «Что он в ней нашел?» – спрашивают они себя и окружающих. Они знают, что дело не в том, как она готовит, потому что стряпуха из нее неважная. Наверное, единственное, что она может, – сварганить более-менее достойный мясной рулет. Она готовит его по вечерам каждый вторник, поэтому в среду на обед у него – сэндвич с мясным рулетом. Проходят годы. Они остаются вместе, а все пары их друзей распадаются.