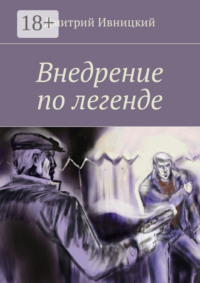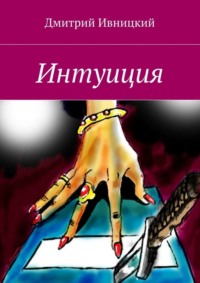Полная версия
Сокровища Кондратия Булавина
Он подошёл к двери, заглянув в другую комнату и закрыв, подошёл вплотную к Зерщикову и тихо произнёс:
– Я случайно подслушал разговор Булавина со старым казаком Остапом. Так вот, старик сообщил ему, где Степан Разин спрятал корабль с золотом, вернувшись из персидского похода. Атаман дал поручение старшине Копееву возглавить отряд из надёжных казаков и доставить сокровища Разина в надёжное место. Копеев, с отрядом в тысячу человек выехал из Черкасска, и с ним этот старый казак.
– Ты узнал, куда Копеев должен доставить золото?
– Нет, это место при разговоре они не называли. Как видно, Копеев не в первый раз доставляет туда серебро и золото. Они выехали два часа назад и ещё не ушли далеко, я послал за ними десяток верных мне казаков, чтобы они проследили их путь. Как только десятник Горовой узнает место захоронения клада, он направит своих людей ко мне.
– Слушай, Степан, нам с тобой невозможно сейчас покидать Черкасск, иначе мы сорвём наши планы по устранению Булавина. Но и золото упускать нельзя. Сейчас у нас нет такого количества надёжных казаков, чтобы разбить отряд Копеева, когда он будет перевозить золото. Остаётся одно: обратиться за помощью к Чакдор-Джабу – старшему сыну калмыцкого хана Аюки. У меня с ним давние дела, и он мне во многом обязан. Конечно, придётся с ним поделиться, но другого варианта у нас нет. Кого пошлём к нему?
– Илья Григорьич, я знал о твоей дружбе с ханским сыном и предвидел, что кого-то пошлём к нему, поэтому пришёл к тебе с надёжным казаком, он ждёт у плетня.
– Ты уверен в нём, ему точно можно доверить такое дело?
– Этот казак мой «односум» и предан мне, да и должны же мы кого-то направить к Чакдор-Джабу.
– Степан, иди, зови его!
Вскоре, вслед за Ананьиным вошёл в избу невысокий, но крепко сложённый казак. В свете лучины блеснула золотая серьга в ухе. Зерщиков, присмотревшись к нему, узнал в нём сотника Петра Онищенко.
– Пётр, ты готов сейчас отправиться к калмыкам? – спросил он его.
– Меня Степан предупредил, я уже собрался в дорогу и готов выехать хоть сейчас.
– Ты знаешь цель поездки?
– Просить о помощи против Кондратки!
– Это не всё! То, что тебе станет известно, ты должен сохранить в тайне, а поэтому должен поклясться на иконе нашего Господа, – промолвил Зерщиков, снимая из святого угла икону.
– Клянусь на иконе Иисуса Христа содержать в тайне сведения, доверенные мне братьями—казаками! – поклялся Онищенко, перекрестившись три раза, целуя икону.
– А теперь, Петро, слушай, что тебе предстоит сделать. Сегодня ты направишься в калмыцкое войско к его военачальнику Чакдор-Джабу. Покажешь ему вот этот перстень и передашь ему письмо от меня. На словах передашь, чтобы он со своим войском двигался по берегу Волги, от Царицына вверх по течению, где его встретят наши казаки и укажут, куда везут золото…
…Данила Копеев был предусмотрительный и опытный воин. Жизнь его помотала. Был он в разных ситуациях и даже побывал в рабстве на турецких галерах, где ему отрезали уши за попытки бежать. Направляясь к месту, куда вёл их дед Остап, он направил вперёд на пути движения их отряда полусотню казаков, чтобы не нарваться на царские войска или крымчаков, вторую полусотню он выставил прикрытием, наказав полусотнику Григорию Оберегу задерживать всех, кто движется по их следу.
Обнаружив слежку десятника Горового и его семерых казаков, полусотня Оберега задержала их на вторые сутки. К этому времени двоих казаков десятник успел направить с донесением в Черкасск к Ананьеву. Их доставили к Копееву. На допросе только один казак признался, что их послали проследить путь отряда, но он не знал, кто из старшин в окружении Булавина предатель. Зато он сообщил, что слышал разговор Степана Ананьина с сотником Петром Онищенко, чтобы тот готовился к поездке к калмыкам – просить у них помощи. Какое содействие должны были оказать калмыки Ананьеву, он не знал. Горовой ничего не сказал даже под пытками. Атаман собрал круг из сотников, полусотников и десятников и, в соответствии с единогласным решением, предателей казнили.
Копеев понял, что о кладе стало известно противникам атамана Булавина, и они хотят сообщить о золоте калмыцкому хану, а значит, за ними уже идёт охота. Данила принимает решение перехватить Онищенко и отвлечь противника, охотившегося за золотом. Во главе сотни он сам выехал на поимку сотника Онищенко, и это ему удаётся. Под пыткой тот признался, что ехал к старшему сыну калмыцкого хана Чакдор-Джабу по поручению Ананьина и Зерщикова, чтобы вместе с ним завладеть золотом. Рассказал, что при встрече должен показать тому перстень и передать письмо.
Узнав об изменниках, Копеев направляет в Черкасск двух верных казаков с письмом, в котором сообщал Булавину о предательстве старшины Зерщикова и сотника Ананьина, но в пути они нарвались на передовой отряд царских войск и были повешены.
Опасаясь, что Зерщиков может направить к Чакдор-Джабу других гонцов, Данила продиктовал текст письма, казаку, который хорошо знал грамоту и сумел написать похожим почерком. В письме также сообщили о кладе, но указали, что спрятан он недалеко от Астрахани, вверх по течению Волги. С этой грамотой к ханскому сыну отправился десятник Иван Верховой, товарищ и «односум» Копеева, и через несколько дней оно попало в руки адресата.
Прочитав письмо, Чакдор-Джабу тотчас собрал две тысячи воинов, переправился через Волгу в районе Царицына и двинул своё войско по берегу, вниз по течению, к Астрахани. Он, считая, что клад уже в его руках, размышлял: «Зачем делиться с Зершиковым, мне самому необходимо иметь много золота, а это власть. Только тогда я смогу отправить отца на покой, подчиню себе всех калмыков и образую своё государство, а казаки будут мне служить»…
…В это время к Черкасску приближались карательные войска Петра I, и войсковой атаман Булавин стал готовить восставших казаков для их отражения. Прежде всего, следовало обезопасить свои тылы и захватить государевы крепости Азов и Таганрог. Начать решили с Азова.
Казачье войско, ушедшее под Азов, возглавил сподвижник Булавина – Лукьян Хохлач. Атаман остался в не спокойном Черкасске. Проводив войско под Азов, Булавин вернулся в свой курень. Июльская духота давила, изнуряя тело, но ещё тяжелее было на душе, тревожные предчувствия томили, не давая ни секунды успокоения. И вот беда: в Черкасск прискакал сын атамана Семена Драного и сообщил, что войско его отца разгромлено государевыми полками у Кривой Луки, а сам он пал в бою.
Беда не приходит одна, утром седьмого июля одна тысяча семьсот восьмого года в Черкасск змеей вползла весть о разгроме повстанцев под Азовом. Знойное июльское утро вставало над донской столицей, суля прекрасный день, но Булавин знал, что быть буре – теперь черкасские казаки-заговорщики начнут действовать. Он велел собрать верных казаков, а сам стал готовиться к обороне. Вскоре к куреню начали торопливо сбегаться верные атаману казаки, вооружённые ружьями, пистолетами, саблями. Набралось три десятка. Булавин оглядел всех. У узкого оконца, забранного решёткой, стоял с пистолетом в руке брат Иван. Сын Никита, которому шёл восемнадцатый год, с Мишкой Драным занял позицию у окна. Неторопливо устраивались у окон с ружьями и пистолетами бывалые казаки – Михайла Голубятников и Кирюша Курганов с товарищами. В дальнем углу куреня суетливо и нервно ладил оружие Степан Ананьин – есаул, который последние дни не спускал с Булавина глаз. Не знал Кондрат, что Степан был злейшим его врагом и предателем. Медленно текли минуты, приближаясь к роковой развязке.
Заговорщики из числа черкасских казаков, у которых верховодили Илья Зерщиков, Тимофей Соколов и Карп Казанкин, собрав сотню единомышленников, подошли и окружили булавинский курень. На предложение сдаться и принести повинную государю Булавин ответил выстрелами. Разгорелся бой. Домовитые казаки подобрались к металлической двери куреня, начали ломиться внутрь. Тяжело забухали приклады ружей, зловещим эхом отдаваясь внутри куреня. Но двери не поддавались. Заговорщики отошли на безопасное расстояние, начали о чём-то совещаться. Потом опять начали штурм куреня. Стоя у окна, Булавин вёл прицельный огонь: двое нападавших распластались под окнами. Вдруг наступила гнетущая тишина.
– Пушку тащат злодеи! – обречённо выдавил Никита Булавин, выглянув в окно. В следующий миг ядро с лязгом врезалось в дверь, покорежив её и сорвав с петель. Заговорщики плотной толпой ринулись внутрь куреня. Завязался рукопашный бой. В суматохе никто не заметил, как есаул Степан Ананьин подошёл к Булавину и, приставив тяжёлый пистолет к левому виску атамана, быстро выстрелил. Кондрат тяжело упал на пол, кровь густой тёмной струей потекла на доски. А в комнате заговорщики уже били и вязали булавинцев.
Тело Булавина выволокли из куреня, а потом одного за другим вывели избитых и связанных булавинцев. Заговорщики тут же собрали Круг и «выкрикнули» атаманом Илью Зерщикова. Призвав писаря, новый атаман продиктовал письмо азовскому губернатору, описав штурм булавинского куреня. Прочитав его, он добавил:
– Булавин, видя свою погибель, из пистоли убил сам себя до смерти.
Так, с легкой руки Зерщикова, и пошла гулять по России версия о самоубийстве Булавина, кочуя в течение столетий из одного повествования в другое. На самом деле, как свидетельствуют документы, Кондратий Булавин был убит, и убийцей был есаул Степан Ананьин. А самоубийцей Булавина объявили, чтобы опорочить его имя, поскольку самоубийство считалось тяжким грехом…
…Через два месяца отряд Копеева соединился с войском казаков, которое возглавил Некрасов после смерти Булавина. Они продолжили борьбу с царской армией. Данила сообщил атаману, что по заданию Кондратия им найдено золото и серебро Степана Разина. Клад, указанный дедом Остапом был доставлен в указанное Булавиным место, где спрятан. Дед Остап не выдержал тягостей и умер в пути…
Глава третья
Лиля проснулась, когда луч солнца осветил её лицо. Она открыла глаза, осмотрелась и вспомнила всё. Впервые, за последний год у неё не было страха, а, наоборот, чувствовала себя защищённой. После последних событий это была первая ночь, когда она быстро уснула и спала спокойно, без кошмарных сновидений.
Девушка привстала, взяла сотовый телефон, посмотрела время. «Вот это я поспала, уже без семи минут десять», – промелькнула у неё мысль, и, не увидев светящихся палочек, с огорчением подумала: «И связи здесь нет!».
Она встала с кровати, надела кофточку, джинсы и, обувшись в кроссовки, подошла к окну, через которое увидела Копеева, склонившегося под задним капотом автомобиля.
«Наверно, это и есть „Запорожец“, о котором Иван говорил вчера, я таких на улице никогда не видела», – подумала Лиля и тут поймала себя на мысли, что она назвала про себя своего спасителя по имени, хотя он был старше её в два раза.
Вот Иван выпрямился и пошёл к открытой дверце автомобиля. Был он без рубашки, и девушка невольно засмотрелась на его накачанный торс.
«А ведь он красивый мужчина и выглядит моложаво», – вновь мелькнула мысль у девушки.
Она взяла полотенце, вышла из дома и пошла в направления летнего душа, намереваясь по пути посетить дворовой туалет. Проходя мимо автомобиля, девушка поздоровалась и поинтересовалась:
– Иван Николаевич, вы решили ремонтировать этот раритет?
– Доброе утро, Лиля! Ну, как выспалась?
– Выспалась! Спала крепко и спокойно, под вашей защитой. Давно так не спала. Спасибо вам, Иван Николаевич, вы вселили в меня уверенность в завтрашнем дне!
– Да мне—то за что? Просто здесь такой чистый и целебный воздух, он и даёт крепкий сон. А вот насчёт раритета вы, Лилечка, зря иронизируете, я уже привёл «Запорожец» в порядок, и этот редкий по данному времени автомобиль ещё послужит и даст фору некоторым современным транспортным средствам.
После этих слов он сел за руль и, включив зажигание, с первых движений стартера завёл двигатель.
– Я училась в школе на водительские права и получила их, но не знала, что имеются автомобили, у которых двигатель сзади.
– Да, у «Запорожца» двигатель сзади, в чём его преимущество, ремонтировать легче, и своим, хотя и небольшим весом придаёт автомобилю хорошую проходимость по грунтовой дороге после дождя. Ты, Лиля, иди в душ, а я пока помою машину. Потом будем завтракать. Затем я съезжу в город, повстречаюсь с приятелями и выясню обстановку по твоим проблемам. Ты останешься под защитой Макара Фёдоровича, он должен скоро подойти.
– А как же вы выедете отсюда, я ещё вчера заметила, что дорога заросла кустарником и бурьяном.
– Ну, это препятствие мы с Макаром Фёдоровичем уже устранили с утра пораньше. И представь, только рассвело, как старик уже был здесь и разбудил меня, а то, возможно я бы спал до этого времени…
Иван ещё мыл машину, набирая воду из колодца, кода подошёл дед Макар.
– А где Лиля?
– Она в душе!
– Я принёс куриные яйца, пойду, поджарю вам на завтрак, а ты, Ванятка, пока мой свою машину.
– Спасибо тебе, Макар Фёдорович. Если тебе не трудно, согрей ещё и воду в чайнике.
– Всё сделаю, товарищ полковник! – шутливо козырнул старик и пошёл в дом…
Когда Иван и Лиля вошли в дом, их встретил манящий запах жареной ветчины. В кухне хлопотал старик. Услышав звук открывшейся входной двери, он вышел в зал с большой сковородой, со скворчавшей на ней яичницей и поставил её на подставку, лежавшую на столе. Здесь же уже стояла миска с нарезанным хлебом и три тарелки с вилками.
– Вовремя вы зашли, как раз и яичница подоспела. Ты, Иван Николаевич, не обижайся, я сам похозяйничал в твоих запасах, нашёл банку с ветчиной, на ней и пожарил яйца. Присаживайтесь к столу, а я сейчас принесу чайник, он уже должен закипеть.
Позавтракав, Копеев уехал, а дед Макар ушёл во двор чинить в погребе двери.
Оставшись в доме одна, Лиля, как-то сразу почувствовала одиночество, а в душе появилась какая-то тревога. Девушка убрала со стола и, чтобы унять тревогу и отвлечься, принялась гладить занавески, постиранные вчера вечером. Но легче не стало, она вновь стала осмысливать и анализировать вчерашние события: «Что им нужно, почему они меня преследуют? Кто стоит за теми дебилами, которые хотели меня увезти с автостанции? По-видимому, это тот, который звонил мне и угрожал, какой у него неприятный голос. Надеюсь, он меня здесь не найдёт. Но я не могу здесь долго отсиживаться, ведь мне скоро ехать на занятия в университет. Постой, какой университет, если не оплачен следующий учебный курс, а денег—то у меня нет. Боже, что же мне делать! Папочка, зачем ты оставил меня одну, как же я теперь буду жить без тебя?»
От последних мыслей у девушки набежали слёзы на глаза, она в бессилии прилегла на диван, поджав ноги и уткнувшись в подушку, разрыдалась. Она плакала минут десять, а в голове роились, какие-то несвязанные мысли. Потом, немного успокоившись, Лиля села и с тоской в душе вспомнила маму. Она её плохо помнила, её не стало, когда Лиле было всего восемь лет. Но папа много рассказывал ей о себе и о маме. Девушка в подробностях помнила его рассказы о ней и как они познакомились…
…Павлов Саша окончил десять классов с золотой медалью в Озерковской школе, а жил он с родителями в небольшом хуторе Казачье. Ему приходилось каждый день преодолевать пять километров, путь от их хутора до Озерков. Все мальчишки и девчонки с Казачьего, учившиеся в школе, жили в интернате. Только Саша так и не смог привыкнуть к казённому дому и ходил в школу каждый день один, весной и осенью – на велосипеде, а зимой – на лыжах. Его без экзаменов приняли в Московский археологический институт. Мальчик с детства стал увлекаться историей и археологическими открытиями, когда случайно нашёл у озера, в куче земли, обрушившейся с высокого берегового откоса, странный камень, заострённый с одной стороны и имеющий посредине отверстие. Мальчик показал свою находку учителю истории, оказалось, что это каменный топор первобытного человека. Он потом стал храниться в областном музее, вместе с другими доисторическими орудиями труда, найденными у озера приехавшими археологами. Оказалось, что в том месте находилась стоянка первобытного человека. Саше, как нашедшему первый археологический предмет, разрешили посещать раскопки и даже участвовать в них. Ещё тогда мальчик услышал от начальника экспедиции гипотезу, что где-то невдалеке, возможно, существовала пещера, но её в ближайшей окрестности так и не нашли.
Учился Павлов с охотой, он был постоянным посетителем Государственной библиотеки СССР, не упускал момента побывать в музеях Москвы, но чаще всего посещал археологические. Учиться было тяжело, так как жил на одну стипендию. Отец умер от ран, когда Саше было девятнадцать лет, он уже учился в институте, а родители жили тогда на хуторе Казачье. Саша стал основным помощником мамы, работавшей в полеводческой бригаде колхоза. Денег не хватало, поэтому он по вечерам подрабатывал, приходилось разгружать вагоны. Перед смертью отец передал сыну медальон, наказав беречь его, и икону, висевшую у них в «святом» углу зала. Но ничего не сообщил об их значимости. Потом его мама, перед самой своей смертью, передаст письмо отца, адресованное сыну, из которого он узнает о тайне медальона и иконы, что они являются частью ключа и плана к сокровищам Кондратия Булавина. Но подробности об этих сокровищах отец не сообщил, так как сам не знал, поскольку дед Саши погиб в гражданскую войну и унёс тайну с собой. Вначале Саша не придавал значения сокровищам, о которых узнал из письма, так как, осмотрев медальон и икону, ничего не обнаружил. Но окончив второй курс, он попал в археологическую экспедицию, которая вела раскопки рядом с самым старинным городом донского края – Азовом, бывшим когда-то турецкой крепостью, а ныне являющимся районным центром Ростовской области. Часть участников экспедиции в это же время проводила археологические изыскания в станице Старочеркасской, бывшем городе Черкасск, столице донских казаков в семнадцатом и восемнадцатом веках.
В этой-то экспедиции молодой Павлов узнал многое о восстании казаков, которое возглавил Кондратий Булавин, во времена царствования Петра I. Узнал он, что одним из сподвижников мятежного атамана был старшина Павлов, однофамилец Саши. От жителей станицы он услышал легенды о немалых сокровищах, имевшихся в мятежном войске, и что по приказу атамана из этого золота были отлиты статуи коней в натуральную величину, но никто не знал, где их спрятали казаки.
Парень увлёкся историческим периодом восстания под предводительством Булавина. В один из дней, когда в очередной раз изучал достопримечательные места станицы, он подошёл к Войсковому собору и стал рассматривать старинные пушки и ворота, находящиеся рядом с ним.
– Как я вижу, ты, молодой человек, интересуешься, историей нашего донского края и казачества? – услышал Саша за своей спиной старческий голос.
Он повернулся и встретился взглядом с задорными, выражающими ум их владельца глазами, хотя перед ним стоял старик, с коротко подстриженными совершенно седыми волосами на голове и аккуратной бородкой.
– Я профессор Бобриков, но ко мне можешь обращаться по имени—отчеству – Борис Петрович. Тебя приметил у нас в станице ещё в начале лета, – вновь заговорил он, – и, как понял, интересуешься восстанием наших казаков во времена царя Петра. Расспрашиваешь наших станичников о том периоде. Вот, видишь эти пушки и ворота, а ты знаешь, почему они здесь?
– Нет, не знаю!
– В тридцать седьмом году семнадцатого века наши донские и запорожские казаки под предводительством походного атамана Татаринова отбили у турок их крепость Азов. Они мужественно удерживали этот город более пяти лет. Но когда турецкий султан направил на крепость войско численностью более трёхсот тысяч, имеющее больше одной тысячи пушек, к этому времени в живых осталось чуть более одной тысячи казаков, да и царь Михаил Романов отказался взять город в состав Московского государства, и тогда казаки на Круге решили покинуть крепость. Но, покидая так мужественно защищаемую ими крепость, казаки предварительно вывезли с собой то, что было для них ценно: иконы, церковную утварь, уцелевшие пушки. Когда в июне одна тысяча шестьсот сорок второго года под Азовом вновь показался турецкий флот, последний отряд казаков взорвал остатки крепостных сооружений. Обратно Турция получила лишь развалины и руины, оставшиеся от Азова, и ей пришлось заново отстраивать город. К тому же казаки увезли с собой вот эти крепостные ворота, чтобы не считать крепость взятой.
– А Булавин учувствовал в обороне Азова?
– Нет, он родился значительно позже. А вот казаком он был настоящим, так же крепким духом, как и защитники Азова. И восстание против царских войск он возглавил по зову сердца, но был предан богатеями-казаками и убит. Дом, где подло убили Кондратия Афанасьевича, сохранился до сих пор в нашей станице, в нём сейчас музей. Я родом из этих мест, пятьдесят лет занимаюсь научной и преподавательской работой на историко-филологическом факультете Ростовского государственного университета. Мои научные работы как раз и были о причинах восстания казаков и его поражения. Пойдём, покажу тебе этот дом.
Профессор Бобриков с первого взгляда определял студентов, серьёзно тянувшихся к знаниям и познанию исторических событий. Таким студентам он симпатизировал и всегда находил время на дополнительные занятия с ними. Сейчас, встретив юношу, интересующего историей станицы Старочеркасской и казачества, не прошёл мимо него, решив показать все достопримечательности бывшей столицы донских казаков.
Старик подвёл парня к двухэтажному дому старинной постройки.
– Вот это и есть тот самый дом. В Старочеркасске сохранилось немало старых казачьих домов, они единственные в своём роде. Их архитектурно-конструктивное своеобразие отражает то тревожное время. Это дом-крепость. Видишь, в нём квадратная конфигурация построек, массивные стены с похожими на бойницы окнами. Сводчатый полуподвал и верхний сводчатый этаж. На окнах кованые решётки, а двери были обиты железом.
После Октябрьской революции дом постепенно приходил в упадок и обрастал, искажающими первоначальный облик пристройками. В семидесятые годы дом был включён в состав Старочеркасского музея-заповедника, отреставрирован и восстановлен, но не в своём первоначальном облике, а так, как выглядел с середины девятнадцатого века.
В булавинские времена – на рубеже семнадцатого-восемнадцатого веков – на нём не могло быть, как сейчас, ни внешней лестницы с крыльцом на втором этаже, ни «балясника» по периметру второго этажа. Все эти наружные постройки могли бы только помогать нападавшим врагам в случае защиты этого дома-крепости. В те времена стены были ровными, без каких-либо пристроек, а для сообщения между этажами пользовались внутренней лестницей.
Александр поднялся вслед за стариком по лестнице. Тот открыл дверь и пропустил гостя вперёд.
– Здесь, в комнатах, воссоздали старинную обстановку, а какая была при атамане, никто не знает.
Профессор уделил немало времени для ознакомления с достопримечательностями станицы пытливого юноши, а затем пригласил его к себе домой. Пока он приготавливал чай, Саша рассматривал экспонаты, которые лежали на полках и в шкафах, а также висевшие на стенах. А когда Павлов увидел панно, на котором был изображён олень, пронзённый стрелой, он сразу вспомнил о реликвии своей семьи – медальоне. Саша вспомнил, что на нём имеются похожие элементы изображения с панно.
– Борис Петрович, а что обозначает это изображение оленя на панно? – спросил парень профессора, когда тот зашёл в зал, неся резной, посеребрённый поднос с чайным сервизом.
– А это, юноша, изображение старинной печати войска донского. Знаете, Саша, я дарю вам это панно. Пусть у вас останется память о столице вольных донских казаков…
Уже за столом Саша поинтересовался у Бобрикова:
– Борис Петрович, в станице я много слышал легенд о старинном кладе Булавина, что вы думаете об этом?
– Вам, Саша, я могу сказать так! По логике, в казне войска мятежного атамана было много золота и серебра. Ведь к нему попала казна самого донского войска. Затем они отбили немало золотых и серебряных монет при разгроме царских войск, а потом ведь казаки во время восстания грабили богатых казаков и боярские поместья. Но, по всей видимости, после разгрома булавинских отрядов небольшая часть этих сокровищ припрятана где-нибудь казаками, примкнувшими к восставшим. А основная часть казны, по-моему, всё-таки попала в руки командиров царских войск. Но это моё мнение! Может, легенды и реальны, и до сих пор где-нибудь лежат груды золота и серебра, однако, по всей видимости, вряд ли кто-то сможет их найти…
…По возвращении из экспедиции Саша, сравнив изображение панно с барельефом медальона, определил, что на нём изображена четвёртая часть старинной печати донского казачьего войска. Он пришёл к выводу: в их семье хранилась одна из частей какого-то амулета, а где-то имеются ещё три его части. Запомнились ему и последние слова профессора о кладе.