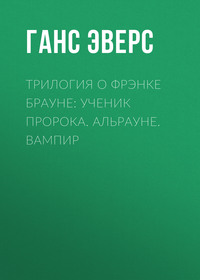Полная версия
Избранные произведения в 2-х томах. Том II. Подменыш (роман). Духовидец (из воспоминаний графа фон О***)
Она сознавала, что пьяна, так порою казалось ей. Затем все снова становилось совершенно ясным. Где же родник? Там, под звездообразным кустом… Там могла бы она напиться воды, свежей, ключевой…
Она снова пошла вверх.
Услыхала какое-то журчание и жужжание. Словно большая жужжащая муха, только сильнее, гораздо сильнее. К тому же – в самом деле слышна какая-то мелодия! Она остановилась, заткнула уши пальцами: не шумит ли у неё в голове?
Снова прислушалась. Нет, нет, жужжало в кустах. Но ведь никакая муха так не жужжит, да и откуда быть ей в лесу? Это могло быть только большое животное, вероятно, птичка? Жужжание очень походило на пение, но никогда она не слыхала такого.
Теперь Эндри слышала уже совершенно ясно: звук исходил из одного и того же места. Наверное, это птичка! Нельзя ли её поймать? Она принесла бы её бабушке – эту жужжащую птичку.
Она сняла халат и приготовилась набросить его на птичку. Остро вглядывалась в кусты, бесшумно скользя туда. Медленно и осторожно, все ближе и ближе, шаг за шагом.
На мху сидел Бартель. Он что-то держал у рта и жужжал. Эндри стояла совсем близко от него.
Бежать хотела она, бежать! Но нет – разве она испугалась? Кого? Бартеля?
Она кинула белый халат на землю и села на него.
– На чем ты жужжишь? – спросила она.
– Ох, как я перепугался! – воскликнул он. – Подумал, что это пришла лесная ведьма!
Он тяжело дышал. Испуг был написан на его лице. Затем он протянул ей свой инструмент – маленькое железное кольцо со стальным пером в середине.
– Это – варган, – сказал он. – У каждого пустертальца найдётся такой в мешке.
Он показал ей, как на нем играют. Одной рукой держал кольцо у открытого рта, а пальцем другой тренькал по перу, которое журчало и жужжало, встречая резонанс во рту.
«Варган, – думала она, – шестичанный варган». Она закрыла глаза и почувствовала, что должна за что-то держаться.
Затем она снова услыхала его голос.
– Сегодня жарко, барышня. Я уже тоже скинул куртку. Но так свободно, как барышня, я сделать не догадался.
Она взглянула, только теперь заметив, что свою куртку и шляпу он повесил на сук. На нем были длинные чулки, штаны до колен, широкий чёрный кожаный пояс и рубаха. Все белое и чистое – в честь праздника Петра и Павла.
Она хорошо видела, что он её желает. Горячо, страстно, но и застенчиво тиролец смотрел на неё. Эндри чувствовала себя в безопасности – никогда он не осмелится прикоснуться к ней. Она высокомерно засмеялась.
– Что написано на твоём поясе? – спросила она Бартеля.
Он снял его и передал ей. Здесь были изображены два пылающих сердца, пронзённых стрелою с пером. Кругом надпись: «Истинная верность и нежность связывают нас навеки».
– Это тебе вышила твоя любимая?
– Нет, нет, – отвечал он, – ещё дедушке его жена, а мне досталось по наследству.
– Спой, – сказала она, – но не слишком громко.
Он тотчас же начал петь вполголоса. Она не прислушивалась к тому, что он пел, откинулась назад, положив голову на мягкий мох.
Нет, Ян не приедет! Он забыл бабушку, как и орла, как и её, – её-то уж точно забыл. Помнит ли он ещё, что когда-то её целовал? Теперь он целует другую – из кафешантана.
– Знаешь ты, что такое кафешантан? – спросила Эндри.
– Очень хорошо, – отвечал Бартель. – Когда я состоял в императорских егерях, был там один обер-егерь, приехавший из Вены. Он рассказывал о кафешантанах. Это большие театры, где выступают красивые голые женщины. Они стоят чертовских денег, так как это великие актрисы.
«Великие актрисы! – думала Эндри. – Великая актриса – и та чужая женщина! Что я представляю собой в сравнении с ней? Глупую, незрелую деревенскую сливу!..»
Бартель пел о красивой девушке, равной которой нет ни в Испании, ни в Англии, ни во Франции, ни в Тироле, ни в Баварии.
Она резко поднялась. Рубашка сползла с её плеча.
– А что, Бартель? – воскликнула она. – Как ты думаешь, могла бы я показывать себя?
– Думаю, да! – горячо согласился он. – Вы могли бы, барышня, всякого парня пленить!
«Только одного – нет! – подумала она, – Только не Яна!»
И она сказала:
– Почему же ты меня не поцелуешь?
– Я бы очень желал! – прошептал парень.
«Токайское вино, – подумала она, – порыв! И Ян целует чужую – никогда он не приедет ко мне…»
– Я бы очень желал, – повторил Бартель, – так бы желал…
Растрёпанно было у неё в голове. Если бы только тут был родник. Издалека до неё доносился его голос:
– Очень бы желал…
И она подумала:
– Чего же ты ждёшь?
Нет, она не подумала, она сказала это громко, во весь голос. Громко – и сама встрепенулась, испугалась. Почти приказом прозвучали её слова: «Чего же ты ждёшь?»
Он все ещё колебался. «Что она плетёт?» – думал он. Как это у них делается, он знал очень хорошо. Это стоит стольких усилий, и времени, и денег – в ресторане и на танцах. Надо долго ухаживать и льстить, упрашивать и уговаривать, пока девушка пустит в свою комнату. И должна при этом быть тёмная ночь, чтобы никто ничего не знал. А здесь, светлым днём, в праздничное утро, во время церковной службы прибегает к нему в лес барышня. Прибегает в рубашке, ложится к нему на мох, не стыдится – нет, сама его зовёт. Она, должно быть, совсем свихнувшаяся!
Эндри взглянула на него, высокомерно подобрав губы. Она бросила соколов на жаворонков, потому что Ян их любил! Кузен забыл её! Он целовал другую – она будет целовать Бартеля, как целовала Яна. Это сотрёт с её губ его поцелуи!
Поцелуй – он займёт одну минуту – и она рассчитается с кузеном. Тогда она может встать, пойти домой, не бросив более ни одного взгляда на этого парня. Пусть бежит за ней, несёт её халат!
– Иди! – сказала она.
Взяла его голову и поцеловала в уста.
Итак, это было сделано. Но он не отпускал её. Держал крепко, прижимал все теснее. Чего он хочет от неё?
– Уходи! – крикнула она. – Уходи!
Оттолкнула его от груди, ударила, ударила сильно – прямо в лицо.
Бартель отскочил. Лицо его пылало. Что такое? Она его поцеловала, а затем бьёт? Что он – её собачка, которую она может пинать? Его кровь бурлила. Ни одна девка этого не смеет – и барышня тоже! Она лежала перед ним нагая, и он бросился на неё.
Началась борьба. Она громко кричала, оборонялась руками и ногами, впивалась в его тело, как делали сокола. Разорвала его рубашку. Над собой она видела его грудь, противную, густо поросшую чёрными волосами.
Он уже не щадил её, запрокинул ей голову назад, железными тисками сдавил грудь. Наклонился над её телом, тяжёлым сапогом отодвинул колено.
В голове её все спуталось, все закружилось. Она чувствовала, что теряет силы, как бы тонет в середине Рейна. Ощутила что-то вроде судорог, и волны сомкнулись над нею.
Она лежала тихо, окровавленная, всхлипывая и дрожа. Допустила – все допустила!
* * *
Эндри открыла глаза и посмотрела вокруг себя. Бартель исчез, также исчезли с куста его шляпа с пером и куртка с пуговицами из оленьего рога. Возле лежала её рубашка, запачканная тряпка. Она обвязала ею тело, как могла, накинула сверху халат. Тихо пробралась через лес, далее побежала лугами. Бежала, бежала. Пришла к парку, обошла дорожку, пробираясь кустами.
Полдневная жара. На замковом мосту ни единого человека. Она быстро прошла через мост и через ворота. На дворе было совсем тихо, очень пустынно. Прокралась вдоль стен, быстро вбежала по лестнице в свою комнату. Никто её не видел, никто.
Она бросилась на кровать и лежала на ней, глядя вверх – неподвижно, точно окоченела, и очень долго. Затем постепенно оцепенение стало проходить. Она плакала, всхлипывала, стонала. Её тело извивалось, руки цеплялись за подушки, в которые она зарывала свою голову.
Теперь все было ясно. Она отлично знала, что произошло. Это была её вина, только её! И тогда, когда она позволила Яну уехать, заперлась в своей комнате, выбросила ключ. В том, что она не пошла к Яну в ту ночь, – в этом тоже была её вина.
И сегодня, сегодня – тоже её вина, только её вина!
Ничем она не могла себя оправдать! Она этого, конечно, не хотела, этого – нет. Она защищалась, боролась до крови. Он преодолел её ослабленную вином силу, бросился на неё, как зверь. Грубым и диким насилием взял он её.
И все же это была её вина! Нагишом она побежала в лес, подсела к нему на мох. Дразнила его страсть, подстёгивала его кровь, сама предложила ему свои губы. Тогда он взял и её тело… Разве он не был прав?
Тяжело страдая, она громко плакала, засунула палец в рот и укусила его. Разбитая и подавленная, Эндри лежала ещё несколько часов, беззвучно плача.
Стемнело. Слабый лунный свет пробился через окно. Она встала. Подушка её была мокра, но сухи и воспалены глаза. Оделась, вышла из своей комнаты и из замка. Она побежала к лесному домику, где жил Бартель.
Ни одного слова она не сказала ему. Но оставалась у него всю ночь.
Она была как безумная в это время. Днём бегала по окрестностям, кое-где присаживалась, устремляла взгляд на небо. Мучила Петронеллу, а затем дарила ей бельё и платья. Без цели и плана скакала верхом, спрыгивала и погоняла свою кобылу! Та, одна, в мыле и пене, прибегала в конюшню.
Бабушка все это хорошо видела. Она ласкала её по лбу и щеке.
– Это пройдёт, – говорила она. – Верь мне, дитя моё. Он вернётся назад в Войланд!
Она ничего не отвечала. Только усмехнулась, когда была одна. Ян – в Войланде, чем это ей поможет теперь? Он может оставаться там, где находится, – здесь нет больше места для них обоих.
Каждую ночь она бывала у Бартеля, каждую ночь.
Когда днём она выезжала с ним на охоту, то обращалась с ним хуже, чем с последним слугой. Ни с кем из прислуги в Войланде она не позволила бы себе так разговаривать. Он делал все, что она приказывала, по её первому слову. Только усмехался карими глазами. Он знал то, что знал…
Когда он пел, она кричала на него: она слышать не могла его песен. Часто он становился ей так противен, что она отворачивалась, лишь бы его не видеть. Она хотела бы его топтать, плевать ему в лицо.
Но наступала ночь, и она снова шла в лесной домик. Она разбила свою копилку, глиняную свинью ростом с кролика. Туда бабушка бросала ей талеры, а также и золотые монеты, когда бывала в хорошем настроении. Эндри взяла деньги и отдала их Бартелю.
У неё было ощущение, точно она должна ему заплатить. За оскорбления, наносимые ему днём. Или…
Она тряхнула головой, прогоняя неприятные мысли.
К чему думать? В это время она была как безумная.
* * *
Затем она вдруг перестала исчезать из замка. Она оставалась, где была, и снова спала в своей кровати. Избегала его и днём, едва на него смотрела. Она надеялась, что бабушка отошлёт его домой, в его горы.
Стала спокойнее и тише. Иногда ей казалось, точно ничего этого и не было, точно она лишь видела скверный сон.
Проходили недели.
Они получили известие от Яна. Открытка с Мадейры. Бабушка прочла её вслух: что он думает о Войланде и о бабушке. Он приедет, как только вернётся в Германию, быть может, поздней осенью.
Бабушка ликовала.
– Он тоскует по Войланду, – смеялась она, – и по нам. Не говорила ли я, что он приедет? Он, как все мужчины, бегает за другими женщинами. У каждой женщины свой опыт. Ты, Эндри, получила свой очень рано. Я только поздно узнала это. Поэтому-то его было не так легко перенести. Но жалобами ничему не поможешь. Надо брать вещи такими, какие они есть, и муж, чин – тоже. Это то же самое, что болезнь, и она проходит.
Узкой мягкой рукой она приласкала внучку и протянула ей открытку.
– Поклон Приблудной Птичке! – прочла Эндри.
В эту ночь она долго лежала, не засыпая. Думала о Яне. Вот, он и приедет. Он забудет другую. Болезнь прошла. А она – разве у неё не все покончено с Бартелем? Это ведь одно и то же, совсем одно и то же, – думала она. И в то же время отлично чувствовала, что это – не одно и то же.
Но Ян ничего об этом не узнает. Тирольца давно здесь не будет, когда приедет Ян. Никто об этом не узнает. А если бы и она могла совершенно забыть, то вышло бы так, как будто никогда ничего и не бывало!
Конечно… да…
Может быть, он этого и не заметит. На свадебном ужине много пьют. А бабушка, наверное, достанет серебряный соколиный бокал и наполнит его шампанским. Перед закуской можно тоже поднести токайского – шестичанного…
Она вздрогнула… Ах, шестичанное! Или, быть может, она могла бы что-то сделать, чтобы…
Что же? Но кого она об этом спросит?
А не лучше ли рассказать ему все? Может быть, он только посмеётся над этим. Женщина, с которой он уехал, – та, из кафешантана, – наверное, не была невинной! А когда женятся на вдове или на разведённой – разве это не то же самое?
Нет, нет, она не может ему этого сказать. Гораздо лучше, если он ничего не будет знать и ничего не заметит, если между ними не будет никакой тени.
Она должна справиться со всем этим. Это уж как-нибудь сладится. Она опоит его из соколиного кубка, снова, ещё один раз…
Заснула она очень поздно, почти счастливая. Снился ей Ян и свадьба…
* * *
Проснулась она с болью в груди: как будто в ней что-то давило и разрывалось. Она встала. Её качнуло, пришлось держаться за стул. Затем – сильный припадок рвоты.
Немедленно, в ту же секунду, она поняла, что это означает. Святая Дева! У неё будет ребёнок!
Это быстро прошло, так же быстро, как и налетело. Она медленно оделась, сошла вниз, позавтракала с бабушкой. Поехала с нею верхом, вернулась. Только после обеда, снова очутившись одна, нашла в себе силы для обдумывания.
Ребёнок! Что же теперь произойдёт? Яна и соколиный кубок надо отбросить. Свадьба – ах, теперь уже она должна будет выйти за Бартеля, которого ненавидит! Разве не так? Разве девушка, имеющая ребёнка, не должна выйти замуж за отца своего ребёнка? Она ещё должна быть благодарна, если тот её возьмёт! Жена Бартеля… Жена Бартеля Чурченталера! Нет, как на самом деле его настоящая фамилия? Клуйбеншедль… Эндри Клуйбеншедль!!
Что же они будут делать, она и Бартель? Конечно, из Войланда придётся уехать. Он был хорошим сокольничим. Она сама тоже не меньше понимает по птичьей части. Они бы уж нашли какое-нибудь место в Голландии или, может быть, в Англии. Лорды и леди ведь ездят на соколиные охоты.
Затем она вспомнила, что у неё есть деньги, собственные деньги, наследство от матери. Бабушка однажды про это говорила… Эндри не знала, сколько, но, может быть, хватит для покупки небольшого имения. Можно было бы разводить соколов. Тогда не нужно искать место – можно продавать птиц.
Да, это уже как-нибудь наладится. Но она будет женой Бартеля, потому что носит его ребёнка. Должна будет всегда быть с ним, всегда – всегда подчиняться его воле, если только он захочет…
Она стиснула зубы: этого уже не переменишь. Он хороший и весёлый парень, несомненно. И он любит её, обожает её. Ей надо преодолеть отвращение, приучить себя к нему. Как говорила бабушка? Надо брать вещи, какие они есть. Это уж наладится, потому что должно наладиться.
Она должна переговорить с ним. Теперь это самое важное.
Надо все сказать ему.
Она отправилась в лесной домик. Обошла его сзади, как всегда делала, мимо решёток, где сидели сокола на своих шестах и орлица Аттала. Она услыхала его голос. Кто-то у него был. Значит, надо обождать, пока тот уйдёт.
Она подошла мимоходом к чулану, где было маленькое оконце, оставленное полуоткрытым. Заглянула туда.
Бартель сидел на своей кровати. На коленях он держал, крепко обняв, растрёпанную Фанни. Она была полураздета, с распущенными иссиня-чёрными волосами.
– Ну, иди уж, дорогая, что ты так жеманишься? – смеялся он.
Точно остолбенев, смотрела Эндри. Как будто она приросла к земле – не могла сдвинуться с места. С трудом она повернулась и тихо отошла от чулана и от решёток, за которыми сидели сокола.
* * *
Недели, длинные недели. Временами она совсем тупела, не способная связать ни одной мысли. Затем опять вырабатывала план за планом, проводила бессонные ночи в лихорадочных размышлениях.
Разве нельзя как-нибудь избавиться от ребёнка, от этого ребёнка, которого никто на свете не желает? Если бы поехать в Клёве. Нет, это невозможно, там все её знают. Быть может, в Арнгейм или Нимгевен? Или ещё лучше в Дюссельдорф, в большой город? Там, конечно, есть акушерки и врачи.
Прошёл август. Был уже сентябрь. Один день следовал за другим. С ужасом она смотрела на себя, идя в постель, не потолстела ли она? Недоверчиво глядела на каждого, проходившего мимо неё. Не смеялись ли над ней служанки, не хихикали ли за её спиной.
Однажды утром, когда она выходила из ванны, приковыляла в спальню старая Гриетт:
– Мария-Иосиф! Приблудная Птичка! – воскликнула она. – Как ты растолстела! Ты слишком обленилась за последнее время, тебе надо побольше двигаться!
Она стала пунцово-красной, надела рубашку на набухшие груди. Как сумасшедшая, она скакала верхом в этот день. Быть может, она упадёт, быть может…
Но ничего не случилось – только шло время…
А Бартель все ещё оставался в Войланде. «Он должен тут жить, пока не приедет Ян», – сказала бабушка. Значит, оба будут тут и тогда уже ничего не скроешь!
Постоянно эта рвота, эта тошнота перед ней! Однажды у Эндри случился обморок за обедом, как раз когда бабушка вышла из комнаты. После того – ещё раз в конюшне. Она ввела туда кобылу, пошатнулась и упала бы, если бы её не поддержал старый Юпп. Питтье принёс ей стакан воды.
В это время кто-то засвистел во дворе. Она слышала, как Юпп сказал:
– Девушке, которая свистит, и курочке, которая кричит петухом, надо свернуть шею.
Она выглянула из конюшни. У колодца приплясывала бабушкина камеристка. Стройная и расторопная, как всегда! С ней вот ничего не случилось! Как это она, черноокая Фанни, ухитрилась не получить ребёнка? Вот она и бегает тут, насвистывая выученную у Бартеля тирольскую песенку…
Эндри топнула ногой. Схватила за руку Юппа и прошипела:
– Ну так сверни шею этой девке!
Старый кучер изумлённо взглянул на неё.
– Сделай это сама, Приблудная Птичка, если тебе это доставит удовольствие! – сказал он.
Дальше так продолжаться не может! Она должна искать чьей-либо помощи. И она выбрала самое худшее, что могла выискать в Войланде. Выбрала Гриетт, эту старую высохшую деву, неспособную отличить кота от кошки. Когда Эндри ей призналась и сказала, что ждёт ребёнка, Гриетт даже не спросила, от кого. Она закрыла лицо передником и завыла. Это и был её единственный ответ. У неё нашёлся только один совет: надо сказать бабушке. Эндри сначала противилась, но была в таком отчаянии, столь беспомощна, что крикнула наконец старухе:
– Скажи ей это ты!
Гриетт тотчас же заковыляла к графине.
* * *
Эндри сидела у себя в комнате и ждала. Только через два часа к ней постучались. Вошла Фанни, принесла приказ придти к графине. Именно Фанни должна была это сделать!
Бабушка сидела в спальне на большой готической кровати. Она казалась спокойной и сдержанной. Около неё стояла плачущая и всхлипывающая Гриетт.
– Правда ли то, что говорит старуха?
Эндри подтвердила.
– Когда это случилось?
– В конце июня, – призналась она.
– Скажи правду, – настаивала графиня.
Эндри хорошо заметила, как дрожал её голос. Она поняла смысл вопроса: если это случилось раньше, в марте или в апреле, причиной мог быть Ян.
Она отрицательно покачала головой и сказала безучастно:
– Это – правда. Случилось в конце июня.
Бабушка вздохнула, тяжело и глубоко, словно похоронила последнюю надежду. Помолчала несколько минут и сказала ровным голосом:
– Ещё одни вопрос – и ты можешь идти. Кто это был?
Эндри знала, что она спросит её об этом. Она подготовилась рассказать все, что случилось, ничего не скрывая. А теперь вдруг точно язык у неё отнялся: не могла произнести ни одного слова.
Бабушка поняла её состояние. Дала ей время. Через несколько минут снова спросила:
– Это был кто-нибудь из Клёве?
Эндри отрицательно покачала головой.
– Кто-нибудь из служащих в Войланде?
Графиня поднялась, и голос её звучал угрожающе:
– Кто же это был?
Эндри все молчала. Тогда бабушка подошла к ней совсем близко:
– Я хочу это знать и буду знать! Кто это?
– Я не могу этого сказать, – прошептала Эндри.
Графиня засмеялась.
– Принеси мою плеть, – крикнула она Гриетт. – И крепкую верёвку.
Затем она снова обернулась к внучке:
– У тебя есть ещё время, пока она вернётся, подумай хорошенько.
Эндри не сдвинулась с места. Наконец она произнесла:
– Я напишу.
Бабушка с горячностью согласилась:
– Сделай это!
Эндри подошла к ночному столику, взяла карандаш.
Старуха вернулась.
– Написала?
– Нет, – ответила Эндри.
– И ты не хочешь сказать? – крикнула графиня.
Снова безнадёжное:
– Нет!
Последовал приказ:
– Раздевайся!
Эндри повиновалась. Медленно, вещь за вещью, она сняла с себя все. Её не торопили. Шли минуты за минутами. Она должна была сказать только одно словечко: «Бартель!» – и была бы избавлена от позора.
Но её губы оставались немыми.
Бабушка взяла бельевую верёвку и привязала девушку к колонкам кровати. Сзади неё послышались всхлипывания старой Гриетт.
– Выйди! – приказала бабушка.
Когда дверь закрылась, бабушка взяла в руки плеть.
– Скажи, кто это был?
Но в её голосе на этот раз слышался уже не приказ, а горячая, молящая просьба.
Никакого ответа. Графиня со стоном упала на постель.
– Скажи, Эндри, прошу тебя, скажи! – шептала она.
Ни слова, ни слова…
Тогда она вскочила, плеть свистнула по воздуху и выжгла пылающую полосу на голой спине от плеча до бёдер. Эндри закричала.
Графиня остановилась, занесла плеть над её лицом.
– Ты уже кричишь? – озлобленно крикнула она, – плётка откроет тебе рот!
Снова голос её упал, прозвучал мягко и моляще:
– Скажи же, Эндри, избавь и меня, и себя!
Эндри тяжело вздохнула, борясь с собой. Но не могла сказать. Легче откусить себе язык, чем выговорить это позорное слово: Бартель.
И графиня начала её стегать, удар за ударом, без жалости.
Эндри съёжилась, вертелась, сопротивлялась. Плеть шипела по воздуху, жгла и резала её тело, всюду, куда попадала, от икр и до шеи. Все чаще и чаще, скорее и скорее. Но она уже не кричала – прикусила себе губы, чтобы не сказать ни слова.
Графиня была вне себя. Это сопротивление безмерно возбуждало её – она должна была его сломить! Она уже стегала изо всей силы, не разбирая, без цели, куда попало – по грудям, даже по лицу.
Эндри стонала и всхлипывала, а затем просто кричала без удержу.
– Только покричи, – говорила ей бабушка. – Созови всю прислугу, чтобы та во дворе слушала твой концерт. Вой, музыкант, я буду отбивать такт.
И, как сумасшедшая, хлестала её плетью.
Эндри уже не кричала, а только стонала. Она упала на колени, вдоль столбов кровати висели её руки. В голове пело – как жаворонок. Высоко в воздух поднялись милые птички, а она – она бросила на них соколов. Хищники летали, били жаворонков острыми когтями. И относили их назад: мёртвые и разорванные птички лежали у неё на руке. Ещё совсем тёплые.
Графиня остановилась, наклонилась к ней.
– Скажешь? – прошептала она. – Кто?
– Поющие, скачущие львиные жолудки! – шептали безумные губы Эндри.
Бабушка отбросила плеть и тяжело опустилась в кресло. Затем снова вскочила:
– Гриетт! – закричала она. – Гриетт!
И вышла из комнаты тяжёлым, волочащимся шагом.
* * *
Много дней Эндри пролежала в постели. Старая Гриетт ухаживала за ней, шлёпала, прихрамывая, вокруг неё. Кроме Гриетт, никто к ней не заходил.
Затем Эндри встала, но она не должна была никуда выходить из своей комнаты. Гриетт приносила ей еду. У старухи в связке ключей у пояса был ключ, которым она открывала и замыкала её комнату. Это была единственная связь Эндри с внешним миром.
Все чаще Эндри спрашивала, не приехал ли кузен.
Она этого и боялась и желала: с ним она могла бы поговорить, могла бы ему все рассказать. Возможность стать его невестой и женой потеряна, конечно, навеки, но она могла бы остаться подругой его игр, его сестрой. Она нуждалась в помощи – он бы ей не отказал.
Ян не приехал.
Она спросила о бабушке.
– Уехала!..
Эндри стояла у своего окна за занавеской, когда во двор въехал экипаж графини. Теперь наконец решится, что с ней будет.
На другой день, очень рано утром, вошла старая Гриетт, разбудила её, принесла два чемодана и уложила вещи. Эндри ни о чем не спрашивала, встала и оделась.
Они уедут, больше Гриетт ничего не знает. Таков приказ графини.
Они спустились с лестницы, сели в закрытый экипаж, которым правил Юпп. Поехали двором, через ворота замка. Тут было последнее, что она видела в Войланде: бронзовые олени на замковом мосту.