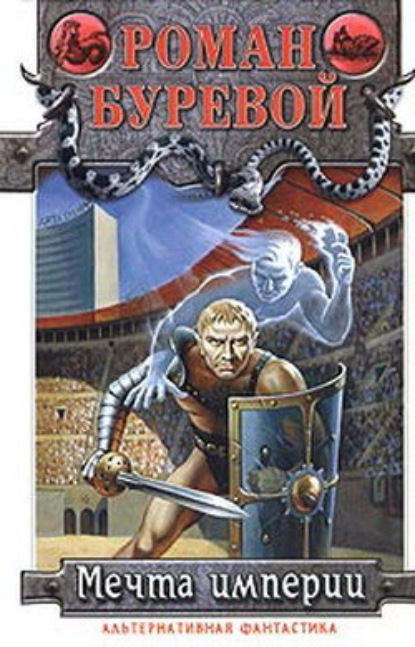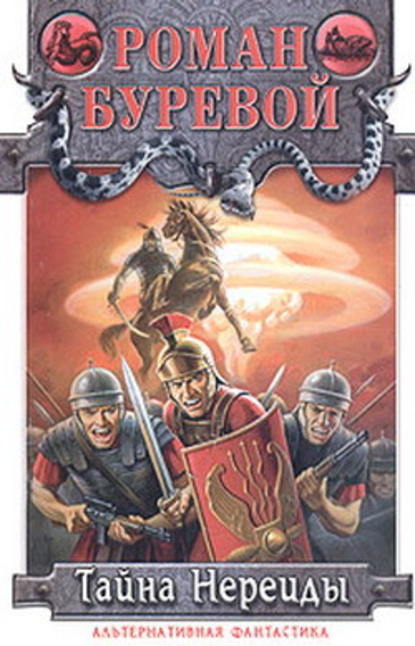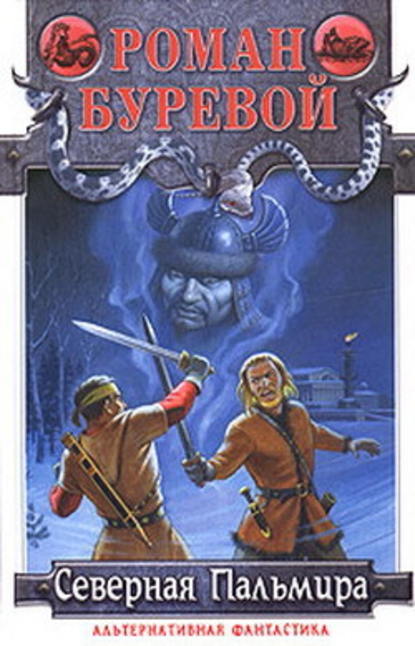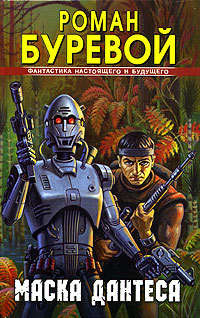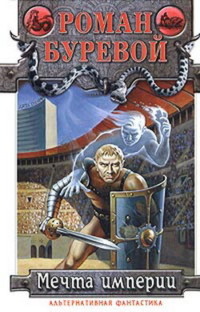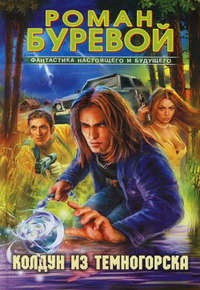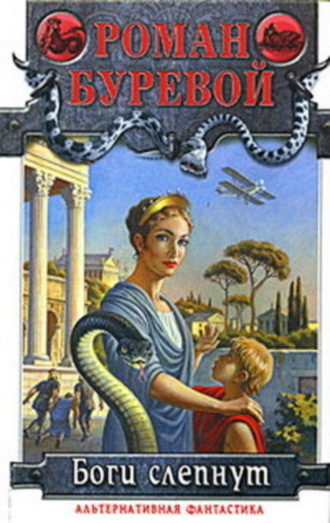
Полная версия
Боги слепнут
Гимп не ответил, изо всех сил оттолкнулся изуродованными ногами от земли. Арриетта едва не упала.
ХРУП…ХРУП…
Арриетте вдруг захотелось замедлиться и поглядеть, какие они, ловцы. Сравнить… Говорят, краше них нет никого на свете. Они могут все. Гораздо больше, чем боги. Но она пересилила себя и, напротив, ускорила шаги. Она буквально валилась вперед – дрожащие от напряжения ноги не поспевали. Спиною толкнула дверь, перевалила тело через порог. И тут Гимп не выдержал и завыл. По-звериному, истошно, и страшно.
Арриетта обернулась. Увидела преследователей. Один впереди… Люди или… нелюди? Арриетта не успела ничего разглядеть – навалилась на дверь изнутри и замкнула засов. А они ломились следом.
Она кинулась к телефону.
– «Неспящие»! – вопила в трубку, хотя в трубке лишь противно ныли гудки. – Ко мне в дом рвутся грабители… здесь рядом… минута… ну максимум две… Скорее…
– Не надо вигилов, – прохрипел Гимп. – Читай стихи.
ХРУП… ХРУП… – слышалось за дверью.
– Какие? – взвизгнула от ужаса Арриетта.
– «Метаморфозы» Овидия. Они их терпеть не могут.
– Что именно?
– Что хочешь… что вспомнишь… Читай!
Арриетта приникла губами к замочной скважине и зашептала:
«Кисти в копыта ему превратила, а руки – в оленьиДлинные ноги, всего же покрыла пятнистою шерстью,В нем возбудила и страх». [14]ХРУП… ХРУП… – послышалось, удаляясь.
– «Служба «неспящих» слушает… – сообщила телефонная трубка, продолжая раскачиваться на проводе.
У Арриетты не было сил ответить.
IIIВ маленьком домике на окраине поселились двое. Женщина и ее сын, молодой и красивый слепец. Им сочувствовали. Женщина была молода. Или просто выглядела моложаво? С сыном они казались ровесниками. Поговаривали, что эти двое попали под действие урановой бомбы. Оттого женщина вновь сделалась молодой, а мужчина ослеп. Соседи приносили им еду. Денег не брали. Однако и в разговоры не вступали, торопились уйти. Боялись чего-то. Всякий раз по утрам женщина находила подсунутые под дверь купюры в десять или пятьдесят сестерциев. Иногда сотню.
Юний Вер казался себе отвратительным и жалким. Изломанным, расплющенным, будто внутри не осталось костей, кожа превратилась в мешок, и в этот мешок собрали то, что называется плотью. И в то же время он даже не был серьезно ранен. Порезы на руках и плечах, оставленные мечом Сульде, никак нельзя было назвать ранами. Это были метки, знаки сокрушительного поражения. Чтобы оправиться от поражения, нужно время. Слишком много времени. Логос бессмертен и кажется, что времени бесконечно много. Но это обман. Времени мало. Бесконечно мало. Его всегда не хватает для того, чтобы одержать победу. Зачем быть бессмертным и постоянно проигрывать? Уж лучше умереть и напиться воды из Леты. И забыть об унижении. А может быть, он вовсе не бог? Сказку выдумали другие, а он охотно в нее поверил. Где доказательства его божественной сути? Мутации? Способность к перерождению? Ну и что из того? Может, он всего лишь гений, возомнивший себя равным Юпитеру? Глупый мальчишка. Ничтожный. Бог разума… ха-ха… это даже занятно. Это почти смешно…
«Бессмертному опекун не нужен, а остальное охраняет творец, одолевая своей силой хрупкость материи»…[15]
Но Логосу как раз нужен если не опекун, то поводырь.
Мир стал чернее непроглядной ночи. Ночи, в которой не отыскать пути.
Юний Вер, лучший боец Империи, проиграл бой Сульде. С какой тоской вспоминал новоявленный бог о тех временах, когда он жил молодым зверем, следуя инстинкту и не испытывая ничего, кроме гнева и злобы. Но начав чувствовать, чувства не заглушить. Стоики пытались, но их умозаключения красиво смотрелись лишь на бумаге. Начав думать, мыслям не перекроешь дорогу. Будешь думать и думать… Бесконечный бег. Только, к сожалению, не бег к цели, а бег по кругу.
Чувство вины поджаривало бывшего гладиатора на медленном огне. Пытка длилась и днем, и ночью. Никакие оправдания не принимались. Он спрашивал себя в который раз, почему проиграл, и не находил ответа. Вернее, ответ каждый раз был один: разум обречен проигрывать войне. Но ведь как-то надо суметь выиграть. Обязательно суметь…
А вдруг… Да, вдруг, ответ другой? Вдруг война истребляется только войною? Что же делать в таком случае?
Слепой бог. Нелепое словосочетание. Унизительное положение. Даже в своем доме он не умел ориентироваться и постоянно натыкался на вещи. Однажды он взъярился и всей силой навалился на тьму. Дрогнули стены. Мир качнулся. Вер услышал вопли людей, звон бьющихся стекол, ему на голову посыпалась штукатурка.
На следующий день вестники сообщили о землетрясении, которое не смогли предсказать приборы Сейсмической академии.
Если бог слеп, то все, на что он способен – это разрушить мир. Логос потерял зрение, но слух сохранил. Более того, сохранилась и способность слышать чужие чувства. Даже сквозь сон к нему прорывались чужая боль и чужое отчаяние, чья-то радость, гнев и жажда мщения. Тысячи и тысячи эмоций сливались в непонятный гул, заставляя пребывать ослепшего бога в постоянной тревоге. Дни и ночи лежал он, уткнувшись головой в подушки, и не думал, не желал, не мечтал, не стремился, только слушал, секунду радуясь, а в следующую приходя в отчаяние, еще секунду пребывая в эйфории, и тут же погружаясь в поток нестерпимой боли. Не движение, но бессмысленные колебания. Когда-то с ним уже было подобное, но он позабыл, когда и где.
Что может вернуть зрение ослепшему богу? Ответ напрашивался сам собой: людская любовь. Логос мечтал, чтобы его полюбили, но не знал, как вызвать к себе эту любовь. Мысленно он протягивал руки, пытаясь обнять мир, баюкая, как младенцев, материки и прижав к щеке поверхность волнующихся океанов. Тогда поток человеческих чувств глох, мир замирал, тая дыхание, будто ожидал, что бог задушит его в объятиях. И Логос разжимал руки и отпускал непослушный и непонятный мир, так и не добившись взаимности.
И тут же в душу его с новой силой ударяла волна людских эмоций.
Не зная, что делать, Логос сидел, зажав в ладони какой-нибудь камень или цветок, пытаясь в частице отыскать разгадку мира. Порой мысли вспыхивали ярко. Блестящие мысли, как удар стального клинка. Но клинок этот не мог рассечь тьму… Тьма… Он пробовал ее на вкус, и она хрустела на зубах песком. Мерещилась черная пустыня, под черным небом, освещенная черным солнцем. По черной пустыне вез ослепшего бога черный бактриан.
Он в самом деле видел эту пустыню. Черные города вставали на горизонте. На черных оазисах колебались черные пальмы, отражались в черной воде. С каждой минутой Логос видел этот мир все отчетливее. И страшная мысль черной змеей прокрадывалась в сознание: а что если физически он не ослеп? Просто он видит другой мир. Прежде он видел свет. Теперь узрел тьму. И скоро он полностью перейдет в ТОТ мир, мир Тьмы. И закроет за собой дверь.
О нет, ни за что! Но как сразиться с тьмой, как вернуться к свету? Логос не знал. И вообще с каждым днем, с каждой минутой он знал все меньше и меньше. Тьма пожирала его знания. Вскоре Логос станет беспомощным, как человек.
Однажды, озлившись на свою слепоту, Вер выскочил из дома и попросил соседского мальчишку отвести его в ближайшую таверну. Он пил, танцевал и нагло ухлестывал за какой-то красоткой, сильно надушенной галльскими духами, и душевно пребывающей в состоянии бесчувственного, но незлобного легкомыслия. По этому веселому бесчувствию и по духам Вер безошибочно вновь и вновь находил юную особу в толпе, пока два почитателя красотки не вывели слепца за дверь – якобы протрезвиться – но с явным намерением пересчитать бывшему гладиатору ребра. Но и слепой, он умел отбивать удары. Случалось ему нередко в первый день игр выступать в роли андабата [16], причем противник не обязательно бывал в глухом шлеме. Вер побеждал на арене. Теперь было и вовсе легко: он слышал не только шорохи шагов и одежды, но и всплески ярости, предвещавшие удар. Ярость и злость выдавали соперников в темноте. Слепой гладиатор не пропустил ни одного удара, зато двое зрячих ушли с разбитыми носами, утратив десяток зубов на двоих. Но во тьме, окружавшей Вера, эти удары не пробили ни единой бреши.
На ощупь брел Логос домой. Вели его не стены и ограды, но тепло дома, где его ждали. И тут кто-то шепнул ему на ухо:
– Как хорошо, что ты слеп, Логос!
Но вместе с голосом не пришло ничего – ни злорадства, ни страха, ни единого чувства, будто сама тьма говорила с ним.
А потом кто-то схватил Логос сзади за шею и пригнул к земле. Логос рванулся, впечатался в стену, и стена подалась тающим воском. На голову посыплись кирпичи и штукатурка. Сорвавшийся с подоконника цветочный горшок грохнулся о мостовую. Где-то внутри дома закричал человек. И Вер закричал, и пустился бежать. Никто не гнался за ним, никто не пытался напасть вновь. Но Логосу казалось, что в темноте кто-то неведомый наблюдает за его бегством и улыбается.
Он не открыл дверь, а вышиб ее плечом и рухнул на пол.
Лежал на полу в атрии и отчетливо видел бескрайнее черное поле, затянутое пеленой зеленого тумана. И только сейчас он понял, что должен шагнуть на это поле и погрузиться в мертвенный туман.
– Андабат… – выкрикнул Вер, и будто кузнечный молот ударил по металлу.
Глава IV
Августовские игры 1975 года (продолжение)
«Покойный Руфин Август не сделал никаких распоряжений о тои, кто должен исполнять обязанности императора, пока Постум Август находится в младенческом возрасте и не может принять на себя всю тяжесть государственных дел. Сенат постановил, что должность диктатора получит старейший сенатор. Диктатором, скорее всего, станет Макций Проб. Срок его полномочий ограничен пятью годами».
«Сегодня день богини изобилия Опы».
«Сегодня состоится свадьба Бенита Пизона и Сервилии Кар».
«Акта диурна», 8-й день до Календ сентября [17]IКак Гимп восстановил себе ноги, Арриетта не видела. Ни один гений, пусть даже и бывший, не позволит простому смертному смотреть, как заживают его раны. Гимп попросил чистой воды, бинты и оливкового масла. Потом велел ей выйти из спальни и запереть дверь.
Арриетта сидела на кухне и рассматривала желтоватый потрескавшийся потолок с узким фризом, слушая, как надрываясь, сипит паром чайник на плите. И тут вошел Гимп в розовом халате до пят, шаркая мягкими домашними туфлями. Ее халат, ее туфли… Он прекрасно ориентировался в ее доме.
– Странно, – заметила она. – Ты можешь за пару часов заживить ужасные раны. Но не можешь восстановить зрение. Если у тебя есть способность к регенерации, то она должна быть во всем. Так?
– Глаза – не ноги… Чтобы перебороть слепоту, нужно нечто другое, нежели умение наращивать мясо.
– Так ты не можешь видеть или не хочешь?
– Гении никогда не говорят о себе правды. Потому что и сами ничего не знают о себе. Они довольно точно оценивают окружающих людей, но себя – никогда.
– Ты что-то задумал? – спросила Арриетта.
– Когда я освобождался, одна занятная мысль посетила меня. Подумал: «Рано или поздно ловцы меня поймают. Зачем же бегу? Пусть случится неизбежное. Зачем отдалять, зачем бороться, цепляться?»
– Как зачем? Это же самоубийство, то, что ты говоришь. Ловцы тебя убьют.
Гимп отрицательно покачал головой:
– Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что ловцы не убивают гениев. Убивают люди. Ради платинового блеска, который после мучительной смерти остается на земле. Ты ведь знаешь: чем больше гения мучить перед смертью, тем больше платины… А впрочем – это домыслы. Я думаю – платины в гении столько, сколько в нем гениальной сути. А ловцы… Им платина не нужна. Им нужно что-то другое. И я хочу узнать – что.
Арриетта пожала плечами – Гимп пытается играть роль гения Империи после того, как его лишили должности. Это раньше он мог взять под крыло полмира. А ныне? Ему остается только носиться по улицам, вынюхивая маленькие тайны. Простой соглядатай счастливее его. Хотя бы потому, что у соглядатая есть хозяин, которой за эту тайну щедро заплатит. А гений Империи ныне бездомен и бесприютен. Безларник – что о нем еще можно сказать. И к тому же слепец. Он слишком уязвим. Однако Арриетта не могла ему отказать. Гениям не отказывают.
– Что толку, если ты узнаешь цель похищения? А дальше что? Ты никому не сможешь сообщить.
– Надо перейти Рубикон.
– По-моему, гении его перешли. В тот день, когда вас швырнули на землю.
– Затея безумная, – согласился Гимп. – Самая безумная из всех безумных затей. Но у нее есть некоторые блестящие черточки. Что-то вроде блесток, которые матроны нашивают на свои платья. Люблю такие блестки. Они привлекают. И ты мне поможешь. Поможешь нашить еще одну блестку на мой безумный план.
Хотя она ожидала подобного заявления, но все равно растерялась.
– Я не собираюсь… – она запнулась – ясно было, что таким тоном ничего отстоять не удастся. – За так… – добавила, чтобы хоть что-то сказать.
– Я заплачу. Не волнуйся, – засмеялся Гимп.
– И какова плата? Ведь гении больше не исполняют желаний.
– Смотря какие. Может быть, как раз твое смогу исполнить смогу исполнить, – ей показалось, что он глянул ей в глаза.
Слепой глянул в глаза. Во всяком случае, его зрачки были точно против ее зрачков. Ей стало не по себе от этого слепого взгляда.
– Миллион сестерциев можешь заплатить? – Голос ее дрожал.
Кажется, этот вопрос его обескуражил.
– Миллион – это не желание, а арифметика, – проговорил разочарованно Гимп.
– Миллион – это высшая математика. А иначе я не согласна… – объявила Арриетта с довольным видом, не ожидая, что так легко найдет повод отказаться.
– Я дам тебе миллион, – согласился Гимп. – И еще… я исполню одно твое тайное желание. То, о котором ты сама не знаешь.
Теперь он глядел мимо нее и улыбался.
– Ну, соглашайся. Практически для тебя нет никакой опасности. Люди ловцов не интересуют, – уговаривал Гимп. Он врал. Это было видно с первого взгляда.
Она согласилась, хотя знала, что он не заплатит ей миллион – у него нет ни асса. Она знала, что он не исполнит ее желание. И все равно верила. Сама не зная, почему. Теперь он был зряч, а она слепа, и ползала на коленях в темноте в поисках брошенной им монетки. Она слышала заманчивый звон – монетка катилась по камням, но Арриетта напрасно шарила рукой, уверяя себя, что Гимп подарит нечто такое, о чем она сама и подумать не смела. Самообман Арриетты был почти восхитителен. Потом… хотя не стоит говорить, что будет потом, пока будущее не наступило хотя бы на листе бумаги.
IIРедакция «Первооткрывателя» располагалась в старинном особняке. В просторном атрии толпились десятки посетителей, по галереям сновали десятки репортеров. Гам, суета. Но шум смолкал перед массивной дверь, на которой блестела бронзовая табличка с короткой надписью «Крул».
Старик Крул развалился в кресле и смотрел на худую женщину в простеньком платье пренебрежительно. Было жарко, платье посетительнице (и просительнице) было чуть-чуть тесновато, под мышками образовались темные пятна. В руках женщина мяла и без того замусоленный вчерашний вестник. Наверняка долго сидела в приемной, изнывая от жары, и обмахивалась сложенным вдвое номером. Что ей надо? Хочет работать у Бенита? Таких желающих нынче хоть отбавляй. Они буквально осаждают редакцию «Первооткрывателя». И все же что-то заставляет Крула медлить и не указывать ей на дверь. Ну да! Эта женщина работала прежде секретаршей у Элия. Надо же, какое совпадение. В трибе Элия избран в сенат Бенит, и эта женщина рвется работать у новоявленного сенатора. Уж не считает ли она, что подобные должности передаются по наследству? Она что-то болтает о невозможности работать на Элия. Понятно, что невозможно. Если он сгорел вместе с Нисибисом в ядерном пламене.
Крул налил полный стакан ледяной воды из запотевшей бутылки и принялся пить маленькими глотками, испытующе глядя на женщину. Она судорожно сглотнула. Но пить не попросила. Хорошо. Даже очень хорошо.
– У тебя есть желание? – спросил старик. – Самое сокровенное, самые немыслимое, самое невыполнимое. И… беспощадное…
– Что значит – беспощадное? – Порция быстрым движением мазнула ладонью по виску. Но капли пота тут же выступили вновь.
– Без оглядки на других. И на мнение других.
– Хочу, чтобы мой сын бесплатно учился в риторской школе.
– Это не желание, а мелкотня. – Крул явно был разочарован. – А чего-нибудь другого нет?
Женщина вновь отерла виски – на этот раз платком.
– Допустим, с кем-нибудь поквитаться? Разве это не прекрасно – отомстить за унижения, за бедность, а? К примеру – Элию, за то, что он тебя уволил, – Крул улыбнулся, обнажая редкие зубы.
– Он не увольнял, – поспешно сказала Порция. – Я сама ушла.
– И все же… – Рот Крула растянулся еще шире.
Раньше подземным богам писали подобные просьбы на свинцовых табличках: «…свяжите, обвяжите, помешайте, опрокиньте…» Даже, когда гладиаторы начали исполнять желания на арене, такие таблички продолжали изготовлять тайком. Хотя за них можно было на всю жизнь угодить в списки гладиаторских книг и лишиться права исполнения желаний. Но уж коли это право потеряно…
– Элий умер, – сказала Порция.
– А если бы он был жив? – Крул чуял добычу и не желал отступать.
– Не знаю. Мне кажется… Да, наверное… он поступил со мной некрасиво.
– Ага, уже теплее… Летиция должна за это ответить. Наверняка она тоже…
– Нет, нет, она не при чем! – горячо запротестовала Порция.
– А еще кому-нибудь тебе хочется отомстить, пожелать всяких бед? Неужели никому?
– Одному человеку…
– Кому? – Крул плотоядно облизнулся.
– Секретарю Тиберию. Он такой подонок. Вот ему бы… – Порция сжала платок в кулаке, будто это была шея старика Тиберия. – Этот старый пердун теперь служит Летиции, а я…
– Так что должно случиться с Тиберием, крошка?
– Чтоб ему переломали ноги, – прошептала она с ненавистью.
– Замечательно! – Крул в восторге потер руки. – Ты меня не разочаровала, детка. Это просто замечательно. Загляни к нам через месяцок, может, для тебя и найдется работа.
Порция вышла из редакции со странным чувством гадливости и страха. Не надо было говорить о Тиберии. Но ведь она лишь высказала пожелание… это всего лишь слова. Все равно нехорошо. Столько лет цензоры запрещали желать другому беды. Сколько лет приучали: думай, думай, прежде чем желать, думай, можно ли желать такое. А теперь нет цензоров и можно все. Мерзко, мерзко… Порции казалось, что она вся липкая, грязная с головы до ног. И она действительно была и липкой, и грязной – пот с нее так и лил.
Порция стояла в нерешительности у дверей. Может, вернуться и сказать, что она вовсе не желает зла Тиберию? Но она понимала, что ее возвращение уже ничего не изменит. Желание высказано. Осталось его только исполнить.
IIIДнем Рим так и дышал жаром, как огромная раскаленная каменная печь, в которой плавились миллионы жизней. После обильных дождей в городе было парно, как в бане. Фонтаны, и те текли ленивей обычного. И вода в них была теплая, неживая.
Арриетта расхаживала по своей квартирке нагая. Проходя мимо высокого зеркала аквилейской работы, всякий раз бросала оценивающий взгляд. Красивая. Очень красивая. Она помнила, как Вер любовался ее телом. А вот Гимп не может… Жаль…
В этот раз Гимп ушел один. Ушел и почти сразу вернулся.
– Вот гляди… – Гимп раскрыл ладонь. А на ладони лежал жук. Маленький такой черный жучок-чудачок с длинными усиками-антеннами и золотой полоской вдоль спины. Прежде Арриетта никогда не видела таких жуков. – Открою тебе тайну, – прошептал Гимп ей на ухо. – Это – гений. Он вызвался мне помочь. Как и ты. У него свои счеты с ловцами. Гений этот особенный. Он может генерировать электромагнитные сигналы. Как передатчик. Приемник будет у тебя в сумочке, настроенный на гениальную частоту. Когда меня схватят, ты кинешь этого жука за шиворот ближайшему ловцу. А потом отправишься к префекту римских вигилов Курцию и все ему расскажешь. Только и всего. Отличный план! Мне он нравится. А тебе?
Арриетта вздохнула:
– Почему-то думала, что гений Империи должен быть более рассудительным.
– Ну был я, был рассудительным когда-то. Но теперь-то я человек! Могу позволить себе безумства… гениальные безумства – учти.
Рядом с Гимпом все казалось другим – и слова, и поступки. Будто не жизнь живешь, а захватывающую книжку читаешь. И бояться рядом с ним было невозможно. Арриетта и не боялась. Вот только противный тонкий голосок благоразумия пищал в ухо: «Остерегись, остерегись…»
– А сам ты не можешь этого жука… кинуть…
– Нет. Не могу. Ты что забыла – я слепой.
– Не ходи туда, – взмолилась она. – Не надо! Давай будем просто жить. Я буду писать стихи…
– Разве можно просто жить и писать стихи? Для стихов надо жить не просто.
– Наплюй на ловцов.
– Не могу. Я – гений.
– Тогда ты погибнешь!
Он лишь рассмеялся в ответ:
– Если не погиб в Нисибисе, то как могу погибнуть здесь?
Ей оставалось одно – уступить…
IVК вечеру жара не спадала. Камни отдавали накопленный за день жар. Ветер, едва дохнув, тут же затихал. Все окна были распахнуты. На крышах слышались шаги и возня – обитатели инсул выбирались туда с наступлением темноты.
Арриетта мечтала удрать из Рима, укрыться на прохладной загородной вилле. Но это только мечты. Денег нет. Все полученное за книгу растрачено без остатка. Долгов – три тысячи. Новую подачку из меценатского фонда еще ждать и ждать. Стихи – ловушка неведомых ловцов. Попал в нее – и уже не выбраться, не уйти. Кому и для чего ты нужен – непонятно. Что-то такое щебечешь и задыхаешься от восторга. Варишься в каменном котле вместе с Городом. И в конце концов понимаешь, что не нужен никому.
Итак, Гимп встал в черную лужу и ждал. Девушка спряталась за колонной вестибула и тоже ждала. Старый дом, спрессованный временем в неразрушимый монолит, запутался в сетях плюща. Свет из окна золотил глянцевые листья. Где-то звучала музыка, где-то плакал ребенок. Жизнь вросла в камень и стала единой с ним. Люди внутри камня, внутри Города. Им хорошо. А она, Арриетта, снаружи. И Гимп снаружи.
Арриетта была готова выть в голос от страха. Но она не выла. Она сочиняла стихи. Стихи выходили красивые, но она их тут же забывала.
Гимп стоял в луже и что-то насвистывал. Ждал. Когда они придут.
И они пришли. Обычные люди в черных туниках. Они вытащили моток белой прочной веревки и принялись окутывать Гимпа, как пауки. И тогда Арриетта подошла сзади и закричала:
– Гимп!
Она вскинула руки, будто хотела протиснуться к гению. И уронила – как ей показалось очень ловко – жука за шиворот одному из ловцов. Ловец повернулся и ударил ее по лицу. Не рукой, а чем-то жестким и холодным. И лица у Арриетты не стало – его срезало начисто. Оно упало на асфальт и осталось лежать – белая безглазая маска с пустым ртом. Арриетта схватилась руками за голову и нащупала что-то липкое, скользкое… Самое ужасное, что глаза у нее сохранились. Она видела. Видела, как Гимп повернулся к ней и крикнул:
– Уходи, Арри!
В его слепых глазах застыл ужас.
Она наклонилась поднять лицо. Но не смогла – кто-то из ловцов наступил на него ногой. И оно превратилось в черный грязный лоскут.
А ловцы потащили запеленатого в веревочный кокон Гимпа. И черная лужа, поймавшая Гимпа, вприскочку послушной собачонкой кинулась следом. Но Арриетта не побежала за ними. Она ползала по мостовой и искала потерянное лицо. Кровь хлестала из раны на камни. И где-то очень далеко выла сирена «неспящих».
Глава V
Августовские игры 1975 года (продолжение)
«Что делать теперь, когда Рим лишился своей мечты? Прежде каждый ребенок в самом дальнем уголке Империи знал: ты – гражданин Рима, твои желания исполнимы. А что теперь? Что теперь – вопрошаю я?
Гней Галликан».
«Ловцы впервые напали на человека. Прежде ловцов интересовали только гении. Кто же эти таинственные ловцы? Не пора ли вигилам вплотную заняться ими?»
«По прогнозам метеорологов жаркая погода продержится в ближайшие дни».
«Акта диурна», 7-й день до Календ сентября [18]IСторонники Бенита в сенате держались тесной группой. Он и сам удивился тому, как быстро ему удалось сколотить вокруг себя кучку преданных, и, главное, яростных единомышленников. Оказывается, в уравновешенном и благополучном обществе достаточно людей, которым необходима не благовоспитанность, а ругань, не логические доводы, а площадная брань. «Мои шлюхи», – мысленно называл их Бенит. Вслух так называть еще не отваживался. Но, возможно, скоро так и назовет. Им понравится. Он был уверен, что понравится.
Репортеры вертелись вокруг него. Бенит обожал репортеров. Делал вид, что нападает на них, а на самом деле играл с ними. Кот так играет с мышами. Каждый новый скандал добавлял ему внимания. Каждый новый репортер добавлял ему популярности – не важно, о чем писал служитель стила – о проигранных в алеаториуме тысячах или о пожертвованиях на обучение сирот.