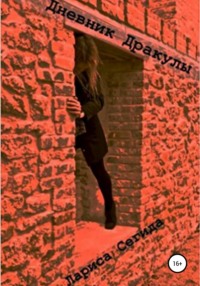Полная версия
Патологоанатом
Его голос совсем перешел на шепот. Он опустился на дощатый пол, обхватил руками колени и спрятал в них несчастную растрепанную голову, пережившую за какие-то три ночных часа ужасы и бедствия, для него несравнимые даже со вселенскими.
Патологоанатом страшно хотел спать, ему порядком надоел этот истеричный малый, но избавиться от него, как он понял, до утра и прихода сослуживцев представлялось проблемой непростой, учитывая тот факт, что ему совсем не нравилось в таких случаях прибегать к помощи охраны или милиции. Звонить, по крайней мере, он никуда не будет, все должно решиться само собой.
Патологоанатом поднялся с лавки и подошел ближе к дождевой стене. Ему хотелось скорее остаться одному.
Он не был дотошным буквоедом, и нарушить предписание главврача не казалось ему чем-то из ряда вон выходящим. Дело было в другом. Многолетний опыт помог ему изучить психологию несчастных родственников, а тем более влюбленных. Ему ничего не стоило выполнить просьбу мальчишки, но это означало ни что иное, как медвежью услугу. Он слишком хорошо знал человеческую смерть, чтобы так легко потворствовать любой жалостливой просьбе живых. Его печальная практика открыла ему странную сторону человеческой психики. Он уяснил себе, что люди тяжелее переживают не сам факт смерти близких, хотя это, конечно, – самое будоражащее душу событие. Они боятся облика смерти. Ее мимика отпечатывается в памяти живых так явственно, что только собственная смерть способна разрушить снимки чужой смерти. Когда бы на то была воля патологоанатома, он бы запретил живым видеться с мертвецами. Он был убежден, что если бы в момент смерти вместе с душой исчезало бы в иную реальность и тело, черный призрак с косой скорее бы превратился в доброго, послушного ангела, чей долг – всего лишь исполнение в определенное время воли Всевышнего. Будь смерть невидима, она не была бы так страшна и столь способна властвовать над живыми. А они, глупые, смакуют ее разлагающийся вкус, фотографируют плачущими глазами ее противный жизни образ, тянут сами себе жилы, оголяют нервы, рвут на кровавые солено-сладкие куски свои сердца, чтобы еще на чуть-чуть оставить рядом с собою то, что уже принадлежит другому миру. И эти последние, полные печали, боли, страдания, горя, ужаса сцены выхолащивают из памяти все цветное, счастливое, радостное, чудесное, что составляло бытие человека при его жизни, а теперь уходящего в иное пространство. Да, прокручивал в тысячный раз в своих мыслях патологоанатом, это великая ошибка жизни, ее главный недостаток – позволить остающимся в этом мире живым увидеть чужую смерть в лицо. Он ненавидел жизнь именно за эту слабость, за этот маленький просчет Всевышнего. Со смертью должны общаться лишь избранные живые – специалисты, профессионалы. Всем остальным вход в ее обитель, даже взгляд на нее должен быть табуирован, а похоронные ритуалы отменены. Они, мертвые, – уже часть иных сфер, исполнители иных законов, субъекты иных отношений. Им тесно среди частокола человеческих норм и постулатов, обычаев и традиций.
Патологоанатом понимал, что не в его силах изменить общественное мнение, сдвинуть камень страха перед смертью. Люди боятся моргов, с трудом приняли крематории, а большинство так и продолжают отвергать этот продукт цивилизации, созидают кладбища, которые сами наполняют жутью и обходят далеко стороной. И все оно вместе беспокоит жизнь, угнетает ее и тем самым смеется над ее быстротечностью и конечностью.
Когда бы патологоанатом был действительным «из-возчиком» смерти, как нарекли его пугливые горожане, он бы прежде всего лишил живых встреч с умершими, а тем более погибшими, дабы сохранить живую память о них. Умер человек – знания этого факта должно быть достаточно, чтобы осознать его смерть, а со временем и привыкнуть к потере. Пусть об этом узнают уши, глазам видеть смерть не стоит. Патологоанатом вынашивал эту крамольную, на всеобщий взгляд, мысль, потому что более всех живых имел право на ее доказательство. Его бы воля, он бы никогда не показывал и не выдавал бы своих клиентов родственникам и близким. Не нужно оно им – патологоанатом выстрадал эту идею, он не мог претворить ее в жизнь, но любыми способами ограждал живой мир от своего молчаливого царства.
ГЛАВА 8
Дождь все сильнее барабанил по крыше крыльца. Стена воды стала почти непроницаемой. Раскаты грома звучали устрашающе. Патологоанатом безмятежно плавал в облаках дыма и осмысливал исключительно ради внутреннего покоя оправдание своего видимого безразличия к горю несчастного «Ромео».
Когда он все же вернулся в реальность, парень исчез. Совсем. Его не было на маленьком квадрате крыльца, его фигура не удалялась по направлению к калитке, да и калитка не болталась, как обычно, если бы кто-то несколько секунд назад потревожил ее висячее спокойствие. Дежурная, его преданный страж и цербер, растеклась на лавке бесформенной кляксой. Ее голова упиралась в перила крыльца, правая рука торчала из-под защитной крыши козырька и собирала в ладонь дождевые капли, как если бы ее хозяйка намеревалась утолить посталкогольную жажду. Сухие, узловатые ноги в войлочных ботах смешно расползлись в стороны, обнажая миру бледно-желтые застиранные панталоны. Косынка сбилась, узелок торчал на ухе, лица из-за этого не было видно, но струйка слюны, что тянулась к полу, подтверждала его наличие за белой платочной тканью.
Патологоанатом кинулся к коллеге. Мертва, пьяна или погружена в блаженный сон? Он сдернул косынку, обхватил ее голову и повернул к слабому свету лампочки. Поднял веко – желтоватый белок с красными прожилками. Пульс прощупывается, слабенький, но живой. Патологоанатом потянулся к дверной ручке, резко дернул, но дверь не поддалась его желанию. Кто-то запер ее изнутри морга. Такой глупой промашки в его практике еще не было. Он приложил ухо к прохладной замочной скважине. Ни звука, ни шороха. В окна не заглянуть и не забраться – замазаны краской и зарешечены. Есть еще дверь с противоположной стороны, но она закрывается щеколдой изнутри. Что делать? Бить тревогу нелепо – скандал неминуем, что лишь на руку городским сплетникам и в минус его и без того странной репутации. На что способен парень в состоянии нервного шока, оставалось только догадываться. Но патологоанатом гнал жуткие мысли. Он вспомнил о пожарной лестнице и чердаке, которым никто не пользовался, по крайней мере, на его памяти. Правда, существует ли люк с чердака во внутренние помещения морга, патологоанатом не знал. Но нужно было попробовать этот вариант, потому как других не имелось.
Он выскочил под дождевой массаж. Дворик заливала вода. Тапки-калоши тут же захлебнулись грязевой жижей, стали скользкими, и их хозяин в белом медицинском одеянии больно шлепнулся в лужу, ударившись при этом локтем о любимую мраморную плиту. Боль так остро прострелила все тело, что даже ставшая мокрой, холодной, липкой одежда не причинила ему, старому аккуратисту, никаких неудобств. Он весь утонул в боли. Локоть пылал, но кровь, что вырвалась наружу из разорванных капилляров, осталась незамеченной патологоанатомом. «Сама плита, видно, жаждет слиться со мною. Хорошо, не голова получила ее страстный поцелуй, иначе бы моя мечта стала реальностью», – он шевелил губами, но не произносил свои мысли вслух. Он вообще говорил мало и редко. В большинстве же случаев роль его рупора охотно играла ночная дежурная, которая в данную минуту совсем некстати валялась на крыльце. Даже днем в свободное от работы время она крутилась в морге, незаметная, но тут же проявляющаяся по мере надобности своему шефу. Сейчас бы она ой как ему пригодилась, хотя бы ее глаза и уши, чтобы зорко следить за главной дверью, пока он полезет на чердак.
Он снова взбежал на крыльцо, тряхнул за плечи свою помощницу, но та не приходила в сознание. Что случилось? Почему? Ведь она не выпила даже своей дневной нормы алкоголя, которая всегда сохраняла в ней полный рассудок и здравие. Ее подбородок блестел от обилия вытекающей слюны. Патологоанатом поднял с пола брошенную им же самим косынку и мягко вытер ею лицо женщины. В ноздри ударил слабый, сладковатый залах. Он поднес косынку к носу. Да, запах шел от нее, вернее, от чего-то мягкого, что было внутри тканных складок.
Он тряхнул платок, в ладонь выпал ватно-марлевый тампон, пропитанный, по всей видимости, хлороформом. Откуда?! Он лихорадочно попытался выстроить цепочку мгновений, что произошли здесь, на крыльце, в его же присутствии, пока он предавался непростительному сибаритствованию в аромате курева. Наверное, тампон принесла дежурная, не на шутку перепуганная истерикой малого, чтобы обезвредить его до наступления рассвета. А он оказался сметливее и хитрее и ее же оружие обратил против нее. Женщина была уже достаточно под хмельком, чтобы угадать его действия и среагировать на них. Парень воспользовался этим и безразличием патологоанатома, которое тот явно оказывал ему. Ситуация вышла из-под контроля, и сумасшедший влюбленный хозяйничает сейчас в морге, а сам патологоанатом бесполезным дураком разгуливает под дождем в грязи и крови.
За дверью, из глубины помещений послышалась легкая возня. Звуки были едва слышны, чтобы в голове слушателя сложилась картина происходящего там, внутри. Но патологоанатома они выводили из состояния железного спокойствия. Он перепрыгнул через перила крыльца, завернул за угол, держась за стены, чтобы уберечь себя вновь от унизительного падения в грязь на собственной же территории, фактически на его земле, месте его жизни и работы, увидел желанную, ржавую пожарную лестницу, подпрыгнул, но его роста оказалось недостаточно для достижения цели. Он кинулся искать подпорку.
Полусгнившая гробовая крышка, черная от времени, давно использовалась в качестве скамьи для летних посиделок медперсонала. Он побежал за нею, как за спасительной доской во время кораблекрушения. Крышка обросла травой и, казалось, пустила корни в землю – настолько сложно оказалось оторвать ее с насиженного, вернее, с належенного места. Патологоанатом изодрал пальцы; жирная, мокрая земля глубоко и больно забилась под ногти, он бил по крышке ногами, пока, наконец, она с ухающим вздохом не перевернулась.
Далее все полетело, как в кино. Он кошкой вскарабкался по лестнице на крышу, проник в чердачное окошечко и в кромешной тьме, так как спички превратились в мокрое месиво, а зажигалка отказывалась подчиняться воле хозяина, на ощупь принялся искать заветный люк. Он ступал очень тихо, боясь, что его шаги спугнут самозванца. Керамзитовая крошка предательски шуршала под ногами. Чердак покоился под покрывалом многолетней пыли и затхлости. Похоже, патологоанатом был здесь первым посетителем со времен построения этого здания. Никаких следов пребывания живности, ни кошек, ни голубей. Такое просторное помещение могло быть вполне переоборудовано под склад, хранилище или подсобку. Тепло, сухо. Об этом стоило поразмыслить. Но не сейчас.
Он обошел каждый метр чердака, но ни на какую иную поверхность, кроме шипящей крошки, его нога не ступала. Значит, весь пол засыпан, даже люк, если, конечно, таковой имеется. По металлической крыше гулко прыгали дождевые капли. Как по нервам. Он вспомнил о раненом локте. Рукав стал тяжелым от липкой крови. Патологоанатом, морщась от боли, стянул с себя то, что еще недавно называлось белым медицинским халатом, разорвал относительно чистый его участок на широкие полосы и туго, насколько хватило сил одной руки, перебинтовал кровоточащий локоть. Приступ тошноты вконец обессилил его и усадил на пупырчатый пол.
Ночной бал дождя. Вакханалия воды. Обычно патологоанатом любил плачущее настроение природы. Но сейчас пульсирующий танец дождевых капель с периодическим громовым ревом больше напоминал ему мерные удары молотка по черепной коробке, когда медбрат готовит клиента к патологоанатомическому диагностированию его умершего мозга. Звук вспарываемой кожи всегда не слышен, будто далек от святотатства такой процесс вмешательства в чужую мертвую плоть. Другое дело при жуткой какофонии инструментария, когда врач обязан забраться в тайник серого вещества. Патологоанатом полностью доверял это костоломство своему помощнику, а сам тем временем наслаждался музыкой иного свойства, что наполняла его существо через наушники.
Сейчас было некуда бежать от глухой барабанной дроби, что сыпалась на него сверху и мучила вместе с рваным локтем все его нутро. Он лег на спину. Шестьдесят секунд покоя, чтобы сосредоточиться, чтобы заарканить разгулявшиеся мысли. Прошлое кружилось в голове, как карусель с разноцветными зверушками, на каждом из которых восседал он сам, он один, размноженный на десятки мальчиков, юношей, мужчин, каким он был в разные периоды своей жизни. Карусель двигалась так быстро, что нельзя было внимательно рассмотреть самого себя во всевозможных ипостасях, скачущего по кругу на карамельно-ярмарочных животных. Ни одного свободного места, ни одной щелочки для него нынешнего в веселой, красочной круговерти. Лишь мерное цоканье копыт какого-то сказочного существа стоит в ушах, как шлепки небесных слез по крыше, как удары молотка по черепу. И человечки с его лицом на карусели все твердят в такт невыносимому цоканью: «Я возьму тебя с собой». Все повторяют шепотом, вкрадчиво, будто издалека, но не берут к себе и место не освобождают, и карусель не останавливается, только все быстрее и быстрее кружится. И он рад бы оторваться от земли и прыгнуть на ходу на чудной аттракцион, даже не зная, что ждет его там и не превратится ли он в кусок мяса на вертеле. Что-то манит, тянет, влечет его туда, сладко приговаривая: «Я возьму тебя с собой».
В голову патологоанатома дул слабый-слабый ветерок. Откуда-то снизу, из щелей керамзитового крошева его горячий затылок целовала приятная прохлада, будто карусель подарила ему волну свежего воздуха из своего безумного вихря. Он открыл глаза. Головокружение не проходило, но сознание вернуло его в действительность. Приснившаяся ему только что фраза не умолкала: «Я возьму тебя с собой». Очень тихо она просачивалась в пыльный чердачный мешок вместе с легкими порывами воздуха. Патологоанатом осторожно, маленькими пригоршнями начал разгребать место, несколько минут назад служившее ему изголовьем. Наконец он нащупал дощатую поверхность и углубление, выемку вместо ручки. Крышка люка была пригнана неплотно. Он потянул на себя дверцу, и глазам предстала все та же крутящаяся карусель. Он зажмурился. Прохладный воздух ударил в лицо. Прядь волос выбилась из резинки, что стягивала их в хвост. Значит, все реально, он не спит, локоть ноет еще сильнее под повязкой.
– Мы уйдем отсюда вместе, ты и я. Ничего, что ты не сможешь сейчас идти, не волнуйся, я буду нести тебя на руках.
Патологоанатом отчетливо слышал живую человеческую речь. Мягкий, спокойный юношеский голос.
Он открыл глаза. Перед отверстием люка что-то беспрерывно мелькало и волновало воздух. Конечно, это был вентилятор, который дежурная обычно включала на ночь. Лопасти и слабый шум вентилятора удачно скрывали патологоанатома от парня, но мешали врачу наблюдать за ним и проникнуть внутрь помещения.
Чердачное отверстие находилось как раз над каталкой, на которой покоилось тело юной девушки, прибывшей не по своей воле в морг перед полуночью. Парень, облаченный уже в свою одежду, лежал рядом с нею. Он не плакал. Его глаза излучали покой и радость. Патологоанатом знал причину такого состояния. Всего-навсего защитная реакция мозга на сильнейший нервный стресс. Так называемое кратковременное помешательство, ложное просветление, одурманивание счастьем и надеждой, которых нет, но которые придумывает себе сам организм, чтобы пережить страшную психическую боль и выжить. Сколько может продлиться смирение – полчаса или сутки – у всех людей по-разному, в зависимости от особенностей их нервной системы. Но исход может вылиться и в самые неприятные формы как буйное помешательство с действительным поражением психики или нервная истерия, опасная для самой личности – суицид – и для окружающих. Институтская методика в таких случаях вряд ли могла быть полезной. Патологоанатом полагался исключительно на свою интуицию.
Вдруг парень вздрогнул, извлек из кармана рубашки маленький шприц и две ампулы. Содержимое одной из них влил в свою вену на локтевой ямке, вторую дозу подарил своей девушке. Все это проделал без суеты, легкими, привычными движениями.
– Это поможет тебе. Ты встанешь, ты просто обессилела. Помнишь, тебе уже это помогало… и сейчас поможет… не может не помочь.
Его язык становился ватным, а речь тягучей, распевной. Он медленно, нежно гладил волосы девушки, целовал маленькие пальчики ее совсем еще детских пухлых, с ямочками на тыльной стороне ладони рук, целовал глаза с пушистыми, вьющимися ресницами без капли косметики, вздернутый аккуратный носик с бледно-коричневыми бусинками веснушек, еще ярко-розовые, чуть капризные губы. Ничто не говорило в ее облике о смерти, что несколько часов назад вмешалась в их любовь и теперь тащила девушку в свою бездну, пугающую живой мир. Казалось, юноша просто усыплял свою любовь, рассказывая ей волшебные сказки, лучшей из которых оставалась сказка их любви.
– Я отнесу тебя к озеру, к нашему озеру, положу на плот, наш плот, ты, конечно, помнишь и плот, и озеро. Молчи-молчи, отдыхай, не напрягайся. Я все сделаю сам. Мы поплывем на середину озера, где коса, где мы стояли с тобой по пояс в воде, танцевали, дурачились перед камерой… То ты, то я… Потом чайки прилетели. Много чаек. Белое одеяло укрыло озеро, воду. И мы вдвоем среди них. Не побоялись они нас… почему-то. Тебя разве можно бояться? Ты же свет, солнышко… теплое всегда, лучистое, смешливое, ясное, как то небо, что было над нами, и чистая, свежая, прозрачная, как вода в нашем озере. Мы доплывем до подводных скал, бросим якорь, там и останемся вместе… вместе… навсегда. Прилетят птицы, согреют наши тела перьями. Я не оставлю тебя здесь, не отдам тебя им. Они не найдут нас. Там мы и будем всегда… на наших скалах.
Патологоанатом благодарил вентилятор за его быстрые, широкие лопасти, что частично скрывали от него душераздирающую картину в приемнике морга. Мальчишеские слова рвали его видавшее многое сердце, больно щипали его высохшую кожу, натягивали нервные струны и нещадно перерезали их. Он не мог это слышать, а тем более видеть.
Карусель бешено крутилась в голове. Казалось, волчок в любую секунду сорвет его думающее устройство и умчится вместе с ним в черное чрево космоса. Но действовать в его положении было невозможно, оставалось только ждать в роли невольного свидетеля чужого горя, что разлилось перед ним безбрежным озером с маленьким деревянным плотом посередине, прямо над вершиной подводной скалы.
Парень говорил, говорил, говорил. Больше шепотом и поцелуями. Шум вентилятора доносил до патологоанатома обрывки слов. Только бы мальчишка уснул, тогда до рассвета можно будет успеть изменить ситуацию, какой-нибудь палкой остановить лопасти, проникнуть в приемник, вколоть парню успокоительное еще на два-три часа сна. Тогда все пройдет тихо, без шума, скандала и паники родственников. Еще эти чертовы ампулы, видимо, с наркотической дрянью, которые лучше скорее уничтожить во благо самого же мальчишки. Если его подружка при жизни тоже баловалась наркотиками, то ее разложение может произойти быстрее обычного. Такие трупы обезображиваются, темнеют, покрываются пятнами, как правило, в считанные часы с момента смерти. Неужели ее красота сгорит в пламени яда еще до его патанатомического вмешательства? А каково будет ее родным получить синюшную развалину вместо ангела?
Патологоанатом приподнялся, чтобы в чердачном пространстве поискать крепкую палку для остановки вентилятора. Ничего, одна крошка на полу. Он выбрался на крышу, спустился по лестнице во двор и стал рыскать по нему. В этой суете он даже не вспомнил о дежурной. «Я возьму тебя с собой!» – стучало в его голове как симптом болезни, которую он обязан был уничтожить.
Он нашел в сарайчике метлу дворничихи, попытался сорвать прутья, но ничего не вышло, только еще более изодралась рука, теперь уже левая. Так с этой метлой он и полез на крышу.
Увидеть в ту ночь патологоанатома, странного типа со странной репутацией, на крыше морга с метлой желали бы многие городские обыватели, чтобы убедиться еще раз в правоте своих опасений относительно его сатанинской сущности. Сей факт пришелся бы как нельзя кстати его соседям для немедленного выселения его из бывшей родительской квартиры. На его счастье, безлунная, дождливая ночь прятала окровавленное, бегущее по крыше тело от чужого, злого глаза.
Патологоанатом с легкостью раненого кузнечика снова запрыгнул в чердачное окошко. Сердце билось громче булькающих звуков воды о гулкую крышу. Он задыхался. Смола в легких, накопленная за годы курения, давала о себе знать. Еще чуть-чуть, еще метр – и ситуация окажется под контролем его всегда спокойного, сдержанного разума. Это не мистика, не наваждение, это всего лишь глупая ошибка дежурной и его легкомысленная недооценка изворотливости юноши. Все закончится через триста секунд. Триста секунд – и все встанет на свои места.
Он подкрался, насколько тяжелые, бухающие, быстрые шаги можно назвать подкрадыванием, к заветной дыре и опустил в нее всклокоченную голову. Каталка одиноко светилась в полумраке приемника. Патологоанатом до звездочек сжал веки, выдернул из пустоты голову, встряхнул ею и вновь погрузил половину своего тела в отверстие люка. Та же желтизна клеенки и ничего более. Останавливать палкой лопасти вентилятора и прыгать вниз уже не имело смысла. Он побежал назад к чердачному окну, уже в четвертый раз протиснулся в его маленький квадрат и, стоя на блестящей от воды, скользкой крыше, попытался осмотреть окрестности своей обители.
Серая завеса дождя скрывала все дальше пяти метров. Он направился к пожарной лестнице, но вдруг потерял равновесие, ноги смешно и неуклюже разъехались, задергались, пытаясь приклеиться, прилипнуть к капризной, будто полированной крыше, пальцы цеплялись за воздух. Тело сопротивлялось неминуемому падению с таким упорством и упрямством, что казалось, что законы тяготения признают победу и волю одержимого мужчины в драном, грязном, окровавленном одеянии и сохранят за ним оставшуюся целостность.
Но природа все-таки взяла свое. Патологоанатома понесло к краю пропасти, ноги взлетели, копчик рухнул на мокрый металл, отчего сознание мгновенно притупилось и перестало реагировать на это нелепое погружение в тартар. Когда пустота уже готова была принять его в свои объятия, левая кисть вцепилась за последнюю соломину – невысокое проволочное ограждение. Тело поболталось на высоте трех метров и свалилось в огромную лужу, бесцеремонно затопившую ухоженный дворик морга.
ГЛАВА 9
Патологоанатом открыл глаз. Только один. Второй, как и вся половина лица, был в луже. Врач лежал на правом боку, на больной руке, и не мог опереться на нее, чтобы подняться на ноги. Было холодно. Теперь все его тело кромсала боль. Она впилась остренькими зубками в его кожу, проползла тысячами иголок под ногти, ныла в зубах, жгла глаза, ела его мякоть и крошила на маленькие порции кости. Патологоанатом тупо смотрел одним глазом на тусклую лампочку, что освещала крыльцо морга, и не понимал происходящего. Голова ныла, шумела, гудела, погружая его то в морскую пучину, то в жгучие песчаные барханы, а лампочка казалась палящим солнечным блином, который почему-то совсем не грел его замерзшее тело. Но тут в ее туманном свете появился корабль, нет, парусник, яхта красного цвета с кремовыми парусами. Они танцевали на легком ветерке, плавно колыхались в такт маленьким белым волнам, рассыпались в лучах солнца на длинные, тонкие золотые нити, завораживали отрешенный взгляд патологоанатома. Словно сирены, сладкоголосые дочери речного бога Ахелоя и музы Мельпомены, эти кремовые паруса манили его к себе, тянули из липкого, холодного месива за собою в свою непостижимую тайну на восьми небесных сферах космоса. Патологоанатом забыл о больном локте, надавил на него всей своей разбитой массой и медленно начал поднимать верхнюю часть туловища из лужи, стараясь сесть. С волос, ресниц, носа, плеч мутными струями стекала вода, застилала четкое видение происходящего. Мутное сознание, мутная вода, мутный образ парусника, мутное состояние. Тошнота подступила к горлу – его вырвало кисловатой массой.
Ничьи продукты жизнедеятельности так не противоестественны как человеческие. В этом патологоанатом был убежден, потому как видел человеческое разложение каждый день. Дикая природа тонко балансирует между жизнью и смертью своих обитателей, между приходом и уходом, меж поглощением и испражнением. Природная круговерть порождает и уничтожает, не нарушая своей красоты, чистоты и вечной девственности, чего нельзя сказать о человеческом обществе. Природа пульсирует жизнью, хотя и в ней есть место смерти. Но продукты последней не видны. Есть особи: гиены, шакалы, стервятники, вороны, мириады насекомых и микроорганизмов, питающихся падалью. Природа не строит памятники смерти, как это делают люди. Она не воспевает смерть, она уничтожает ее плоды во имя вечного торжества жизни. Поэтому-то в ее объятия, в благоухающие объятия природы, хотя бы изредка за глотком этой caмой жизни бегут люди. А здесь, в роскоши цивилизации, они проходят свои коротенькие дистанции в постоянном страхе перед смертью, среди безвкусных карнавалов смерти, которую сами воспевают на кладбищах, во время похоронных процессий, в кровавых сценах киношных фантазий, в безжизненных мелодиях заупокойных литургий, в садистских и вурдалакских образах криминального чтива. Сами. Сами люди боятся ее и сами культивируют ее. Это вдалбливают в еще умеющие удивляться и радоваться детские уши церковники, святоши, моралисты и фарисеи. Помни о ней, страшной! И все помнят ее, молят ее о благосклонности, каждый день просят ее не явиться раньше срока, и так в этом унизительном рабстве перед смертью проползает вся человеческая жизнь.