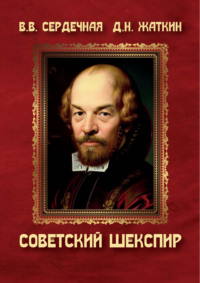Полная версия
Уильям Блейк в русской культуре (1834–2020)
Позднесоветский «Литературный энциклопедический словарь» вообще не дает обобщающего определения: «Романтизм, одно из крупнейших направлений в европ. и амер. лит-ре кон. 18-1-й пол. 19 вв., получившее всемирное значение и распространение» [Гуревич, Манн, 1987, 334]; далее рассматривается историческое развитие термина и конкретизируются его аспекты, такие как двоемирие, ирония и пр.
Противоречия трактовки романтизма очевидны, например, в следующем определении из недавней «Теории литературы»: «Романтизм – художественное направление, для которого инвариантом художественной концепции мира и личности стала система идей: зло неустранимо из жизни, оно вечно, как и вечна борьба с ним; „мировая скорбь“ – состояние мира, ставшее состоянием духа; индивидуализм – качество романтической личности, романтизм – новое художественное направление и новое мироощущение, романтизм – искусство нового времени, особый этап в развитии мировой культуры» [Борев, 2004, т. 4, 220]. В частности, первая часть определения, говорящая о пессимизме направления, определенно не отвечает принципиальным моментам мирового романтизма, в особенности раннего.
Более состоятельным выглядит определение А. Е. Махова: «движение в европейской и американской культуре конца 18 – первой половины 19 в. Р. противопоставил механистической концепции мира, созданной наукой Нового времени и принятой Просвещением, образ исторически становящегося мира-организма; открыл в человеке новые измерения, связанные с бессознательным, воображением, сном» [Махов, 2001, 893]. Здесь очевидно восприятие романтизма прежде всего как мировоззрения (с несколько неопределенной категорией «движение в культуре»), которое определяет и поэтику.
Интересно уточняющее определение, в котором говорится лишь о поэтике романтизма: «РОМАНТИЗМА ПОЭТИКА – в противоположность классической поэтике воплощения может быть охарактеризована, при всем многообразии форм, как поэтика романизации и развоплощения – раскрытия бесконечного в конечном, становящегося в готовом, необыкновенного и таинственного в обыкновенном, непостижимого в известном и понятном» [Рымарь, 2008, 220]. При некоторой расплывчатости определения оно, по крайней мере, представляет собственную концепцию романтической литературы, а не суммирует разнородные признаки явления.
При этом в различных литературоведческих культурах понятие романтизма трактуется по-разному. Так, например, современная писательница Айн Рэнд пишет: «Романтизм – это эстетическая категория, основанная на признании того, что человек способен к волевому акту <…> Романтизм – продукт девятнадцатого века (в значительной мере подсознательный), результат двух мощных влияний – аристотелианства, освободившего человека, утвердив могущество его разума, и капитализма, давшего разуму свободу воплощать свои идеи на практике (второе влияние само по себе вытекало из первого)» [Рэнд, 2011, 100–103]. Очевидно, что в привычной для отечественного исследователя философско-исторической парадигме причины и признаки романтизма иные: родоначальником романтического более привычно считать не Аристотеля, а Платона, а его причиной – не капитализм, а протест против капитализма.
«Романтизм», по истечении более чем двухвековой истории термина, являет собой многозначное понятие, которое трактуется различно в этапах своего развития, в различных культурных парадигмах и в литературоведческих традициях. Оно имеет отношение и к философскому течению, и к литературе, и к живописи, в предельно широкой трактовке обозначая период времени с общими характерными приметами, а в предельно узкой – имена и творчество отдельных лиц.
К концу XX века, осознав наличие существенных противоречий в содержании термина «романтизм», исследователи нередко приходят к отказу от его понятийной трактовки. Так, когда А. В. Михайлов пишет, что термин «романтизм» «„связан“ историей, судьбой народа в его истории» [Михайлов, 1997, 25], и что «ни романтизм, ни классицизм, ни барокко невозможно определить формально-логически» [там же, 26], – он, по сути, отказывается от использования слова в научных целях, как литературоведческого термина. С. Н. Бройтман практически не использует понятие «романтизм» в монографии о русской лирике [Бройтман, 1997], говоря просто об эпохе нетрадиционалистской и диалогической поэтики (либо деканонизации литературы).
Вместе с тем устойчивое употребление термина «романтизм», в частности, в литературоведении, и постоянная актуализация его, даже расширение значения – неслучайны. Факты активного использования данного понятия в XXI веке как в русском литературоведении [Борев, 2001; Вишневская, Сапрыкина, 2002–2010; Ботникова, 2003; Грешных, Лихина, Васкиневич, Свиридов, 2003; Халтрин-Халтурина, 2009; Хачатуров, 2010; Махов, 2017], так и в зарубежном [Löwy, Sayre, 2002; Holland, 2009; Blanning, 2012; Breckman, 2015; Safranski, 2015; Casaliggi, 2016; Hamilton, 2019] свидетельствуют не только о традиционности исследований и привычности термина, но и о существующей в нем насыщенной и объемной предметно-понятийной составляющей, которая не теряет своей актуальности, однако, по всей видимости, нуждается в теоретическом уточнении.
Как писал сто лет назад американский литературовед Ирвинг Бэббитт, самое опасное при определении романтизма – «принять за главное более или менее взаимосвязанную группу фактов, которые в действительности вторичны: например, сконцентрироваться на обращении к средневековью как центральному факту романтизма, в то время как это обращение не более чем симптоматично; и оно далеко от того, что составляет суть явления»[6] [Babbitt, 1919, 2–3].
Сегодня представляется важным и обоснованным говорить о литературном романтизме, «укоренив» его как во времени, так и в эстетико-философской идентичности. Романтизм как явление, в частности, литературы, необходимо заново дедуцировать, извлечь из массы конкретных текстов, по возможности очистив от наносных социологических, психологических и других инотеоретических концепций, от бесперспективной тематической трактовки. Отечественное литературоведение так или иначе должно также сводить воедино мировую теорию литературы с наработанными практиками исследования романтизма в русском советском литературоведении, отбрасывая лишнее и оставляя только принципиально важное.
Работу по уточнению понятия романтизма начало отечественное литературоведение конца XX века, определяя романтизм уже не в марксистской историко-социологической перспективе и не через противопоставления (романтизм vs классицизм, романтизм vs реализм), а через более общие понятия поэтики. С. С. Аверинцев в 1980-е годы говорит о конце XVIII в. как о конце традиционалистской установки как таковой [Аверинцев, 1981, 7]; далее было определено, что эпоха романтизма открыла «индивидуально-творческий тип» художественного сознания [Аверинцев, Андреев, Гаспаров, Гринцер, Михайлов, 1994, 4]: она начала его, но не исчерпала; этот тип определяет нашу культуру до сих пор. В дальнейшем поэтика этой эпохи, начиная с романтизма, получила также название «поэтики художественной модальности» [Тамарченко, 2004].
С. Н. Бройтман признается: мы можем зафиксировать, начиная с конца XVIII в., новый тип поэтики, но, «хотя выяснены некоторые принципы новой поэтики, целостное представление о ней в науке пока отсутствует» [там же, 222]. Отмечаемые часто как своеобычные признаки романтизма, некоторые отмеченные, «схваченные» черты этой поэтики характерны для всего объема литературы и XIX века, и последующих. Остановимся на них несколько подробнее.
Ситуация романтической акцентуации в философии, искусстве, мировоззрении в конце XVIII в. исходит в первую очередь из изменившегося самоощущения европейца. Его идентичность, постепенно освобождаемая в философско-эстетических революциях Ренессанса и Просвещения, сформировалась как идентичность уникальной личности, уникального и ни с кем не сравнимого субъекта истории.
В романтизме провозглашена «автономная личность», что подразумевает «субъективизм» романтиков; объект изображения переносится извне наблюдающего сознания вовнутрь. В этом смысле закономерно рождение гибридного литературного вида, лироэпики, как привнесение в эпос личностного начала. И так же закономерно то, что из литературы вытесняется риторика: любые правила оказываются не столь важны перед законом индивидуального творческого сознания. «Романтизм принес с собою прямое полнозначное слово без всякого уклона в условность. Для романтизма характерно до самозабвения экспрессивное прямое авторское слово, не охлаждающее себя никаким преломлением сквозь чужую словесную среду» [Бахтин, 2003, т. 1, 224]. Это какой-то новый уровень искренности, первичность литературы, которая отказывается вечно воссоздавать идеальные образцы и хочет обрести собственный голос.
Романтизм – это нескончаемый субъект, который уже не себя «влагает» в мир, как в заготовку, но меряет мир собой; ему присуща «непрерывная активность романтического сознания, которая лишь в некоторой мере запечатлела себя в художественных произведениях и ни в коей мере ими не исчерпывается» [Махов, 2017, 7]. Как пишет М. М. Бахтин: «Я не могу всего себя вложить в объект, я превышаю всякий объект, как активный субъект его <…> конкретное переживание своей субъектности и абсолютной неисчерпанности в объекте, момент, глубоко понятый и усвоенный эстетикой романтизма (учение об иронии Шлегеля), в противоположность чистой объектности другого человека» [Бахтин, 2003, т. 1, 118]. И дело тут не в индивидуализме, не в «эгоизме» романтиков; а в том, что былая система предписывающих правил (прежде всего в творчестве) взламывается и отвергается. Отсюда – отказ от риторических готовых формул; отсюда – психологизм. Отсюда – жанр романа, полиродовая и сложная структура словесности, которая станет главной в литературе до сегодняшнего дня.
Более того, и герой становится личностью, уже не только объектом изображения, но и субъектом: «романтики впервые создают в литературе не образ-характер, а образ-личность» [Тамарченко, 2004, 237]. Странно живой герой становится подобен автору, автор узнает в нем себя. Явление лирического героя развивается в романтизме с небывалой мощью; отныне любое произведение так или иначе будет прочитываться «в поисках» лирического героя. Я завершаю мир в акте творения; мир незавершен, и моя задача – задача творца. Это всесилие – истинное начало модерна, но этот модерн еще не трагичен, поскольку еще не знает пределов простору личности.
В то время как Просвещение, в стремлении охватить мир познающим сознанием, стремилось классифицировать и описать его в энциклопедическом проекте, романтизм уже понимает, что это утопия: мир больше и богаче любых схем и описаний. Принципиально важным шагом европейской мысли и творческой практики становится открытие незавершенности мира – и героя; отсюда возникают романтическая ирония и фрагментарность как жанровый прием. Так, М. М. Бахтин пишет о принципиальной «незавершенности» романтического героя: «Герой, например, не закрыт и внутренне не завершен, как и сам автор, поэтому он и не укладывается весь целиком в прокрустово ложе сюжета, который воспринимается как один из возможных сюжетов и, следовательно, в конце концов как случайный для данного героя. Такой незакрытый герой характерен для романтизма, для Байрона, для Шатобриана, таков отчасти Печорин у Лермонтова и т. д.» [Бахтин, 2002, т. 6, 95].
Важнейшие константы художественной природы литературы романтизма – сложность иносказания (авторская аллегория) и небывалые ранее отношения автора и героя. Это отмечал в романтизме и Бахтин: автор выражает героя через самого себя, подходит к нему, в новой степени, как к равному. Вот начало истинного диалогизма автора и героя в литературе. Классицизм предлагает готовые формы знаков для говорения о мире; романтики создают личные, авторские знаки, еще, может быть, не совсем символы, но сложно устроенные аллегории. Таков голубой цветок Новалиса, герои произведений Гельдерлина, Блейка, Шелли.
Незавершенность мира оказывается незавершенностью процесса творения мира (и отсюда роль автора как со-творца). Н. Т. Рымарь обозначает это качество как «поэтику развоплощения стихии вечного творчества в человеке, мире, истории» [Рымарь, 2008, 220]. Эта идея воплотилась у Шеллинга в концепции «вечного творчества» (ewige Bildung). Автор-творец сливается со своим творением: «Основа романтической образности (образ бесконечного) есть самопереживание: „Все во мне и я во всем“» [Бахтин, 2003, т. 1, 118]. И вместе с тем мир находится в вечном становлении, – как и литературное произведение; оно никогда не окончено, его фрагментарность принципиальна; «в этом осознании несоизмеримости готового творения и неостановимого движения духа, который никогда не станет „готовым“, собственно, и состоит романтическая ирония» [Махов, 2017, 7].
Искусство начинает пониматься не как работа по правилам (в духе нормативных поэтик и вечного стремления воссоздать идеальные образцы), а как игра с правилами, которые создаются в процессе творчества (и отсюда – стирание жанровых границ). Игра с жанрами, с размерами, с сопоставлениями; контрасты, гротеск и арабески. «В романтизме – оксюморное построение образа: почеркнутое противоречие между внутренним и внешним, социальным положением и сущностью, бесконечностью содержания и конечностью воплощения» [Бахтин, 2003, т. 1, 259].
Отсюда же – и поиск инокультурных и иновременных идеалов, и эстетизация фольклора. «Консерватизм» романтиков происходит от их дерзкого оборота в не-античное прошлое как источник красоты и истины; «революционность» их – того же происхождения, только это дерзание направлено на будущее. И, конечно, историческая концепция каждого романтика, хоть Блейка, хоть Новалиса, хоть Байрона, сложнее, чем просто «консерватизм» или «прогрессивность». Как отмечает К. Колбрук, «романтизм как проблему можно определить как исторически определенный текст: изначально это пост-просвещенческая реакция против универсальных систем – против сведения мира к предопределенным ячейкам, – за которой следует признание того, что засилье воображения и хаос требуют некоторых границ»[7] [Colebrook, 2013, 12]. Как писал Блейк в поэме «Иерусалим», «я должен создать систему, или буду порабощен чужими системами»[8] [Blake, 1988, 153].
Подведем итоги обзору философских оснований романтизма, которые становятся источником и для черт романтической поэтики.
Источник романтического сознания связан с зародившимся в Просвещении переосмыслением личности, которое завершается в романтизме. Личность, осознающая себя как центр познающей вселенной, оказывается свободна от ограничений любой более ранней поэтической формы, свободна от жанровых рамок и рамок былых эстетических идеалов. Этот запал личностной свободы от романтизма переходит и в настоящее время, утверждение творческой свободы стало отличительным знаком неканонической, авторской эстетики, вот почему существует серьезный теоретический соблазн обозначить романтизм как «творческий метод».
Вновь открытая свобода личности предопределяет переосмысление образа автора как творца, демиурга собственной вселенной, и потому автор становится ключевой фигурой текста, а его герой, также осознаваемый как личность, становится alter ego автора. Автор вступает с ним в субъект-субъектные отношения; развивается понятие лирического героя.
Отталкиваясь от ряда традиционных эстетик, и прежде всего от классицизма, романтизм в своей художественной практике утверждает ряд принципиальных положений:
• разомкнутость, незавершенность и вечное становление мира (вместо энциклопедической полноты описания);
• универсализм мира; важность противоположных, взаимодополняющих сторон бытия (вместо однозначной морали);
• сложность авторского иносказания (вместо системы разработанных традиционных аллегорий);
• интерес к средневековому искусству, готике (вместо идеализации античности);
• эстетическая объективация фольклора как явления искусства;
• фрагментарность как жанровый принцип, обоснование гибридных жанров романа и лироэпической поэмы как отражающих сложность и незавершенность мира (на смену строгой жанровой иерархии);
• синтетичность познания, смешение наук и искусств в единую «симфилософию» (Ф. Шлегель) (вместо классификации знаний);
• романтическая ирония как свидетельство неполноты нашего знания о мире.
Результатом всего этого становится, по крайней мере в раннем романтизме, еще не тронутом суровой отрезвляющей философией одиночества в толпе, концепция радостной открытости человека миру – то самое состояние, которое Блейк воссоздает в «Песнях невинности», а Ф. Шлегель называет «фестивальностью» и «урбанностью» (Festivalität, Urbanität).
В то же время представляются сомнительными теоретические перспективы следующих атрибутов романтизма:
• разделение на «революционный» (демократический, активный) и «реакционный» (аристократический, пассивный);
• понимание романтизма как вечного, вневременного «нереалистического» творческого метода;
• концепция романтического «двоемирия» [Гуревич, Манн, 1987, 334]: разрыв между реальностью и мечтой, отчасти свойственный позднему немецкому романтизму, не может быть характеристикой всего романтического периода; для раннего романтизма, напротив, свойствен универсализм, всеобщность восприятия мира;
• далеко не для всего романтизма свойственна идеализация «патриархальной старины» [Гуревич, Манн, 1987, 335];
• определяющий конфликт «герой и толпа» также свойствен далеко не для всей творческой практики романтизма.
Вышеперечисленные проблемы определения романтизма относятся и к Блейку, которого исследуют уже более полутораста лет. Приступая к разговору о его творчестве, также необходимо очищать восприятие от наработанных в Blake studies штампов: биографических («сумасшедший визионер»), социологических («воинствующий гуманист»), тематических («поэт зла» или, напротив, «детский поэт»). Начиная расшифровку иносказаний Блейка, исследователи приходили к абсолютно противоположным выводам: кто-то, как автор «Словаря Блейка» С. Фостер Дэймон, воссоздавал стройную и сложную аллегорическую систему, а кто-то предлагал отказаться от попыток интерпретации его поэзии, доказывая принципиальную незавершенность его иносказаний. Творчество Блейка само по себе непросто, а уж его соотнесение с понятием романтизма и тем более сложная задача.
У Блейка есть своя история признания как романтика в мировом литературоведении. Вплоть до последней трети XX века он, как и, например, Джейн Остин, Уильям Купер и Бернс, оставался изолированным феноменом английской литературы. Принципиальным родом литературы романтизма считалась лирика, а хронологические границы английского романтизма строго датировались: от 1789 года (Французская революция) и до 1832 года (избирательная реформа, Great Reform Bill) [Simpson, 2003]. Признанию Блейка как романтика отчасти мешала его репутация «мистика», то есть писателя как бы вне времени и социума, сложившаяся в процессе его рецепции прерафаэлитами и символистами (братья Россетти, Суинберн, Йейтс, Элиот); и в дальнейшем он долго оставался своего рода литературным одиночкой.
Нортроп Фрай, один из ведущих исследователей Блейка в середине XX века, стремится ввести его в контекст литературного процесса, однако делает это не в рамках романтизма. Он предложил для ряда близких авторов: Беркли, Стерна, Грея, Макферсона («Поэмы Оссиана») – объединяющее понятие «эпоха Блейка» (the age of Blake) [Frye, 1947, 167–168], синоним предромантизма. Еще в книгах 1950-х годов при описании английского романтизма творчество Блейка не упоминалось – например, в монографиях «Английские поэты-романтики» [Raysor, 1956] или «Главные поэты английского романтизма» [Thorpe, Baker, Weaver, 1957]. Как предшественник романтизма Блейк появляется в учебнике 1958 года [Anderson, Buckler, 1958, v. 2, 139–149].
Однако начиная с 1950-х годов Блейк постепенно начинает рассматриваться в соотношении с эпохой романтизма. Так, Р. Уэллек то называет Блейка, в силу его приверженности воображению и мифопоэтике, первым из романтиков [Wellek, 1949, 161], то отказывает ему в принадлежности к течению, пересмотрев понятие романтизма в свете немецких философских источников явления [Wellek, 1963, 218]. М. Пекхэм утверждает, что Блейк – «несостоявшийся романтик <…> Просвещение плавилось вокруг него, но он в страхе откатился на позиции раннего шестнадцатого века»[9] [Peckham, 1970, 213]. Особенно интересен пример с Уэллеком: здесь очевидно, как пересмотр роли Блейка находится в тесной связи с переосмыслением понятия основ романтизма.
Большую роль в утверждении Блейка как романтика сыграли Д. Эрдман, решительно преодолевший миф об оторванности поэта от своего времени [Erdman, 1954], и Г. Блум, написавший, в частности, о том, что «современная английская поэзия – изобретение Блейка и Вордсворта»[10] [Bloom, 1968, 17]. Блейка начинают включать в антологии романтической поэзии [Auden, Pearson, 1950; Bewley, 1969 и пр.]. Постепенно великая пятерка романтических поэтов (Big Five: Вордсворт, Колридж, Байрон, Шелли, Китс) превратилась в великую шестерку, Big Six.
В отечественной критике Блейка достаточно долго относили к предромантизму – понятие, которое по понятным причинам еще труднее определить, чем романтизм. В критике советского периода писали: «Блейк был первым провозвестником романтического направления в английской литературе» [Елистратова, 1957, 189]; «Он стал предтечей революционного романтизма Шелли и Байрона» [Некрасова, 1957, 4]. Н. Я. Дьяконова не находит возможным включить главу о Блейке в свою книгу «Английский романтизм. Проблемы эстетики», поскольку он был слишком изолирован от романтического движения [Дьяконова, 1978, 7]. «Предвосхищает» романтизм Блейк и в статье «Литературного энциклопедического словаря» [Гуревич, Манн, 1987]. Современный автор Е. В. Халтрин-Халтурина аргументирует то, что Блейк относится к предромантизму, так: «видения, наполняющие его поэзию, более походят на мистические пророчества (= плод вдохновения), чем на „озарения“ (= плод воображения)» [Халтрин-Халтурина, 2009, 284–285]. Эта аргументация любопытна, однако вопрос о принципиальной дифференциации вдохновения и воображения требует дальнейшего прояснения и не выглядит однозначным. Впрочем, с 1970-х годов о Блейке уже и в отечественной критике нередко пишут как о романтике.
Понятно, что попытка «вписать» Блейка в романтизм как движение была безнадежна: он был в своем роде творческим одиночкой, хотя и отзывался на произведения других английский поэтов той поры (например, написал небольшой ответ на байроновского «Каина»). В англоязычной критике Блейк был признан одним из «большой шестерки» поэтов-романтиков только в 1970–1980-х годах.
Обратимся к принципиальным признакам романтизма, как перспективного обобщающего исследовательского понятия, в отношении к Блейку.
Начнем с главного: с романтического субъекта. У Блейка достаточно сложная концепция человека и личности, глубоко укорененная в христианско-мистической традиции. В пророческих поэмах Блейк высказывает свою концепцию человека с большой силой, и не всегда глубоко зашифровывает в иносказании. Например, он пишет в самой своей яркой и «публицистичной» поэме «Бракосочетание рая и ада»:
«1. Душа и Тело неразделимы, ибо Тело – частица Души и его пять чувств суть очи Души.
2. Жизнь – это действие и происходит от Тела, а Мысль привязана к телу и служит ему оболочкой.
3. Действие – Вечный восторг»[11] [перевод А. Сергеева; цит. по: Блейк, 1978, 256].
Нужно отметить здесь: Блейк утверждает сущностное единство человека. И более того: изначально человек открыт ко всему миру и имеет возможность воспринимать его абсолютно неограниченно. Правда, эта возможность когда-то была ограничена (так Блейк трактует грехопадение), но это может и должно быть исправлено: «Если б врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность. Но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер»[12] [Блейк, 1978, 263].
Блейк заостряет свое высказывание о человеке и Боге, подавая его из уст «Дьявола»; но очевидно, что этот Дьявол – лишь повествовательный голос, риторическая маска: «Поклоняться Богу – значит чтить дары его в людях, отдавать каждому должное и больше других любить великих людей; кто завидует и возводит хулу на великих, тот ненавидит Бога, ибо нет во вселенной иного Бога»[13] [Блейк, 1978, 268]. И, наконец: «И люди забыли, что Все божества живут в их груди»[14] [там же, 262].
Эта радикальная трактовка концепции богочеловечества в высшей мере выражает радикальность перемены, которая произошла с европейским человеком в конце XVIII в.
Человек у Блейка – всесилен и воплощает божество; тем более это касается творческого начала, которое олицетворено у Блейка в образе кузнеца-Лоса. Да и о Христе Блейк пишет: «Иисус, и его апостолы, и ученики – все были художниками»[15] [Blake, 1988, 274]. И далее (в документе, известном как «Лаокоон»):
Молитва – это исследование искусства.Восхваление – это практика искусства. <…>Действие есть искусство[16] [там же].Вместе с тем и ограничения для вольного человеческого духа Блейк более чем сознает. Ведь «бесконечный мир восторга» закрыт для него, скрыт его телесной сущностью: «скрыт вашими пятью чувствами». Отсюда растет глобальный миф Блейка, развернутый в «пророчествах»: это история падшего человечества и пророчество о его избавлении от последствий грехопадения. Трактовка грехопадения далека от моралистической; Блейк уравнивает грехопадение с трагическим разделением и ограничением человеческого духа, которое произошло в вечности и происходит с нами каждый день.