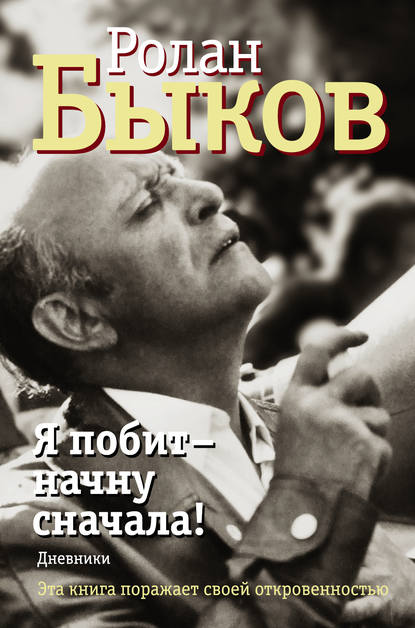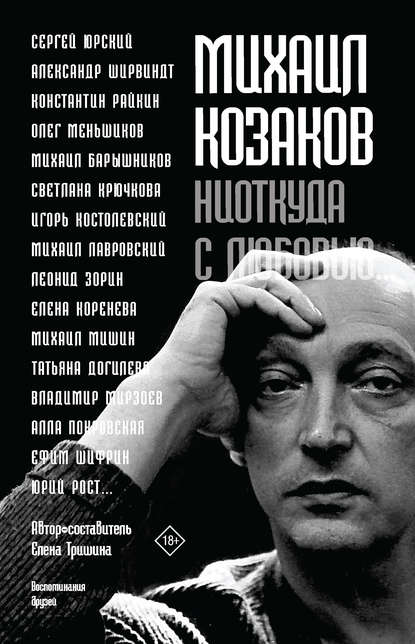Полная версия
Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на «Кинотавре»
Несколько раз она уезжала в Москву, в театр, на спектакль. Подростки и лохматая собака, собираясь во дворе гостиницы, молча ждали ее.
Чулпан возвращалась из Москвы гранд-дамой, переодевалась в свои съемочные наряды, превращалась в пацанку, кубарем катилась с пыльного склона со своими “фанатами”. Счастью не было предела, чульпановскому счастью, собачьему счастью, счастью детей-подростков. Только ветеринар ходил с тоскливыми глазами, предлагал уже пятьдесят баранов и полторы коровы.
Начались съемки. Бахтияр – фокусник и маг. Он придумывает страннейшие мизансцены, многоплановые переходы, где кинокамера то следует за актерами, то бросает их, увлекшись разглядыванием глаз верблюда. Потом вновь догоняет актеров, те уже на пароме (изгнание из городка Чулпан Хаматовой), уплывают, теряясь в тумане… Съемки набирают силу. Всем командует Бахтияр. Становится понятным, почему он построил “свою Венецию”. Чулпан и все актеры, подхваченные энергией режиссера, живут в кадре чрезвычайно естественно…
Мне надо уезжать в Лос-Анджелес. Я писал там сценарий для Юлии Робертсон. Вдова канадского бизнесмена, сама режиссер-документалист, пожелала снять игровое кино и заказала мне сценарий. Ночью мне в Калифорнию на Венис-Бич звонят Бахтияр и Чулпан. “Ираклий, у нас утро, садимся в автобус, едем к водохранилищу, снимаем сцену, ту, где Чулпан признается отцу, что беременна. Тебе эта сцена никогда не нравилась. Может, придумаешь что-то более интересное, а?”
Чулпан берет трубку: “Ираклий, помнишь, ты рассказывал про своего дедушку Давида Миндадзе, который…” – Телефон замолчал. Ночь. Я сижу, жду звонка. В окне – пятиметровые океанские волны.
В телефоне ожил голос Чулпан: “Вот эту историю… Думаю, она ляжет на разговор о моей беременности… Бахтияр отошел в реквизитную, просил сказать, что надо написать прямо сейчас, пока мы доедем до водохранилища, минут за сорок – пятьдесят”. – “Чулпан, но я не услышал, что за история про дедушку?”
Вновь выключился телефон. Теперь навечно. Что я рассказывал о своем дедушке, что может пригодиться в истории, когда Чулпан сообщает своему отцу страшную весть: она беременна неизвестно от кого!
Я налил кофе, пошел к океанским волнам… Они с ума все посходили? Эти Хаматовы, Бахтияровы, Баумгартнеры? Все хотят за пять минут написанные сценарии!.. “Напиши, пока мы доедем до водохранилища…”
И неожиданно чашка, которую я держал в руках, “заговорила”. Она напомнила то, что я рассказывал Чулпан. В детстве я разбил любимую чашку Давида Алексеевича Миндадзе, моего деда. Ужас! Как сообщить ему, что я разбил чашку? Я, восьмилетний, прошу маму: “Ты скажи”. Она отказалась. Захожу в комнату деда. Он читает газету “Коммунист Востока”. “Дедушка, я тебе что-то должен сказать”. – “Что, малыш?” Молча оглядываюсь, вижу в шкафу дедушкины галстуки. “Можно я сперва свяжу тебе руки?” Дедушка в хорошем настроении, неожиданно соглашается. Я связываю галстуком его руки, вторым ноги. Он улыбается: “Ну, говори!” – “Я разбил твою любимую чашку”. Дед взревел. Хотел вскочить. Я бежал и слышал вслед вопли, ругань: “Шени деда мовсткан!” Бегу от океана к бумаге.
Звонят из Таджикистана. “Чулпан, ты имела в виду историю разбитой чашки?” – “Да”. Чулпан хохочет, когда я читаю наспех записанный диалог между ней и отцом.
Тот, кто видел фильм, помнит один из самых ярких трагикомичных эпизодов “Лунного папы”, когда дочь связывает отца (не галстуками, конечно) и признается в своей беременности.
Прошло много лет. Чулпан Хаматова снялась во многих фильмах, они ей принесли славу, имя выдающейся актрисы, большие роли в театре (“Дневник Анны Франк”, “Три товарища”, “Мама, папа, сын, собака”), большие награды – “Золотая маска”, “Кумир”, “Тэффи”. А я, когда слышу имя Чулпан Хаматова, вижу идущую босоногую девочку в коротком платье, в сандалиях, за ней идет лохматая пыльная собака, и аульные дети заглядывают ей в глаза, ожидая от своей “атаманши”, что она сейчас отколет этакое… Все идут в ожидании очередного взрыва смеха, который равнозначен счастью.
Завершая рассказ, хочу усомниться, правильно ли я сделал, согласившись на просьбу Карла Баумгартнера, Бахтияра Худойназарова – моих друзей – изменить финал в сценарии “Лунный папа”.
В фильме он фантасмагорический: отрывается плоская крыша чайханы, где работала Чулпан Хаматова официанткой, и взлетает в небо вместе с героиней. Чулпан смотрит с этой крыши на людей, преследовавших ее, на мир… Родился ее долгожданный мальчик, и они на крыше чайханы улетают вдаль. Счастливый конец. Он нравится всем. Фильм состоялся, получил множество премий на множестве кинофестивалей… Но мне вспоминается тот, написанный мною, жесткий финал.
“Вскоре капитан Булочкин (тот, который сбросил быка с самолета) появился в столовой. Рана от выплеснутой ему на голову раскаленной каши зажила, но волосы росли кустами. Лаура (Чулпан Хаматова) выгнала его. На другой день он пришел к ней вновь пьяный. “Девочка, это я. Это я – он!” – “Кто он?” – “Артист, которого ты разыскиваешь, который повалил тебя в кустах диких роз”.
Лаура засмеялась.
“Не веришь?” – “Ты что, дурак, Булочкин?” – “Сказать, что ты говорила в ту ночь?! Ты скулила: “Ой, как глубоко, во мне нет больше места”, – Булочкин рассмеялся, увидев растерянность на лице Лауры. Потом в точности рассказал все подробности той ночи и дня. “Я приехал к друзьям в мотострелковый полк. Два дня мы пили, я разглядывал в бинокль лиойских девочек, купающихся в реке. Приметил одну классную… Потом увидел ее в сельском клубе, она сидела разинув рот и смотрела этот дурацкий спектакль, который привезли артисты-халтурщики. После спектакля пошел за ней. Китель вывернул. Представился актером. Я даже сказал: «Я Ромео». Ведь так сказал, помнишь?”
Лаура вспомнила. Капитан упал на колени. Лаура молча ходила по комнате. Капитан не поднимался с колен. “Я виноват, но тот черный бык, тот черный бык…” Капитан не знал, как закончить фразу. Лаура нашла на кухне бутыль вина, оставшуюся от покойного папы. Впервые выпила вместе с капитаном, потом была ночь. “Мы были вместе: мама, папа и я, плавающий в водах маминого живота, вновь, как девять месяцев назад”. Утром Лаура выскользнула из постели, заварила чайник, расставила тарелки, нарезала сыр, помидоры и хлеб. Приготовила совместный завтрак. Пошла в спальню будить капитана. Остановилась у кровати, где, скинув одеяло, храпел красивый, сильный мужчина. Долго смотрела на него и, сама того не ожидая, вынула из комода отцовский револьвер, набросила на спящую капитанскую голову подушку и выстрелила. Потом пошла в огород и стала рожать меня среди зеленых кочанов капусты”.
Сахарный бюст моего папы
Место действия – Америка. Это были не лучшие годы моей жизни. Я остался один. Без денег, без работы, без друзей…. Но если исключить мою личную горечь, история, которую я обнаружил на этот раз в ящике моего стола, более чем диковинная и даже веселая.
1993 год
На Милдред-авеню, 17, Калифорния, Венис-Бич мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Андреевича Квирикидзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…
Когда-то очень-очень давно я с папой поехал в город его юности, Хашури, где на сцене Дома культуры в торжественной обстановке ему преподнесли сахарный бюст весом в 14 килограмм. Сахарное изваяние и заслуженный артист Грузинской ССР, певец Тбилисского оперного театра Михаил Андреевич Квирикадзе как две капли воды были похожи.
Мой рассказ посвящен драматическим событиям, разыгравшимся на Милдред-авеню, 17, Калифорния; папа присутствует в этом рассказе только во сне, но так как двадцатитрехлетний Арсен Хухунашвили разбудил меня в семь утра словами “дядя Херакл, напиши мне о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена” и я, проснувшись, потерял одну из самых дорогих реальностей, то я позволю себе продолжить свой сон на страницах этого рассказа.
За три секунды до пробуждения, еще до выноса на сцену сахарного бюста, мне снился пионерский лагерь в Боржоми, где на лето со всей Грузии съехались триста сексуально озабоченных пионеров обоих полов. В этот лагерь приехала концертная бригада общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
Нас, пионеров, собрали в столовой. Лектор развесил картонные плакаты и час читал лекцию о пользе донорства и вреде курения и почему-то (нам, пионерам) о вреде абортов. Затаив дыхание, мы рассматривали рисунки мужских и женских половых органов. Лектор призывал нас смотреть другие плакаты, где были изображены здоровые и обкуренные легкие. Он читал стихи о классической лошади, которой дали попробовать грамм чистого никотина и она околела (умерла). Двести возбужденных до предела мальчиков и девочек в пионерских галстуках требовали вернуть рисунки половых органов, которые собственноручно содрала директриса лагеря Ольга Николаевна Амилахвари. Вдруг в столовой потушили свет, и три бабочки (о чудо!) с фосфоресцирующими крыльями исполнили менуэт Вивальди. Вновь зажегся свет, мы яростно аплодировали пышнотелым женщинам в лифчиках и трико, с марлевыми крыльями за спиной.
И тут (о ужас!) вышел мой папа и запел оперные арии. Его слушали минут пять, потом с задних рядов в сторону папы полетела дохлая кошка. Произошло это за двадцать лет до фильма Федерико Феллини “Рим”, где в неугодного певца тоже летит дохлая кошка; мой папа, Михаил Андреевич Квирикадзе, схватил эту кошку на лету и не задумываясь метнул назад в ряды пионеров. Поступок грузного, в черном костюме певца очень понравился моим сотоварищам. Папе зааплодировали, и он, вдохновленный, продолжил петь арию Канио. Аплодисменты перебросили меня во вторую часть сна, где я, взрослый, еду с папой в город его юности Хашури. Там устраивались торжества в его честь. Это была пора, когда ежегодно Леониду Брежневу вешали на грудь Звезду Героя. В СССР внедрялась мода на героев, а у Хашури не было великих сограждан. Был боксер тяжелого веса, родившийся в Хашури, но его нокаутировали в финале первенства Европы на глазах миллионов телезрителей. До нокаута диктор объявил, что боксер родом из маленького грузинского городка Хашури, а то, что случилось в третьем раунде, покрыло позором всех нас, сограждан.
Но городу нужен был свой Герой. Свой Юбиляр. Судьба указала пальцем на моего папу. Я не знаю, как проходит чествование Нобелевских лауреатов, но то что творилось в Доме культуры, те речи, которые произносились со сцены, – ошеломили меня! Если бы я не знал, что все это о моем папе, метавшем дохлых кошек на выездных филармонийских концертах, я бы решил, что город Хашури дал миру по меньшей мере Лучано Паваротти. Духовой оркестр грянул Вагнера, и на сцену вынесли тот самый бюст.
Утром после банкета мы поездом уезжали из Хашури. Пассажиры с нескрываемым любопытством смотрели на певца и его сахарного двойника.
Через неделю, дома, в Тбилиси, мы пили чай, откалывая от бюста папы нос, ухо, подбородок… В момент, когда мама хрустела папиным ухом, меня разбудил этот дурацкий крик: “Дядя Херакл, напиши мне о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена”.
Надо мной стоял Арсен Хухунашвили, будь он проклят! При этом он зевал. Арсен имеет жуткую привычку зевать. Он живет за стеной моей “ван бедрум” на Милдред-авеню. Его родители – мои тбилисские знакомые. В далекой Грузии они делают неплохие деньги, торгуют марганцем, еще чем-то, за счет чего их сын живет и учится в Калифорнии. Арсен хочет быть кинорежиссером. Он молод, женщины сходят от него с ума, его обожают танцовщицы кордебалетов всех русских ресторанов в Лос-Анджелесе. И может быть, когда-нибудь он станет большим голливудским режиссером.
Сейчас он учится в ЮСЛИ, сдает купленный родителями в Вествуде дом, сам же поселился в “ван бедрум” с балконом, общим с моим. В будние дни к нему приходят две, в воскресные – четыре-пять девушек. Тонкие стены дома сделали меня злостным завистником его титанической мужской силы. В конце августа появилась Ванда – двухметровая рыжеволосая полька. Ванда мечтает стать фотомоделью. С ее появлением иссяк женский поток на Милдред-авеню. Одна афроамериканка пыталась было проникнуть в глубь завоеванной Вандой территории. Ее кровь я смывал с моей двери, боясь появления полиции. Афроамериканка больше не являлась. Стена, разделяющая спальню Арсена с моей спальней, кажется, рухнет в одну из ближайших ночей. “Херакл” – это имя мне присвоила Ванда Ковальская… Я не мог отказать Арсену в его утренней просьбе. Тем более что Ванда взялась переводить фильмы Вуди Аллена, которые Арсен специально взял в видеотеке.
Арсен спал на “Ханне и ее сестрах”, “Энни Холл”, “Зелинге”, “Манхэттене”. Днем он постоянно спит, может заснуть в самой необычной позе: нагнется за упавшей монетой и засыпает, тянется с верхней полки книгу снять и засыпает. Ванда сказала, что однажды он заснул, плавая в бассейне Лос-Анджелесского университета.
Как я мог не написать такому соседу домашнее задание “Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена”!
Взяв стопку белых листов бумаги, стал думать, как бы я, двадцатитрехлетний студент кинорежиссерского факультета Арсен Хухунашвили, начал статью о Вуди Аллене.
“Вуди Аллен, который имеет работу, деньги, же-ну или любовницу, живет в Нью-Йорке, хочет найти истину. Не общую, универсальную для всего человечества – такую истину искали коммунисты страны СССР, откуда я приехал, искал китаец Мао Цзэдун, искал немец Гитлер… Вуди Аллен ищет ее для одного человека. И мне кажется, что маленький человек находит ее в любви. Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах…”
Еще три-четыре страницы, и я был готов закончить свой киноведческий опус, но услышал громкое стрекотание мотоцикла, подъезжающего к дому. Ванда, которая кричала, выла, стонала за стеной по-польски, замолчала, притихла.
Через полминуты я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая перешагивала из ночи в мою кровать, стоящую у открытого окна (калифорнийские ноябрьские ночи разрешают держать окна открытыми настежь). Голая Ванда пробралась от Арсена ко мне, воспользовавшись наружным карнизом дома.
“Приехал мой муж Ковальский”, – прошептала она. По металлическому балкону шагал кто-то очень грузный.
“Вот пишу про любовь Вуди Аллена”, – сказал я. Голая Ванда легла в моей постели. Глупо было думать о Вуди, даже об Арсене Хухунашвили, который в эту секунду открывал двери незнакомому мне пану Ковальскому.
“Потуши свет. Он очень сильный и злой”. Ванда испугалась, что Ковальский сможет пройти ее путь по карнизу, заглянуть в окна и увидеть свою жену в постели соседа. Я потушил настольную лампу и сел на край кровати. В лунном свете мерцали медовые глаза, белые шея и белые груди, как среднего размера азиатские дыни.
Мне почему-то вспомнилась пионервожатая Анна Васильевна Лакоба, которая пустила меня давней алазанской ночью в свою палатку. Как и тогда, в грузинском детстве, здесь, на краю калифорнийской кровати, у меня мелко-мелко забили зубы, во рту появилась оскомина, словно я надкусил неспелую хурму.
Ванда приблизила ко мне свои широкие плечи. “Сейчас он начнет нюхать подушку, а там мой запах. Он всегда находит меня по запаху”. Зубы забили громкую дробь. “Что с тобой, Херакл, ты боишься?” Анна Васильевна Лакоба сорок лет тому назад задала пионеру Квирикадзе тот же самый вопрос: у пионера так громко стучали зубы, что, казалось, вся алазанская долина слышит их лязг. Присутствие душистых дынь в непосредственной близости от меня и отсутствие решимости рождали этот странное явление – лязг зубов. “Ковальский играет в симфоническом оркестре на виолончели, но у него страшные кулаки, – горячо зашептала Ванда, – когда он приезжает в Лос-Анджелес, он убивает моих любовников, как Одиссей, вернувшись на Итаку”.
За стеной молчание затянулось. Что там происходит? Как я могу помочь моему юному другу-студенту? Зайти сказать, что я написал “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”?
А может, пусть Ковальский убьет Арсена Хухунашвили? Тот не будет больше выклянчивать у меня домашние задания, которые он получает, учась в ЮСЛИ: “Равновесие у Леонардо да Винчи”, “Монтаж аттракционов Эйзенштейна”, “Значение пауз в драматургии Гарольда Пинтера”.
Но тогда что я буду делать? Что буду делать со своей творческой опустошенностью здесь, в замечательных Соединенных Штатах Америки, где вот уже два года я ничего не пишу? Ничего стоящего. Арсен мне нужен больше, чем я нужен Арсену. В университете ЮСЛИ его считают талантливейшим студентом благодаря восьмиминутному фильму, который мы с ним сняли в Нью-Йорке. Фильм про русскую таксистку Ангелину Круль. В марте прошлого года я сел в ее такси, разговорился с женщиной тридцати трех лет, с челкой синих волос, курящей кубинскую сигару.
– Так, значит, делали в СССР фильмы?
– Да.
– И как ваша фамилия?
– Ираклий Квирикадзе.
– А какие фильмы?
– “Кувшин”.
– Не видела.
– “Городок Анара”, “Пловец”…
– Не знаю. Надо же. Что вы за фильмы такие снимали, что их никто не видел?
Я не знал, что ответить. Мне очень хотелось поднять в ее глазах свою кинематографическую значимость.
Она сама мне в этом помогла:
– А вы знакомы с Никитой Михалковым?
Я сказал, что знаком. Она на полной скорости резко затормозила. Нас закрутило.
– Он мой бог! Я молюсь на него! Дайте мне его адрес, я сочинила ему поэму на английском. Не могу писать по-русски, меня увезли из России в девять лет… Заедем ко мне на минутку!
В два часа ночи на окраине Манхэттена я оказался в странной комнате. Гигантские, на всю стену фотографии человека, с которым в восьмидесятых годах я писал сценарий “Жизнь и смерть Александра Грибоедова”. Михалков с пикой на коне, как святой Георгий. А вот шелковый ковер ручной работы, где Михалков вновь изображен на лошади с копьем! В ногах коня огнедышащий дракон. Михалков в фитнес-зале качает тяжелые гантели. С потолка свисал большой пластмассовый шар, в который если заглянуть одним глазом, то увидишь голографическое изображение Никиты Михалкова. Ангелина Круль стала декламировать поэму по-английски. “Ай лав ю! Ни одна женщина не достойна твоей любви. Я, Ангелина Круль, похищу тебя, Никиту Михалкова, и увезу в Кордильеры, в хрустальный замок любви, который я построила там высоко в горах. Я усыплю тебя и буду дышать твоим легким дыханием…”
За окном светлело, где-то далеко в порту гудели пароходы, сырой предрассветный туман опустился на аттракционы луна-парка, сверкающего огнями перед домом Ангелины Круль. Я спросил, можно ли ее и ее квартиру снять на кинопленку? Синеволосая нью-йоркская таксистка чрезвычайно обрадовалась…
Но что делает Ковальский? Почему он не нюхает подушку? Может, он этой подушкой душит Арсена Хухунашвили? А может, Ковальский через подушку выстрелит сейчас в Арсена, как в “Лунном папе” в финале (моем финале) должна была выстрелить Чулпан Хаматова? Я встал, приложил к стене кофейную чашечку и, как опытный советский контрразведчик, стал слушать звуки соседней квартиры. В чашечке слышалась тишина. Я посмотрел на Ванду. Полька подняла свое двухметровое голое тело, подошла ко мне, показала жестом: “дай мне послушать”. Я уступил ей чашечку, отступил назад. Ванда была такая большая, что я почувствовал себя маленьким Вуди Алленом. “Арсен заснул”, – прошептала Ванда. Она оторвала ухо от кофейной чашечки. “Увидел Ковальского, испугался и заснул”. Ванда села на стул. “Майоль”, – подумал я, вспомнив персональную выставку скульптора Майоля в Париже в Гран-Пале. Там у входа сидела на бронзовом стуле точь-в-точь такая бронзовая Ванда. Моя крошечная “ван бедрум”, увы, не Гран-Пале. Я ходил от стены к стене, натыкался на Вандины бронзовые колени и думал: “Боже, дай мне силы ворваться к Арсену Хухунашвили”. И я ворвался, точнее, осторожно открыл незапертую дверь.
Описание того, что я увидел, требует специального цензурного разрешения, но редактор книги будет прав, если удалит следующий текст. Если он этого не сделает, то вы, читатель, будете поражены немой сценой, которую я застал в квартире 27 по Милдред-авеню, Венис-Бич.
Польский виолончелист Лех Ковальский выглядел абсолютной копией борца-кетчиста. В первую секунду я даже усомнился словам Ванды, что он виолончелист. Мне показалось, что я этого поляка-атлета видел сегодня в спортивной передаче по ТВ. Он даже не снял черного трико и банданы, в которых дрался на ринге. Ковальский держал в своих ручищах подушку и как-то очень неловко восседал на растерзанной простыне. Глаза его были направлены на стоящего рядом юного грузинского еврея в короткой майке до пупка с надписью на груди “Республика Банана”.
Дальше у Арсена Хухунашвили шел впалый живот. Ниже (вот здесь требуется цензурное разрешение), как гипсовое весло у советских садовых скульптур пятидесятых годов, как вынутый из ножен самурайский меч, как Пизанская башня… Выберите любое из этих сравнений и приставьте к хухунашвилевскому животу ниже пупка. Обладатель этого феномена действительно спал, и это было самое удивительное: спал стоя, подняв руки, от чего-то защищаясь… Сонная болезнь, видимо, настигла его, когда он пытался оградить лицо от гнева кулаков Ковальского. Он застыл, превратился в библейский соляной столп.
Ковальский растерянно спросил меня, что делать. Я попытался разбудить Арсена – обычно он реагировал на грузинскую речь, но сейчас сон был очень глубоким.
“Здесь где-то должна быть моя жена”, – сказал Ковальский. Я ответил, что не видел в доме студента женщин с месяц, как начались экзамены в ЮСЛИ. Ковальский кисло усмехнулся.
Я вернулся в свой “ван бедрум”, достал из ванного шкафчика флакон с нашатырным спиртом. Однажды я им будил Арсена. Ванда, голая, сидела на стуле и почему-то читала мой опус “Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена”. Вышел, заперев дверь ключом, на общий балкон. Остановился, посмотрел на черное калифорнийское небо, американскую луну, звезды и рассмеялся. С юности я, Ираклий Квирикадзе, был под гипнозом слова “Америка”: джаз, Уильям Фолкнер, Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Чарльз Буковски, Курт Воннегут, статуя Свободы, Ниагарский водопад, Мэрилин Монро, Голливуд. Казалось, что все это будет иметь ко мне прямое отношение, стоит только бежать от Мавзолея, Кремля, площади Дзержинского, ВДНХ, домоуправления, путевки в санаторий “XVII съезд партии”, беременной ассистентки режиссера Серафимы Моргуновой, которая угрожала написать письмо на “Мосфильм”, если я не женюсь… Я отвернулся от всех них и бежал. И что? Вот стою ночью, в трех шагах от Тихого океана, с флаконом нашатырного спирта в руках. Реальный Голливуд так же далек от меня, как вон та мерцающая звезда в неизвестном мне созвездии.
Черт! Эта ночь кончилась в госпитале. Бригада американских врачей ничего не могла поделать со спящим Арсеном Хухунашвили. Диагноз: глубокий летаргический сон и еще какой-то сугубо научный термин по поводу феномена – самурайского меча! Древние китайцы называли его нефритовое копье.
Неделю спустя я позвонил в Тбилиси родителям Арсена – сообщить, что их сын впал в летаргический сон и есть опасение, что это на долгий срок. Как мне быть, если госпиталь не очень хочет оставлять у себя беспризорного больного, каждый госпитальный день стоит триста восемьдесят долларов и, естественно, у Арсена нет никакой страховки?
Мой дорогой Тбилиси долго не подключался к разговору. Наконец я услышал голос тети Арсена. Заикающаяся женщина сообщила, что в Тбилиси на всех наводят страх бандиты, что они подложили бомбу под “наш мерседес”, повторяла заика. Но, слава богу, папы Арсена в нем не было, когда “наш мерседес” взлетел на воздух.
Я смотрел на минутную стрелку настенных часов и вспоминал, сколько стоит минута разговора с бывшим Советским Союзом. Только на двенадцатой минуте беседы я узнал, что папа Арсена скрывается. Тетка вне всякой логики стала читать оду любви к президенту Шеварднадзе. “Он Христос, он Христос, – повторяла она, – его окружают бандиты. Они творят хаос и в мутной воде ловят рыбу”.
Заика застряла на слове “в мутной”, и я помог ей закончить фразу, договорив за нее “ловят рыбу”. “Где его мама?” – спросил я. Заика сказала, что “наша марганцовая фирма” обанкротилась, папа скрывается вместе с мамой. “Где?” – задал я нелепый вопрос человека, загнанного в мышеловку. Тетя печально засмеялась. “Арсен лежит в больнице”, – сообщил я на двадцать седьмой минуте беседы. “Что с ним?” – “Спит”. На той стороне услышали: “СПИД”. У заики выпала из рук телефонная трубка… Я держал свою еще минуты три и на расстоянии множества тысяч километров я слышал шепот и приглушенные голоса семейства Хухунашвили: “Поднимите ее, там в аптечке лежит валерьянка, пуговицы расстегни… смотрите, в лифчике деньги…” Я вдруг возненавидел Вуди Аллена. Откуда он так хорошо знает о человеческом отчаянии? И так трагически-смешно показывает на экране жизнь идиотов вроде меня. Откуда?
Я привез спящего Арсена домой на Милдред-авеню, 17. В госпитале с меня взяли подписку, что я сам буду ухаживать за Арсеном (медсестра стоит в день 58 долларов), что я буду давать ему лекарства, делать спящему специальную гимнастику, кормить, водить в туалет, мыть под душем и т. д. Я уложил Арсена в чистую постель. Он дышал ровным, здоровым дыханием. Всех беспокоящая выдающаяся часть его тела была прижата к ноге при помощи специального корсета стоимостью 240 долларов. Спросить, удобно ли ему, я не мог.