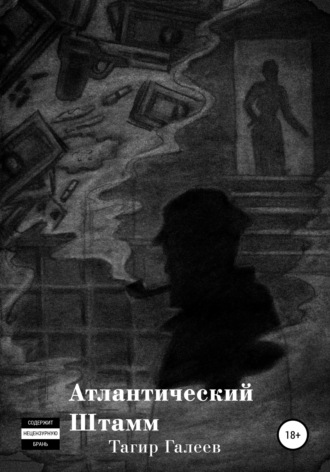
Полная версия
Атлантический Штамм
Ну а потом меня поведут во внутренний двор тюрьмы, где для меня изготовили уже (а может еще только начали) виселицу, которую предварительно должны протестировать на мешках. Да-да, именно так и подбирают максимально оптимальную для веса и роста преступника веревку, причем, когда казнят подряд нескольких, веревки должны после каждой казни меняться в соответствии с именами казнимых, нанесенными на них и эти же веревки потом кладут в гроб вместе с телом, чтобы так сказать, отправить в добрый путь. С одной стороны, сей порядок появился после казней в Нюрнберге в 40-ых годах прошлого века и я считаю, что это правильно, ну вот никак не захочу я болтаться на веревке после какого-нибудь преступника ниже себя рангом.
А далее…. Далее простор фантазии. Либо я сам взойду на эшафот с мужественным лицом и прокричу напоследок прощание с миром, либо мне наденут на голову мешок вот уже в нем, в полной темноте я уйду туда, где мне самое место.
Вот кстати, стучат в дверь. Паршиво что так быстро. Неужто УЖЕ???
Глава вторая
Под гвалт чаек.
Три вещи меня преследовали с самого рождения: рокот океана, запах рыбы и гвалт чаек! Едва я только сумел различать звуки и запахи, как все три этих явления природы окутали меня с ног до головы и много лет спустя, повидав множество мест, далеких от океана, я по-прежнему слышал в своих ушах крикливых чаек и терпеть не мог рыбы.
Я родился в рыбацком поселке на побережье Атлантики. Даже если сказать точнее, это не совсем побережье, а остров во Французской Бретани под названием Бель-Иль-Мер. В начале XIX века остров какое-то время назывался островом Жозефины по имени супруги моего будущего кумира Наполеона Бонапарта.
Как и пятьсот, и триста лет назад тут также жили рыбаки и таскали сетями рыбу из океана, ничего не изменилось и во время моего рождения, разве что ловля стала промышленной, рыбаки объединились в артели, а небо стали прочерчивать силуэты самолетов; во всем остальном тут мало что изменилось, если конечно верить байкам старожилов, любящих потрепаться о старине.
Рыба и чайки были везде. О них писал еще Александр Дюма в своем романе «Виконт де Бражелон», а теперь напишу и я. Я родился в крохотной деревушке Локмарья, в которой к моменту моего рождения жило двести или триста рыбаков с семьями. Вернее, семейных среди них было мало, женщинам нечего делать на этом полудиком куске суши. Всех дел тут это таскать рыбу сетями с утра и до обеда и потом сдавать эту рыбу на приходящие сюда ежедневно паромы рыболовной компании, в которой трудились все местные рыбаки.
Скучная, однообразная жизнь. Гвалт чаек был повсюду, а чешуя рыбы и ее запах преследовал меня всю жизнь. Во младенчестве я лежал в пеленках, усыпанный рыбной чешуей, она была нас столе, на полу, она витала в воздухе, шелестела в одежде родителей.
Я ненавидел чешую и чаек!! Мне казалось, что их непрекращающийся гвалт вынимал из меня душу.
Кстати, о родителях. Свою мать помню смутно, умерла она еще до того, как я начал что-то соображать. Кладбища у нас в коммуне не было по причине чрезвычайно каменистой почвы, поэтому дощатый гроб, в котором упокоилась навеки, моя мать вместе со злосчастной чешуей, увезли на пароме на материк и похоронили на одном из городских кладбищ. Я был на могиле своей матери всего один раз, будучи уже юношей. Не скажу, что испытывал грусть или печаль, мое сердце казалось, было насквозь просолено вековечными ветрами Атлантики.
Отец был артельным старостой, в артели всегда бывало по десять-пятнадцать рыбаков. Он был судя по всему, авторитетным руководителем, потому как перед ним часто снимали шляпу идущие по улице рыбаки. Не скажу, что мы жили богато, но наш дом был двухэтажным и у нас даже была своя скотина в виде кур и пар коров, за которыми смотрел наемный рабочий.
Уважение рыбаков быстро сошло на нет, когда мой грешный родитель после смерти матери начал глухо пить, уходя в запои на недели. Как я выяснил уже позже, моя мать была для него светочем в окошке, а я стал лишь только обузой. Меня он особо никогда не жаловал, хотя не грешил рукоприкладством, но и воспитанием не занимался. Я был предоставлен сам себе с утра до вечера, бегая с соседскими мальчишками по руинам некоей древней крепости, выстроенной во времена античности дошедшими досюда римлянами, затем заново отстроенной во времена Людовика XIV. Со временем крепость то ли обветшала, то ли ее не достроили, потом англичане в XVIII веке снесли часть ее башен, в итоге остались лишь глубочайшие подземные лазы, ходы сообщений, части стен, среди которых мы устраивали детские войны и разборки.
Моему грешному родителю тотчас припомнили его не очень уважаемое прошлое. Люди вообще сволочи по натуре своей. Сегодня они снимают перед тобой шляпу, а завтра готовы плюнуть в рожу.
Отец моего отца во времена немецкой оккупации Франции не пошел в движение Сопротивления, а остался удить рыбку и также продолжал сдавать ее рыболовной компании в Нанте, где жил на тот момент, то есть по мнению сограждан, стал пособником врага. Сам он так не думал, рассуждая более прагматично. Немцы его не тронули, за рыбу платили неплохие средства, позволявшие ему жить вполне себе сносно, а потому зачем идти куда-то партизанить, решил он. В итоге после освобождения страны ему пришлось ретироваться с насиженного места и укрыться в Локмарье, где он и пустил корни. Он не сдавал евреев, не стучал на соседей, но все равно к нему навеки прицепилось обидное прозвище «вишист1», эдакое клеймо на всю жизнь, которое благополучно перешло на моего отца.
Второй мой дед, летавший в составе эскадрильи «Нормандия», сражавшейся против нацистов на территории СССР, был сбит и погиб за месяц до рождения моей матери. Об этой странице жизни моей семьи на острове никто не знал, ибо все документы сгорели при пожаре, в результате которого мать моя сюда и переехала. А на слово верить на острове не привыкли. Тут царили железные патриархальные законы непростой замкнутой рыбацкой жизни, оспаривать которые было нельзя.
Начав пить, отец моментально превратился в «вишиста», его дом стали обходить, отца исключили из артели и наши дела пошатнулись. Мы продолжали жить в нашем доме, но скотинку пришлось продать, а рыбачить теперь он выходил в море один, выловленного же тунца мне приходилось ездить сбывать самому в соседнюю коммуну Ле-Пале.
Я был с рождения крепок здоровьем, почти не болел, это меня не раз спасало во время детских потасовок. Пойдя в школу в Ле-Пале, я вполне себе испытал весь негатив от «вишистского» прошлого моих предков. Меня часто этим подзуживали и стебались. Казалось бы, война окончилась полвека назад, но все же находились сорванцы, которым казалось, это дело дарило неописуемое наслаждение. Мне приходилось часто драться, доказывая свое «патриотическое» происхождение. Мои врагом стал здоровый как черт Антон Дюбуа, сын мэра Бель-Иль-Мер. Пользуясь превосходством в силе и весе, он на уроках физкультуры часто целил мне мячом в живот или голову, что вскоре сделало его для меня самым ненавистным человеком во вселенной. Мой мир был ограничен нашим островом, коммуной, бесконечным океаном и этим невыносимым гвалтом чаек. И в этом мире был этот проклятый Антон, которого я мечтал повесить на шпиле нашей церкви.
Мне была уготована жизнь рыбака, такого же, как и всем живущим тут. Не буду врать, расписывая каким я был мечтателем, хотящим перевернуть мир. Я был обычным мальчишкой, бегал и дрался, ловил рыбу и скорее всего даже не задумывался о том, что существует иная жизнь, более интересная и насыщенная событиями.
Я любил читать, зачитывался романами Дюма и Жюль Верна. Книги брал в школьной библиотеке. Далее произошел со мной совершенно невероятный случай, давший толчок развитию моей несусветной чувственности. Было на тот момент мне лет двенадцать, может чуть больше.
Как-то раз на остров с помощью паромной переправы приехал в гости к одному из наших соседей кто-то на грузовике с материка, остался ночевать. Мы с соседскими сорванцами, естественно, полезли обследовать сей агрегат, лазили в кабине, в кузове, крутили руль и нажимали педали, благо ключи зажигания шофер забрал с собой. Кабина была огромной, вернее, так нам казалось. Там была масса мест, где лежали различные мужские вещи, до ужаса нам интересные: термос с кофе, электробритва, всякий разный инструмент для ремонта авто, лампочки, фонарики, насос для подкачки шин, газеты и журналы, чтоб коротать время в пробках. Среди вот этой макулатуры я совершенно случайно обнаружил то, что привело меня в неописуемый восторг и, наверное, малость свело с ума: журнал «Плэйбой» (а может, «Пентхауз»). Он был изрядно потрепан, местами страницы порвались, часть была вырвана с корнем, но в целом он содержал то, от чего я испытал настоящий оргазмический взрыв в своем мозгу: ЖЕНЩИН!
Я не видел женщин никогда до этого в своей жизни. Вернее, видел старушек-торговок в Ле-Пале, этих бесполых существ, вечно в платках и пропахших вонючей рыбой. А вот настоящих, прекрасных, роскошных женщин с восхитительной кожей и волосами, томным взглядом и совершенными телами я впервые узрел в том журнале, моментально ставшем для меня сокровищем №1 в мире.
Я решился на тяжкое и самое первое преступление в своей жизни: я УКРАЛ журнал у водителя грузовика, завернул его в бумажный пакет, потом в тряпку и спрятал в одном из бесчисленных подземных ходов старой римской крепости.
Далее моя жизнь изменилась! Откровение, данное Христом Павлу, апостолу, создавшему вскоре новую религию в IV веке нашей эры, меркло перед откровением чувственности, открывшемся мне в те минуты. Увидев впервые женщин-моделей из данного издания, у меня что-то словно щелкнуло в моем полудетском мозгу. Я словно погрузился в пучину новой жизни, наполненной созерцанием женской красоты и совершенства. Безумные фантазии, рождаемые в процессе просмотра этих горячих страниц, полностью выбивали меня из колеи. Дрожь в коленях, тягуче-знойный тремор в паху, невыносимо сладкий привкус во рту чего-то неизведанного – все это обрушивалось на меня постоянно, каждый день!
Я ждал очередного свидания со своими любимицами как манны небесной. Я считал минуты до того благословенного мгновения, когда спущусь в очередной раз в подземелье, откопаю дрожащими руками журнал и приступлю к….
Я наслаждался каждой секундой, каждой страницей, я выучил вскоре наизусть всех девушек, их имена, несмотря на то что журнал был англоязычным, но мне это не мешало. Я не читал и даже не рассматривал, я вкушал их красоту словно пчела вкушает божественный нектар роскошного цветка, я вдыхал запах страниц, при этом мой мозг сам добавлял мне ароматов, и я представлял, как прикасаюсь к совершенным фигурам этих див, целую их пухлые сочные губы, нюхаю ароматы их волос. А ведь как я уже упоминал, я не имел никакого опыта по части женского пола, в классе у меня учились лишь мальчики, девочек в школе не было вовсе, эдакая мужская корпорация с замкнутыми законами, внутренним распорядком и ограниченным кругом мнений.
Девочки обучались в интернате на материке, ибо во времена моего детства считалось что пребывание их на острове не самым лучшим образом скажется на воспитании будущих матерей и жен. Непонятно, к чему была таковая политика нашего Департамента, но ходили слухи что в оном интернате условия были куда жестче, нежели у нас, «на воле». Возвращались девушки на остров редко, ибо материк конечно по сравнению с нашим унынием давал куда больше возможностей для улаживания своей дальнейшей судьбы. От того за невестами юные рыбаки регулярно ездили в Нант, устраивая нередко там бурные потасовки, отчего навсегда за нами закрепилось презрительное прозвище «аборигены».
На острове же категорически нельзя было даже вслух упоминать о девочках, не то что обсуждать, иначе был риск попасть в изгои. Презрительное слово «платч» могло прилипнуть навеки несмываемым пятном.
Ах да, я не упоминал ранее: у нас на острове везде был в ходу только бретонский язык, на классическом французском мало кто говорил, в основном приезжие с материка и слово «платч» (девчонка) среди нас, подростков, считалось наихудшим оскорблением.
Я наслаждался новой Вселенной. Каждое утро, дрожа от холода (по утрам даже летом у нас всегда свежо) я спускался в катакомбы на свидание со своими любимицами. Остроты ощущения добавляло то, что я боялся, что меня могут застукать. Но я был хитер и всегда перепрятывал журнал на новое место. После школьных занятий я шел помогать отцу с выгрузкой, пойманной на утреннем приливе рыбы, и потом снова сломя голову бежал к НИМ, чудным созданиям из неведомого мне доселе мира. У меня естественно появились фаворитки, их было как вспомню сейчас, четверо: две брюнетки, одна рыжая и одна шатенка. Блондинки мне не то что не нравились, я был не в том возрасте чтоб начинать сортировать женщин, скорее всего в том издании журнала просто не попалось мне достойной светловолосой. На всю жизнь я остался горячим приверженцем черноволосых женщин, это стало мой слабостью, хотя чего греха таить, не брезговал я никем!
Так продолжалось около полугода, когда в какой-то момент во время очередного просмотра я взорвался неимоверно мощным вулканом эмоций. Я не знал до этого что такое возможно, а сладко щемящему чувству в штанах я не придавал должного значения. В одно из своих «свиданий» я привычно разглядывал страницы, дошел примерно до второй брюнетки из своих любимиц и вдруг, совершенно для себя неожиданно, как гром среди ясного неба, на меня обрушился потрясающей силы чувственный шторм. Мои штаны, всегда натянутые словно гитарная струна во время подобных занятий, вдруг стали сырыми, ноги крупно задрожали, я подумал, что задыхаюсь и сложился пополам словно после удара под дых, упав на склизкую землю. Несколько минут я просто переваривал что со мной произошло, потом осторожно расстегнул ширинку. Я увидел темное пятно на своих подштанниках и липкую субстанцию, растекшуюся по всей области паха.
На какой-то момент мне стало противно. Я сел и натянул обратно штаны. Собрался с мыслями.
Что со мной произошло? Я ранее не подозревал о существовании каких-то потаённых областей человеческой чувственности. Отец никогда не беседовал со мной о подобных вещах, да и вообще был неразговорчив после смерти матери. Все что со мной происходило в моем изменяющемся в силу возраста организме, я исследовал на свой страх и риск, не спрашивая ни у кого совета. Может быть, именно поэтому я стал тем, кем стал?
Следующее громкое дело случилось со мной поздней осенью. Лили дожди, но я регулярно ходил на «свидания». Журнал мой уже порядком поистрепался, мои красавицы поблекли, постоянное лежание в сырой земле не придавало им лоска, само собой. Естественно, от этого я не стал меньше их любить, а моя фантазия лишь становилась изощрённее. Я научился удовлетворять себя самыми немыслимыми способами, причем приспособился это делать в самых неудобных позах, при любом освещении, в любую погоду. Я стал эмоционально зависим от этого своего рукоблудия, ведь в церкви, куда по воскресеньям меня водил отец, нам регулярно обещали страшные кары ада за «это самое». Каждый раз, облегчившись от своего грешного груза, меня начинали терзать муки совести, я клялся и божился себе что НИ ЗА что больше, но меня хватало на пару дней. Абсолютно магическая, неимоверно мощная сила влекла в подземелье меня вновь, это было выше меня и сейчас, став тем, кем стал, я также постоянно возвращался к своим грязным делам, пока не попал за решетку где и ожидаю своего конца.
Антон Дюбуа застал меня в разгар одного из таких «свиданий». Это стало для меня самым худшим событием, что до этого происходили со мной в жизни. Он застал меня со спущенными штанами, мокрыми руками, то есть «во всеоружии», в самый пикантный момент моего «откровения». Его презрительный крик поразил меня словно стрела охотника поражает на всем бегу оленя.
– Платч!!! – заорал он исступленно, – мальчишка Видаль платч!
– Заткнись! – прошептал я яростным шепотом, судорожно натягивая штаны – замолчи!
– А что, ты боишься?? Эй, парни! Идите сюда, спускайтесь!
То, что произошло дальше, напоминало сцену из третьесортного бульварного романа. Вокруг нас собралась небольшая толпа из его вечных спутников-слуг, готовых по шакальи прислуживать своему вожаку в обмен на некоторые привилегии по части школьной иерархии. Не помню, сколько их было, может трое, а может и шестеро. Но свет померк в моих глазах. Самое страшное что могло случиться со мной, случилось.
В меня стали дружно плевать, бросать комья грязной земли, улюлюкать, оскорбляя неслыханными междометиями. Я настолько был в ужасе, что забился в угол пещеры, и закрыв лицо грязными руками, рыдал навзрыд. Хохот и циничные шуточки, град оскорблений сыпались словно из рога изобилия. При всем при этом меня никто не тронул пальцем, ибо это считалось позорным. Мой журнал разорвали на части и красотки, заляпанные грязными подошвами подонков, покрыли собой пещерный пол.
Эмоциональное унижение стало пострашнее физического насилия.
Спустя какой-то промежуток времени я все же выбрался, когда меня оставили в покое. Сев на камень, я крепко задумался что мне теперь делать. Вся школа уже знала, что со мной произошло и стать «платч» мне не улыбалось, ведь на острове меня знала каждая собака. Не ходить в школу я тоже не мог, ибо в таком случае меня могли насильно сдать в интернат, а ехать на материк в незнакомый мир я боялся, мне ведь было тогда 13 или 14 лет. Патовая ситуация.
Я вернулся домой и сел ужинать. На удивление я заметил, что в доме опрятно, на стол застелена скатерть, стаканы вымыты и внутри, о чудо, рыбой воняет не так сильно. Заскрипели половицы и вошел отец, как-то непривычно чисто одетый и даже борода его была аккуратно подстрижена и от него не пахло алкоголем.
– Начо! Надо было давно тебе сказать, – его голос был приветлив и не скрипел как обычно от дешевого самогона, употребляемого регулярно по вечерам.
– О чем? – задал я правомерный вопрос.
– Знакомься, – и он за руку ввел в кухню весьма молодую женщину.
Черт побери, я малость ошалел. Чтоб отец после смерти матери посмотрел хоть на одну женщину, это был нонсенс.
– Мария, – улыбчиво представилась она и протянула мне руку. Рука была рабочей, мозолистой, но ногти были чистые и от нее не воняло рыбешкой. Это меня сразу же расположило к ней.
– Ммм, оччень приятно, – пробурчал я. – Вы теперь, эээ, у нас будете жить?
– Начо, ну ты зачем так сплеча рубишь? – засмеялся отец, – Мы знакомы с ней всего месяц. Как-то неприлично так сразу вот…
– Если Ваш сын, мсье, меня приглашает, то я согласна хоть завтра – Мария кокетливо улыбнулась, и мы уселись ужинать.
Впервые за много лет я ел по-настоящему вкусный ужин, не опостылевшую уху из тунца, а заботливо приготовленное овощное рагу, сдобренное баварскими колбасками из свинины, пил морс из ежевики.
Мария оказалась прекрасной хозяйкой, работящей и очень успокаивающе действовала на моего сурового родителя. Отец практически перестал пить, снова усиленно стал работать в артели, и через какое-то время его опять избрали старостой и наше благосостояние поползло вверх. Я воистину понял какое магическое воздействие женщина может оказывать на мужчину, если она этого реально хочет. Не знаю, что уж Мария нашла в моем отце, но они казались весьма счастливой парой, ходили держась за руки, он никогда на нее не кричал, а она часто целовала его в лоб.
Идиллия!
Что касается школы, то первые дни после того как Антон Дюбуа застал меня за моим «свиданием» стали для меня настоящим адом. Я не убоялся последствий и пошел в школу, понимая, что, прячась, я лишь дам повод для домыслов. Едва войдя в маленькое здание своей alma-mater, я осознал, что на меня все вокруг показывают пальцем и открыто насмехаются. Кто-то швырнул в меня грязной бумажкой, а кто-то плюнул мне вслед. В классе я сел на свое место за партой и от меня тотчас отодвинулись мои однокашники. Воистину я стал изгоем.
Сам Антон, мнящий себя Цезарем местного уровня, открыто издевался надо мною каждую перемену. Так, я обнаружил что мой старенький рюкзак, где я носил учебники, оказался в школьном туалете. На стул мне подкладывали канцелярскую кнопку, один из «шакалов» Дюбуа, пытаясь выслужиться перед своим господином, пролил на мою тетрадку клей. Пальцем меня никто не трогал, боялись «заразиться позором», а вот мои вещи не щадили. Я возвращался домой угрюмый и морально униженный, внутри меня клокотала истинная ненависть к моему главному мучителю, но толковых планов мести у меня не было, я не мог даже представить, как же я смогу досадить Антону Дюбуа, постоянно находившемуся в кругу свои верных «шакалов» и к тому же являющемся сынком мэра острова.
Шли недели и страсти вокруг меня стали стихать. Так уж дети устроены что долго терзать жертву становится им скучно. От меня постепенно отстали, правда, по-прежнему не здоровались и старались обходить стороной. Но кнопки на стул подкладывать перестали.
Мария полностью обустроилась в нашем жилище. Везде воцарились порядок и чистота. Три раза в неделю она мыла полы, протирала пыль везде, заставила отца выстроить рядом с домом небольшой сарайчик для снастей, чтоб они не валялись по всему дому как это бывало ранее. У нас теперь всегда был горячий ужин, мы завели корову, которую Мария любовно доила и отныне мы пили какао с молоком. С чердака мы с отцом повыкидывали весь хлам, который там скопился за долгие годы, и, вооружившись молотками, обшили полностью его свежей доской, покрасили приятного бежевого цвета краской, вырезали несколько окошек прямо в крыше и у нас получилась уютная мансарда, где в жаркое время я спал или просто балдел, отдыхая от трудов.
Мария мне нравилась все больше. Отец полностью прекратил пить, следил за собой, успехи его артели неуклонно ползли вверх и отмечались регулярно начальством.
Прошел примерно год с тех пор как Мария появилась у нас в доме, а наше благосостояние стало уже бросаться в глаза: вокруг дома яркие цинии радовали глаз в разбитом ею цветнике, дорожка к дому была всегда посыпана свежим песочком, мы поставили новый забор и пустили по нему виноградные лозы.
Мне исполнилось шестнадцать, когда отец неожиданно подкатил к дому на ярко-зеленом мотоцикле «Хонда» со сдвоенным выхлопом. Деловито поставил агрегат у калитки, вытащил ключи из замка зажигания и с важным видом вошел в наш красиво цветущий дворик. Вокруг квохтали куры, была чертовски прекрасная погода! Я рубил дрова рядом с сараем, стараясь залихватскими ударами раскалывать чурку сразу на 4 части, что считалось особым шиком. Обернувшись на звук, я увидел подходящего ко мне отца. Что-то в его лице мне показалось чрезвычайно интересным.
– У кого-то сегодня важная дата, верно? – он непривычно улыбался.
Я смущенно улыбнулся.
– Не умею говорить речей! Это тебе, – и он протянул мне ключи от «Хонды».
Я потерял дар речи! Я конечно же, мечтал о байке, по телевизору регулярно смотрел американские боевики, но чтоб вот так, неожиданно и от кого?? От своего отца, который ранее мне не дарил ничего, кроме уныния!
Мария радостно улыбалась, стоя в нарядном переднике на крыльце. Жестом она пригласила нас на праздничный ужин.
Мой первый взрослый ужин был прекрасен. Мне налили красного сухого вина в узкий бокал. Я выпил, это был мой первый алкоголь в жизни. В голове закружилось. Стало легко и вольготно.
Мы ели, общались и смеялись. Это был самый лучший мой день рождения за всю жизнь. Мне не терпелось оседлать своего стального коня и взмахом руки отец позволил мне выйти из-за стола. Я помчался словно укушенный, во двор.
Моя первая поездка прошла на удивление хорошо. Я упал всего три раза, а уже через час научился управлять мотоциклом столь лихо, словно всю жизнь только на нем и ездил. Веселье и радость переполняли меня, я мчался по улочкам нашей коммуны, распугивая кур и собак, и неумолчный гвалт чаек сопровождал меня бесконечной тирадой.
За пару недель я научился кататься как профессиональный ездок, во всяком случае мне так казалось. Конечно же, не обходилось без казусов и падений, я как-то подвернул ногу, рассекал не единожды щеки и скулы, разбивал нос, но удовольствие того стоило. Это было время боевиков типа Терминатора и Крепких орешков, герои которых не слезали с байков и конечно же они стали нашими кумирами. Мужское сообщество, корпорация рыбаков, где ценилась грубая физическая сила и выносливость, где интеллектуальность была не просто не в моде, а даже преследовалась; тут не могло стать иных героев для подражания. Байки были у многих, мы устраивали гонки друг с другом, падали в пыль и грязь, разбивали себе лица, но здесь могло быть только так!
Еженедельно по субботам мы собирались крикливой шайкой, оседлывали своих стальных коней и мчались по извилистым улочкам наших трех коммун, несмотря на строжайшие запреты взрослых. Но какие к черту запреты, когда юность и гормоны определяли нашу жизнь от заката и до рассвета.



