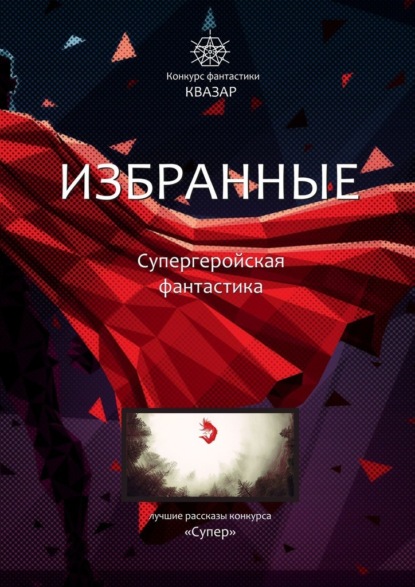Полная версия
Избранные. Гуманитарная фантастика
Вслух я, конечно, не спрашиваю. Вместо этого я опускаюсь на колени и протягиваю руку к Вильме. Если правильно рассчитать движение, пальцы пройдут только сквозь ее шерсть, не дальше; почти так же, как если бы я и правда мог погладить кошку. Несколько раз провожу ладонью по воздуху и замечаю, что Вильма прикрывает глаза.
Все правильно.
Не вставая, оглядываюсь по сторонам. В любой другой день я бы развернулся и побрел обратно на Риддархольмен, чтобы остаться там до утра. Заночевать прямо возле старой церкви, лежа на булыжниках и глядя в сероватое небо. Как я уже говорил, я не могу спать. Но из отдыха на крохотной площади в самом центре острова получается не худший заменитель. Почему-то именно в этом месте мне всегда становится очень спокойно.
Сегодня я никуда не иду. Я схожу с тропинки и ложусь на землю. Раскидываю руки в разные стороны. Проектор на обсерватории направлен чуть в сторону, поэтому моя правая половина выглядит куда четче, чем левая. Травинки проходят сквозь меня, торчат из моего живота и груди, высовываются изо рта. Вильма подходит и ложится рядом.
Я разворачиваюсь к ней лицом.
– Я ведь не настоящий, да? – вдруг спрашиваю я. – Йоэл… Ты не знаешь Йоэла, но он прочел, наверное, все книги на свете. Перерыл все исследования призраков. Даже почти познакомился с еще одним. Но никто никогда не слышал о таком, как я.
Вильма молчит.
– Мне же никто ничего не объяснял. Никто никогда не говорил мне: теперь ты привидение, сынок. Я же сам так решил. А может… я вообще не умирал? Может, я был таким всегда? Просто появился. Такой вот… более сложный глюк в системе. Если можно сделать разумной кошку, то почему нельзя – программу?
Моей щеки касаются косые лучи солнца. И отчего-то именно в этот момент мне безумно хочется ощутить их тепло.
– Что ты думаешь? – настойчиво спрашиваю я Вильму, в глубине души надеясь, что вместе с мозгом ей сумели модифицировать и речевой аппарат.
Кошка сворачивается в клубочек и начинает громко мурлыкать.
Я смотрю, как медленно ползут по небу облака.
* * *
В среду Йоэл решает меня сфотографировать.
– Неправильный подход, – говорит он. – Нельзя такие задачки, как с тобой, решать в теории. Я искал в статьях похожие случаи – похожих случаев нет. Но это не значит, что мы не сможем найти отгадку. Надо просто понять, чем именно ты отличаешься.
– И как мы это поймем? – интересуюсь я.
– Узнаем, кто ты.
Я не опускаюсь до ехидного: «Угу. А вот это, конечно, задачка элементарная». Мой маленький друг никогда не болтает просто так. Если уж Йоэл начал говорить, это значит, что у него есть план.
План моего друга выглядит как обычная цифровая камера с чувствительным объективом, которую он притащил с собой. И полчаса спустя я удостаиваюсь своей первой посмертной фотосессии.
– Чертова кепка, – бурчит мальчишка, подыскивая подходящий ракурс. – Если б ее можно было снять…
Мы находим удобное место прямо напротив проектора, позволяющего мне выглядеть почетче, – не с первой попытки, ведь нужно еще учитывать направление солнца. Йоэл долго сражается с режимами съемки. Но даже когда все продумано и настроено, остается еще одно досадное неудобство.
Моя идиотская красная кепка.
Я задираю подбородок повыше, впервые полностью открывая другу лицо. Замираю.
– Забей, – смеется Йоэл. – Камера сама уберет помехи. И можешь улыбнуться, если что.
Я не особенно умею улыбаться. Но ради друга все-таки пытаюсь. На снимке эта гримаса выглядит довольно угрожающей.
Склонившись над плечом Йоэла, я с удивлением вглядываюсь в экранчик фотокамеры.
Хочу, чтоб вы понимали: в отличие от призраков прошлого, я все-таки отражаюсь в воде и зеркалах. Так что я примерно знаю, как выгляжу, – только примерно, потому что предпочитаю не смотреть. Но с фотографий Йоэла на меня глядит незнакомец.
– А ты старше, чем я думал, – удивляется мой друг. – Почему-то считал, что тебе лет двадцать.
– Может, я просто плохо выглядел? Ну, я же все-таки отчего-то умер.
– Может… – с сомнением бормочет Йоэл.
У меня худое, скорее тридцатилетнее уже лицо с торчащими скулами и впалыми щеками. Бесцветные то ли от искажений, то ли просто от природы глаза. Не слишком мужественный подбородок. Ничем особо не примечательный нос. Вечная – в самом прямом смысле этого слова – легкая небритость. Оттенок нескольких выбившихся из-под кепки прядей совершенно не поддается определению.
– Ты уверен, что меня вообще можно найти?
– Скажи спасибо, что родился не в Токио, – фыркает Йоэл.
– Спасибо, – задумчиво говорю я.
На самом деле, я уже совершенно уверен, что моему маленькому другу ничего не удастся обнаружить. Но я просто не могу произнести это вслух.
С Аннели, конечно, о таких вещах болтать легче. Любое существо становится тебе ближе, если вы одинаково преломляете свет.
– Ненастоящий? – смеется она. – Это с чего бы?
– Потому что это все объясняет, – спокойно продолжаю я. – Йоэл сам мне говорил… Самое простое решение всегда самое верное.
– Ты с ним-то об этом разговаривал?
– Нет, – качаю головой я. – Только с Вильмой. И она, кстати, не возражает.
– Вильма? – хохочет Аннели еще громче. – Ты что, совсем уже с катушек слетел? Она же кошка!
Я встречаюсь взглядом с моей новой четвероногой подругой. С прошлой пятницы она так и проводит каждую ночь со мной. Днем часовым сидит у лотка Аннели, а после окончания смены находит меня. Не знаю, как. От меня не пахнет ничем, а я нарочно теперь пытаюсь находить новые, непривычные для себя места, чтобы дождаться утра. Но Вильма все равно приходит и ложится под бок. Ее мурлыканье – лучшая колыбельная. Даже жаль, что оно совсем не помогает мне.
Я ночую на здоровенной транспортной развязке у Сёдермальмской площади – прямо посреди проезжей части. Ночую на идеально подстриженном газоне у ратуши. На пустом лодочном причале. На футбольном поле в Тантолундене. И рассказываю кошке истории, доставшиеся мне от Йоэла, Леннарта и Аннели.
Своих у меня почти что и нет, но Вильме, кажется, на это плевать. Я болтаю и болтаю ночь напролет, а она слушает. Не споря. Не осуждая. Лучшая в мире собеседница.
Леннарт, впрочем, не слишком от нее отстает. Слушать – это его работа.
У той девочки не вышло, спокойным, мало что выражающим голосом рассказывает он мне в четверг. Нервы не выдержали. Она не одна такая, поясняет Леннарт. Многие оказываются неспособны выносить тишину. Крики чаек – не замена человеческой речи, говорит мой друг, заметив, что я уже открываю рот, чтобы возразить. А воскресных собраний (даже Леннарт не пытается называть их службами) недостаточно, чтобы утолить жажду общения. Да, мой друг готов выслушать каждого. Он примет любого, в любое время. Если нужно, то даже ночью. Но девочка не хочет жить такой неполной, ограниченной жизнью. Ей требуется что-то настоящее.
Настоящее… Мне есть, что сказать на этот счет. Но Леннарт будто читает мои мысли. Не сравнивай себя с ней, говорит он. Они все гораздо более искалечены, чем ты.
Он говорит «они», а не «мы». Я привычно отмечаю этот забавный факт.
Когда в пятницу я прихожу на площадь Карла в обычное время, Йоэл уже ждет меня. Ждет с таким гордым видом, что кажется, он вот-вот лопнет.
– Я просмотрел все отчеты о смертях, начиная от четырех лет назад и до момента нашего знакомства. На всякий случай. Себе я верю, а вот твоей прозрачной башке – не очень, – рассказывает мой маленький друг. – Все, понимаешь? Включая женщин, детей и стариков. Если из-за этого я провалил сегодняшнюю контрольную по истории виртуальности – ты будешь мне должен.
Йоэл замолкает, любуясь моим напряженным лицом. Он не торопится делиться тем, что обнаружил. И я немедленно понимаю, что именно мой друг для меня припас.
Я думаю: он ничего не нашел. Думаю: меня не было ни в одном из его дурацких списков. Потом произношу это вслух и наблюдаю за бровями Йоэла, на секунду встретившимися с его челкой.
– Как ты догадался?
Призраки никогда не устают. У них просто нет веса, который давил бы на ноги, – да что там – у них и ног-то на самом деле нет. Но я вдруг чувствую, что не могу больше стоять.
Опускаюсь на землю и роняю подбородок на грудь. Моего лица теперь совсем не видно за козырьком, но мне кажется, что я дрожу. Интересно, как это смотрится со стороны? Помехами? Волнами, как на море?
– Все верно, Карлсон. Я тебя не нашел. А я же мастер в этом. Если я тебя не нашел, значит, ты не умирал.
«Не умирал». На самом деле, он не договаривает. Не умирал – значит, и не рождался. Не жил. Не существовал. Никакой я не призрак, не отпечаток бывшего человека. Я… Как это назвать? Искусственный интеллект? Способность мыслить, зародившаяся у чего-то, никогда и не притворявшегося живым?
Наверное, я должен радоваться собственной уникальности. Но на душе становится горько и тяжело.
На душе? Нет. Что за глупости? Мои уши – микрофоны, глаза – камеры, облепившие каждый дом, каждое чертово дерево и скамейку в Стокгольме, будто паразиты. У меня нет чувств. А значит, нет и души.
– Эй, – говорит Йоэл. – Ты что, заснул там?
Пару дней назад я бы рассмеялся. Но теперь как-то не до смеха. Слегка приподнимаю голову.
– Я еще не все рассказал.
– Да ладно, – горько отвечаю я. – Что там рассказывать? И так все понятно. Я не умирал. Я не был живым. Я – не призрак. Я…
– Елки-палки, – прерывает меня мой друг. – Ты что там уже успел себе накрутить, привидение из детской книжки? Я сказал только то, что сказал. Ты не умирал. Ты до сих пор жив.
У меня нет сердца. Но мне кажется, что-то подпрыгивает в том месте, где оно должно быть.
– Йоэл?
– Я готовился к этой идиотской контрольной. Начал читать учебник с самого начала – появление виртуальности, первые версии, отладка, все такое. И вспомнил про одну интересную штуку, – мой маленький друг делает очередную многозначительную паузу. – Короче, лет двадцать-двадцать пять назад виртуальность жутко глючило. Баг на баге. У кого-то руки через предметы проходили, как у тебя; кто-то не мог смотреть по сторонам, в некоторых местах тупо выбрасывало. Ну и вот. Когда кто-то вылетал – часто оставались артефакты, а иногда и вообще весь образ мог сохраниться. Стояли такие неподвижные чуваки, которыми никто не управлял. И вот у меня появилась одна дурацкая мысль…
Я слушаю его молча и даже не шевелясь. Будто тоже превратившись в какой-то артефакт. В тень.
– А вдруг с тобой случился глюк наоборот? Если в системе может зависнуть изображение, то почему не может – кусочек сознания? Тех-то потом вычистили всех, но ты же другой. Взяли и пропустили.
Ко мне, наконец, возвращается дар речи.
– Двадцать лет назад, Йоэл… Это очень крутая идея, но – нет, не сходится.
– Да что ж ты такой придурок сегодня? – злится мой друг. – В системе, я говорю. Ты завис в системе. А когда уже тебя там выбросило в реальный мир – это дело десятое. Блин, да ты говоришь иногда, как мой дед. Элементарным вещам удивляешься. Я давно заметил.
Молчу.
– Сколько там мы уже знакомы?
– Пару лет.
– И скажи, я часто говорю какую-то фигню просто так? Стал бы я рассказывать тебе дурацкую теорию? Я уже проверил, Карлсон. Я тебя нашел.
Мир замирает. Мир становится тихим, как у той девочки Леннарта. Мир становится зыбким и страшным. Я чувствую все это, потому что я настоящий. Потому что где-то есть человек, у которого двадцать лет назад было такое же лицо. Потому что этот человек не умирал.
Да, но… Кто тогда, получается, я?
– Густав Лейф Линдхольм, – произносит Йоэл. – Так тебя зовут.
Густав… это имя точно было в списке, но ничего не екнуло. Не екает и сейчас. У меня ведь, на самом деле, нет никакой амнезии. Я просто неполная копия. Сокращенная версия.
Нет, никакой я не Густав. Карлсон – единственное, на что я вообще могу рассчитывать. И самое смешное, это имя нравится мне даже больше.
– И… что теперь? – зачем-то спрашиваю я. – Что мне делать теперь?
Я не знаю, что там видит Йоэл из-за моей кепки, но, наверное, глаза у меня стали совсем щенячьи. Просто мне вдруг кажется: если кто в целом мире и может дать совет – то это мой маленький друг. В конце концов, у него всегда водилась целая куча логично обоснованных идей.
Только вот Йоэлу все еще не больше четырнадцати. Он бывает в реальности часов десять в месяц. И совершенно не представляет, как решаются такие вот… ненаучные проблемы.
– Не знаю, чувак, – качает головой он. – В принципе, у тебя вариантов немного. Или забей и забудь, или…
– Что или? – быстро спрашиваю я. Не то чтобы мне не нравился вариант с «забудь». Просто… какой-то части меня не хочется, чтобы все было зря.
– Встреться с ним, – неуверенно говорит Йоэл. – Поговори. Я без понятия, что это тебе даст, но может, у него есть какие-то ответы.
Ответы… Не уверен даже, что знаю вопросы, – но на короткую секунду эта идея кажется мне невероятно привлекательной, а моему маленькому другу хватает ее же, чтобы загореться. И дальше все происходит уже как-то само собой, без моего вмешательства.
Йоэл к Густаву Линдхольму идти не хочет. Он еще в своем уме и примерно представляет, как далеко пошлют надоедливого пацана даже в виртуальности. При этом мой маленький друг уже разработал целый план и подготовил десяток аргументов, почему это непременно должен сделать Леннарт.
Я говорю, что Йоэл сошел с ума. Объясняю суть ретроградного христианства и по памяти передаю их основные заповеди. Добавляю, что у Леннарта наверняка есть еще и ворох собственных причин держаться подальше от виртуальной реальности. Но упрямства моему маленькому другу отсыпали едва ли не столько же, сколько ума. Тут десять минут ходьбы до церкви, говорит он. Идиотизмом было бы не спросить.
Говорят, большинство детей, родившихся в этом и прошлом году, рискуют вообще не научиться ходить. Родители вытаскивают их в виртуальность еще младенцами, где детишки резвятся в виде щенков или жеребят, пока их реальные ножки атрофируются из-за отсутствия нагрузки. Но Йоэл – представитель переходного поколения. Ходить – да и бегать, и ездить на велосипеде – он умеет прекрасно. Сегодня один из тех дней, когда это нисколько меня не радует.
А еще меня жутко бесит тот факт, что Йоэл отправляется разговаривать с Леннартом один. Конечно, я не смог бы зайти в церковь. Но элементарнейшие правила приличия требуют того, чтобы мой маленький друг позвал священника наружу. Йоэл не делает этого. Забавно, как стеснялся этот парень познакомиться с герром Линдхольмом – но как легко при этом решается поболтать с Леннартом. Не потому, что священник – тоже мой друг, нет. Просто в реальности для Йоэла все немного не по-настоящему.
– Во вторник, – говорит мой маленький друг, когда выходит из церкви. – Он сходит в виртуальность во вторник. Раньше не сможет, у него «остались неоконченные дела».
Это звучит как цитата, и я приподнимаю бровь. Но Йоэл все равно не замечает.
– Приходи в среду утром, как обычно. Узнаешь, что он смог выяснить.
– Как ты сумел его уговорить? – у меня нет горла, но вопрос выходит почти по-настоящему хриплым. – И… почему он не вышел?
– Мне не пришлось уговаривать, – пожимает плечами Йоэл. – Он как будто хотел и сам.
Больше мне не удается вытянуть из него ничего.
Время до среды растягивается в бесконечную череду вязких и липких минут. У меня больше не получается отдыхать по ночам – я то и дело вскакиваю и начинаю ходить из стороны в сторону, а пару раз и вовсе бросаю Вильму и иду куда глаза глядят. Она не пытается догонять меня. Понимает, что мне нужна не компания, а нечто другое. Если бы я сам знал, что…
Леннарт сказал прийти в среду – но я, конечно, прихожу каждый день. Рву привычные маршруты, срезаю углы, не брожу кругами по Старому городу, а с самого утра с Риддархольмена (или где меня в этот раз застал восход) спешу на Юргорден. Я болтаюсь там по много часов, одновременно боясь отойти слишком далеко от церкви и чересчур приблизиться к ней. Вдруг Леннарт специально избегает меня?
Но любимая скамейка моего друга каждый раз пустует. А чайки носятся над заливом с возмущенными криками. Этот кусочек парка давно уже включен и в их маршрут. Вряд ли птицы способны испытывать благодарность или даже тоску. Но я уверен, что и через много лет прапраправнуки нынешних чаек отчего-то будут делать лишний круг над одной-единственной скамейкой на Юргордене. Интересно, найдется ли тогда хоть кто-нибудь, кто обратит внимание на эту странность?
Когда, наконец, наступает среда, я дожидаюсь Леннарта, стоя у самой воды. Проводить всю ночь прямо здесь – ужасно глупо, но я ничего не могу с этим поделать. Я стою у воды и не слышу, как уходит на свой пост у ног Аннели кошка, зато отчетливо различаю приближающиеся шаги.
Еще нет и восьми. Мой друг знал, что я непременно буду ждать его, и поэтому решил прийти пораньше. Я оборачиваюсь, и слова застревают у меня где-то в районе горла.
– Леннарт, – шепчу я.
– Он встретится с тобой сегодня в три. На набережной Шеппсбрун, – произносит священник и как ни в чем не бывало садится на скамейку.
Сегодня у него нет с собой булочек. Их просто нечем было бы взять.
– Леннарт, – все так же глухо повторяю я.
Он улыбается. Это странно, но мне кажется, что у моего друга разгладилось несколько морщин. Будто он раз и навсегда сбросил тяжелый груз с плеч и теперь свободен.
– Хороший способ похудеть килограмм на пять, – говорит Леннарт. – Правда, я вряд ли кому-то его посоветую.
Мне хочется заплакать. Мне хочется обнять его. Мне хочется произнести хоть что-то осмысленное – уж на это-то я точно способен. Но у меня не выходит. У меня не выходит даже толком сказать спасибо.
Я стою неподвижно, будто превратившись в то, чем и должен быть. Зависшую голограмму. И молчу.
– Какого черта, отец? – слышу я откуда-то справа и с трудом отвожу взгляд от своего друга. – Стоит мне отвернуться, как тебя уже куда-то понесло. Ты что, решил вывести меня уже в первый день?
Парень, который приближается к нам по дорожке, пофыркивая, будто возмущенный ежик, – высок, широкоплеч и красив.
Вьющиеся светлые волосы, характерный упрямый подбородок… В его лице есть что-то неуловимо знакомое. И я вдруг понимаю, что именно молодой человек вкладывает в слово «отец».
В его руках – куртка. Все еще не обращая на меня ни малейшего внимания, парень набрасывает ее Леннарту на плечи. Заботливо застегивает молнию доверху.
Сын. До сегодняшнего утра я даже не представлял, что у моего друга может быть сын. Вряд ли Леннарт прятал его от меня. Скорее, парень просто был далеко. Далеко-далеко в виртуальности.
– Луве, – говорит мой друг. – Это мой Луве, и я очень его люблю1.
– Карлсон, – представляюсь я.
Леннарт почему-то улыбается еще шире.
Густав Линдхольм ждет меня в три, а это значит, что я пропускаю встречу с Йоэлом. Наверное, это даже неплохо – я все равно вряд ли способен сейчас на осмысленную беседу. Но к моей чести, про своего маленького друга я хотя бы вспоминаю.
Я прихожу на площадь Карла в половину третьего – в глупой надежде, что Йоэл пришел пораньше, и я успею его предупредить. Но наверное, мой друг еще в школе. Я разворачиваюсь и зигзагами пересекаю ровные кварталы Остермальма. Я не опаздываю. Но у меня не получается не спешить.
Без пяти три я выхожу на Гамластан. Каких-нибудь двадцать лет назад нам с герром Линдхольмом пришлось бы договариваться поконкретнее. «Встретимся у памятника». «На автобусной остановке». «У четвертого фонаря справа». Сейчас в этом нет необходимости. Шеппсбрун все такой же большой. Просто теперь он еще и безлюдный.
Он уже пришел, да. Я замечаю его еще на мосту и почти незаметно усмехаюсь. В ожидании меня Густав Линдхольм не подходит ни к памятнику своему почти тезке2, ни к дворцу и ни к пристани. Он стоит перед лотком с хот-догами. Тем самым, особенным – с улыбающейся чернокожей женщиной и трехцветной кошкой, жмущейся к ее ногам. Вряд ли настоящий я отдает себе отчет в том, что делает. Просто в сером и пустом Стокгольме его подсознательно тянет к чему-то… живому.
Я не ускоряю, а, наоборот, замедляю шаг. Жадно рассматриваю незнакомое лицо, пытаясь обнаружить… сходство? Различия?
Герру Линдхольму уже явно за пятьдесят. Он плохо выбрит и почти полностью сед. У него несколько десятков лишних килограмм и непропорционально худые ноги, как у всех, кто годами не выходил из виртуальности. Совсем разучиться ходить или стоять нельзя. Но Густава Линдхольма немного покачивает с непривычки. Ему трудно и очень неуютно.
Порывистый восточный ветер наверняка пряно пахнет морем. Но герр Линдхольм замечает только сырость и поплотнее кутается в плащ.
Он похож на меня. Похож, как отец может быть похож на сына, как фотография пятидесятилетнего человека может быть похожа на фотографию его же в тридцать. Он похож на меня в достаточной степени, чтобы я поверил.
Наверное, приближаясь к Густаву Линдхольму, мне следует задрать подбородок повыше. Дать и ему вглядеться в собственное лицо двадцатилетней давности. Но я отчего-то опускаю голову.
– Добрый день, – говорю я и киваю Аннели.
– Добрый… день, – неловко отвечает настоящий я. Ему явно непривычно слышать голос собеседника откуда-то сбоку, не в такт движениям открывающегося рта. А еще… герра Линдхольма тоже, кажется, не учили разговаривать с призраками. – Ваш друг…
– Наверное, нам можно обращаться друг к другу на «ты», – мягко прерываю его я.
– Да, – растеряв остатки уверенности, говорит Густав. – Наверное…
Он явно не понимает, какого черта здесь забыл. Зачем поддался на уговоры «этого моего друга». Герр Линдхольм – всего лишь немолодой, усталый, совершенно обычный человек, которого зачем-то выдернули из привычного пруда и оставили барахтаться на земле.
Одного.
На всей набережной, которую Густав Линдхольм наверняка еще помнит веселой и многолюдной, кроме него, одни голограммы. И вышло так, что, именно они здесь дома.
Настоящий я ежится. Ненастоящий – запрокидывает голову, в очередной раз за последнюю неделю открывая свое лицо другим.
Густав замирает. Забывает, что ему холодно; забывает, как устали ноги. Все его внимание концентрируется на мне; и герр Линдхольм даже не замечает, как неприлично открывается при этом его рот.
Я молчу. Мы оба молчим довольно долго.
– Да, – глухо произносит он, наконец. – Да, это правда. Сначала я не поверил, но это правда. Ты – это я.
И снова пауза. Тишина. Я не знаю, что ответить. Я вообще не знаю, о чем с ним говорить.
Нас привели сюда разные вещи. Густава Линдхольма – любопытство. Твоя живая фотография разгуливает по Стокгольму – надо же такому случиться. Меня… наверное, просто желание узнать больше. Понять себя.
Но герр Линдхольм вовсе планировал рассказывать истории из нашего общего детства. Мы не будем обсуждать школу, колледж (или где там он-я учился?), первую любовь и первое погружение в виртуальность. Нам, в общем-то…. совсем нечего друг другу сказать.
– Как так вышло? – бормочет Густав. – Какой странный феномен. Нужно обязательно куда-то об этом сообщить. Научный мир просто сойдет с ума.
Ну, или так. Или обсудить со мной будущую сенсацию. Это безопасная тема. Нейтральная. Будто взятая из учебников светских бесед.
Мой живот сжимается, и я начинаю ощущать нечто вроде тошноты.
Это тоже ненастоящее, заимствованное чувство. Такое же, как и все. У меня нет ничего своего – только отпечатки, бледные тени эмоций Густава Лейфа Линдхольма. Но если того Густава нет уже двадцать лет – вправе ли стоящий передо мной человек требовать его долги?
И так ли уж я обязан их отдавать?
– Не надо, – тихо говорю я. – Не надо никому говорить. Пожалуйста.
Он смотрит на меня с удивлением. Кажется, даже несмотря на приветствие и пару брошенных мной фраз, герр Линдхольм до сих пор не считал меня в полной мере разумным.
– Я не хочу, чтобы меня изучали, – продолжаю я. – Поэтому… давай все это останется между нами.
Густав молчит еще, по меньшей мере, минуту.
– Не хочешь… Чего же тогда тебе нужно?
Наверное, это очень забавно смотрится со стороны. Пятидесятилетний ты, пытающийся понять, что творилось… творится в голове у тебя тридцатилетнего. Полагаю, каждому хоть раз хотелось поучаствовать в подобном разговоре. Правда, особой благодарности на лице у Густава не видно. А я раздумываю над тем, как мог бы ответить на его вопрос каких-нибудь полчаса назад.
И понимаю: очень здорово, что он спросил именно сейчас.
– Жить. Просто жить дальше. Здесь, – отвечаю я. «Жить» – глупое, совершенно неподходящее слово, но я отчего-то не задумываюсь об его уместности.
Наверное, прямо сейчас я честнее, чем был когда-либо. Когда я все еще был Густавом Линдхольмом и когда перестал.
Он кивает и отчего-то опускает глаза.
– Ладно, – говорит Густав. – Как скажешь. Я буду молчать. Был рад… знакомству.