
Полная версия
Кадры сгоревшей пленки. Бессвязный набор текстов
…После пляжа мы с мамой отдыхаем в спальне, на огромных кроватях с королевскими спинками, застеленных нежным прохладным покрывалом. Полумрак в этой величественной спальне всегда розов, у зеркала дважды блестят прабабушкины золотые часики. Пока мама читает, я подставляю ей спину, и засыпаю под легкие поглаживания. Мне снятся замки, шлейфы и ожерелья… Алмазы, рубины и жемчуга…
Я расту и с каждым годом осваиваю пространство. Мой самый любимый камень обнаруживается попозже, в дедовом саду. Очень жаркий августовский день, мы собираем вишню, я помню все так отчетливо, что саднит поцарапанная о кору коленка. Мне двенадцать лет, я сижу высоко в ветвях, на шее у меня бидон на резиновом шланге. Наполнив его, я развязываю шланг и спускаю на нем добычу вниз, маме в руки, она высыпает порцию в ведро и возвращает мне бидон пустым. Я пою – что-то мурлычу, – вишня так красива, что жалко рвать. Обчистив дерево максимально высоко, спускаюсь на землю, и тут встречаю по соседству сине-фиолетовую сливу с листиком. Слива висит на своей ветке чуть выше уровня моих глаз. Сквозь нее я смотрю на солнце, и слива становится прозрачной, сине-золотой, сияет жидким сиреневым огнем. Я трогаю шелк ее кожи. Не слива, а Леди Совершенство. Не могу ни отвернуться, ни покуситься на такое чудо. Это, конечно, сапфир.
…Мой первый купальник – старый мамин – зеленого цвета, с белыми летящими чайками. У меня длинные волосы, я чувствую себя русалкой. Вечернее море похоже на гигантский изумруд.
Лето, когда мне тринадцать – мы идем с подружкой по улице. Я смотрю в темную витрину – там отражается большеглазая девочка с короткой толстой косой сбоку от цветной кепки, – и вдруг говорю:
– Ты знаешь?… Я, кажется, буду красивой.
Что я знаю о себе и знаю ли? Только как не стать красивой, если много лет играешь в принцессу среди самых прекрасных сокровищ на свете?
…В приморском городке, где я не была двадцать лет, не осталось у меня больше родственников. Бабушка умерла тринадцать лет назад, и похоронена там, а дед ушел уже в новом веке, весной 2002, и лежит в Иерусалиме, где теперь живет младшее поколение прежних обитателей жаркой приазовской степи.
Дедовы ордена хранятся у мамы. Кортик деду не разрешили увезти с собой. Таможня не пропустила.
Несколько лет назад мой дядя, вернувшись из России, привез маме отдельные уцелевшие вещички из проданной дедовой квартиры.
– …Это, наверное, тебе, – пряча грустную улыбку, сказала мама, и протянула красный сундучок с бабушкиного серванта.
Оказывается, он очень тяжелый. Трофейный. Стеклянный. Не рубиновый. Ну и что.
Он живет у меня под зеркалом. Я не держу в нем сахар. Я храню в нем браслеты и цепочки с не очень драгоценными камнями. Которые с некоторых пор тоже почти не ношу.
(сентябрь 2004)Громозека
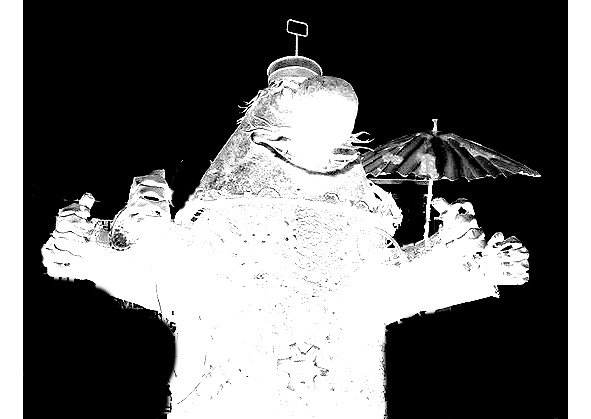
В Риге жил с семейством Герка-Розумбай (а правильнее было бы называть его Громозека, на мой взгляд, – это чистый типаж, просто мои родственники не читали Булычева38), – мамин двоюродный брат, старший племянник моего деда.
Мой дед был самый младший ребенок в семье, «мизинчик», как называла его прабабушка Маня. Разница в возрасте между дядей и племянником составляла поэтому всего два года, хотя и в «правильную» сторону.
А дополнительным семейным приколом всегда было необыкновенное их сходство. Оба были большие, толстые, усатые и громогласные, только Герка выше ростом. Оба выкапывали ямку в песке и укладывали туда живот, чтобы загорать с удобствами. Они были похожи так, что на пляже, когда Герка приезжал к деду в Приазовье отдыхать, их путали дедовы пациенты! Иной раз мы не могли различить их на фотографиях!
А моя «другая» бабушка, папина мама и дедова сватья соответственно, однажды сочла себя страшно оскорбленной. Дело было у меня на глазах. Неожиданно в нашей питерской квартире раздался звонок в дверь, и на пороге, с мефистофельским хохотом и с распростертыми объятиями, возник обожающий такие сюрпризы Розумбай. Не успела моя сдержанная и щепетильная синеблузница-бабушка изумленно пискнуть, как была заключена в сочные родственные объятия и расцелована по полной программе. Я обратила внимание, что она как-то необычно мало сопротивляется. В последующие пять минут, пока мы с Геркой тоже целовались, и он, рокоча, рассказывал, какими судьбами попал к нам в Питер, бабушка как-то потерянно хлопала глазами, и в итоге залилась краской, словно невеста. Герка просек фишку, и, обернувшись к ней, радостно выпалил: «А Вы, я гляжу, приняли меня за Фиму?» На это багроволицая бабушка полным оскорбленного достоинства голосом отвечала: «Во всяком случае, поздоровалась я с вами, как с Ефим Борисычем,» – и тут же удалилась в свою комнату. Впрочем, вечером, за праздничным столом, Герка был прощен, и даже пожалован сдержанным персональным поцелуем.
Потом, в старости, они были уже разными: дед высох, а Герка погрузнел еще больше… Но это было потом….
В молодости Герка воевал, потом работал в шахте, потом стал в Риге снабженцем и большим прохиндеем.
Герка был богатый человек. У него была шикарная, шикарная квартира в самом центре Риги, дача на Взморье и персональный шофер. Дом его был очень гостеприимен, и не счесть, сколько раз я, в самых разных компаниях прибывая в Ригу, находила тут для всей команды стол, и кров, и теплое родственное объятие.
Помню, однажды мы навестили Ригу с первым мужем, это было через три месяца после свадьбы, и три же месяца назад родился геркин младший внук. Старшему геркиному внуку (всего внуков было трое) как раз исполнилось пять лет. Питерский поезд пришел в пять утра, мы с Данькой протопали четыре остановки от вокзала по рассветной Риге и, стесняясь раннего появления, позвонили в дверь за углом от Красной Церкви39.
Хозяева, вестимо, еще хотели поспать. Но нас ждали, и тахта в гостиной была застелена бельем. «Досыпайте!» – повелел Герка, и мы с удовольствием нырнули в мягкое прохладное чрево. Но, не успели мы смежить веки, как хозяин ввалился в двери, неся в руке большущую птичью клетку. В клетке – удивительное дело! – сидела-таки птичка.
– Вот! – самодовольно воскликнул Герка и потряс клеткой так, что птичка едва не свалилась с жердочки, – Внуку подарил! Для ребенка ничего не жалко! Щегол, ребята! Чичас, чичас…
Он поставил клетку на широкий подоконник, птичка встрепенулась, поймала клювом солнечный луч, переступила с лапки на лапку и – запела! Б-же, что за трели огласили комнату!
– Ага! – восхищенно заорал Герка, созерцая наши обалдевшие лица, – Райские звуки, а? Оставляю вам его, пусть развлекает, – и ушел. Через минуту мы услышали отзвуки его циклопического храпа: Герка спал в маленькой, отдельной, самой дальней комнате, так как храп его, сравнимый по децибелам разве что с шумовым эффектом от стартующего МИГа40, выдержать не мог никто.
А птичка пела, и тоже громко. А спать хотелось – невыносимо. Минут десять мы слушали, потом начали чертыхаться.
– Это не щегол, – сказала я, – это террорист. Может, его накрыть, как попугая?
Попробовали. Не помогло.
Следующие пятнадцать минут я пыталась уснуть, а Данька зажимал мне обеими руками уши. Не вышло.
В третьей фазе злобный Данька решительно взял клетку, вышел в коридор, и подставил заливающегося щегла под дверь геркиной спальни. Еще через пять минут к свисту щегла присоединился недовольный геркин бас: дом проснулся.
…Он купил себе русское отчество «Иванович» (вместо «Исакович»), «русскую» национальность в паспорте, и передал ее своим детям. Невероятно комично эта национальность сочеталась с внешностью его дочери Идки – красавицы жгучего еврейско-индийского типа, которая, к тому же, поменяла по настоянию мужа геркину нейтральную фамилию «В*ский» на откровенную «Циперович».
Позднее, в постперестроечном дурдоме, Герка дорого заплатил за свою «русификацию». Уже выселенные из возвращенного прежним хозяевам шикарного дома, два года они не могли получить израильскую визу: Герка уничтожил все подтверждения своего еврейского происхождения. Когда он, обозванный идиотским именем «Георгий ИвОнович», все же прибыл в землю обетованную, он был уже тяжко, запущенно болен сердцем. Года полтора он прожил на съемной квартирке в Бат-Яме, задыхаясь и пася в палисадничке внуков, потом лег в больницу и тихо умер, как праведник, во сне, ночью перед назначенной операцией шунтирования. Господь простил ему, коли они были, его заблуждения и прегрешения. Не станем и мы судить.
Я хорошо помню геркины похороны летом 1995 года. Нас тогда уже было довольно много в Святой Земле – много для одной семьи. Но нового репатрианта Герку хоронила семья и только семья, и как же сиротливо было нам на огромном разрытом глиняном пространстве нового кладбища в Кфар-Ха-Ярок41… Весь этот ритуал – короткий, не откладываемый по закону ни на полдня, кажущийся скомканным и не только не торжественным, но даже словно чуточку стыдным, потому что наша новообретенная традиция не приемлет ни часа лишнего присутствия среди живых непогребенного мертвеца42, – все мы проходили тогда его впервые.
Мы старались изо всех сил. Мужчины покрыли головы. Женщины повязали платки. Геркины дети в надорванной одежде прилежно повторяли за раввином незнакомые, странные слова молитв. Испуганные глаза геркиных внуков проводили укутанное саваном тело, опущенное, по обычаю, прямо в землю, в коробку из каменных плит без дна. На глиняную кучу, украшенную нашими цветами, беспомощно присел младший внук, и долго еще сидел: тихий, потрясенный, шевеля иногда губами, словно разговаривая с потерянным дедом…
Я вдруг увидела нас сверху – горстку пришлых людей в горячей и горькой глиняной пустыне. Но один из нас уже лег в эту землю.
А моего деда тогда еще не было в стране…
Кладбище в Кфар-Ха-Ярок43 с тех пор расцвело и зазеленело. Но деда мы положили не там. Он пережил Герку на шесть лет, и спит теперь на высокой террасе, на Горе Отдохновения в Иерусалиме44. А мать моего мужа, которую я так и не успела увидеть, лежит в Хайфе, и от ее могилы на склоне горы Кармель видно море… И потерянная когда-то с эмиграцией «любовь к отеческим гробам»45 возвращается на свое законное место в нашей жизни. Мои дочки не успели ощутить потери.
(август 2003)Квартирный вопрос

Когда мои родители уезжали в Израиль, квартиру свою они за символические деньги оставили маминой лучшей подруге тете Милке. Ну, так вот уж получилось, продать иначе было тогда невозможно, назначенная цена быстро превратилась в ничто. Среди родительских знакомых были и есть люди, которые считают Милку хищницей, а родителей – одураченными болванчиками.
Конечно, денег жалко. Но я все равно рада, что в нашей квартире живет Милка. Милка – очень хороший человек. Когда-то давно, при том что убежденная коммунистка, она отстояла меня со товарищи и спасла от исключения из института. Ну, там, иврит учили, самиздат читали. Стихи писали сомнительного содержания… Кто-то написал письмо, что на факультете «орудует сионистская организация».
Кто-то! Мы много лет не знали, кто именно. Узнали только после скоропостижной смерти персонажа – это была наша преподавательница языкознания, которую обожал весь факультет, от мала до велика:
Один предмет, извольте видеть,Он знал когда-то назубок:Нечипоренко46! – он обидетьПренебрежением не мог!(Из одного моего капустника…)Невозможно даже представить себе человека, более обойденного нашими подозрениями тогда… Вот как бывает.
Так вот, Милка была тогда деканом, членом парткома института. Как всегда в поганой среде академических функционеров, все интриговали, ее многим хотелось скинуть. И она, зная это, «скинулась» сама: обменяла письмо на свое деканство.
Я люблю Милку.
Когда-то я писала ей курсовые в стихах, с нежными и смешными подначками…
У Милки неважное чувство юмора, «узкий ротик, как у копилки»47, но от меня она сносила все, даже наоборот: пыталась понять, например: что же все-таки есть в этом анекдоте, если он так нравится Рите? Она так хотела, чтобы на мне женился ее сын! Но не вышло: когда этот достойный офицер обратил на меня внимание (а он-таки обратил!), я была уже замужем.
Так что я рада, что в нашей квартире живет именно Милка.
Да и вообще, это хорошо: приезжая в Питер, члены нашего семейства живут как будто дома. В первый приезд, в 1993 году, я даже спала на своем диване, который у меня класса с пятого. Мой стол стоял под моей лампой дневного света, на которую десятилетняя я перевела картинки из сказки про трех поросят.
Милка сменила только стулья, покрывала и ковры, да перенесла сюда вместо полок родительский книжный шкаф.
Странное это чувство – возвращение в дом своего детства. Об этом столько писали, и все же невозможно заранее пережить умиление и недоумение, которое испытываешь, обнаруживая, что защелка в ванной не на том месте, где тебе помнится, что форточка в комнате другой формы, а подоконник гораздо, гораздо ниже… И панорама огромного двора, виденная тысячи раз в окно на шестом этаже – под ливнем, в сугробах, в нежной зеленой пыли распускающихся почек, залитая до краю синим вечером или светящаяся призрачным сиянием белой ночи – она другая, нежели помнишь ты, частью потому, что сама память тебя подводит, частью же оттого, что выросли деревья, которые ты знал саженцами, и кроны их, даже по-осеннему полуодетые, все же заслоняют проемы и меняют образы, – и вот смотришь и смотришь на ту дорожку, по которой шагали с подругой из первого «бэ» класса домой, и понимаешь, что тогда бабуля – та, что спит уже много лет в гнилой земле крематорского кладбища – видела ее из окна всю целиком, а теперь из-за ветвей не видно и половины….
А все же стоит в большой комнате у окна Дедово Кресло – папа просил Милку его не выбрасывать, – это кресло купил в городе Глухове еще твой прадед, и дед потом любил сидеть в нем у окна, выпрямившись возле прямой высокой спинки и подставив под ноги скамеечку, и напевал про кузнецов48, и про красных кавалеристов49. Вот эта, левая ручка – отполирована до блеска его пальцами, а правая выглядит совсем иначе – у деда не было правой кисти…
А еще более странное чувство испытываю я сейчас, когда пишу эти строки, потому что теперь уже и само это возвращение в дом воспоминаний стало для меня далеким и нежным воспоминанием, и в нем я – такая молодая, с таким запасом нерастраченных сил, чувств, надежд, – заглядываю в свое детство, и осознаю свою взрослость, и ухожу от него – куда? Да сюда… Ко мне-нынешней… И многолетний путь, который мне – той, молодой, растерянно улыбающейся, – предстоит, заставляет меня-нынешнюю плакать от страха и жалости… Воистину – «во многом знании много печали»50…
(декабрь 2003)Пражские дары

1
Та первая поездка в Прагу, в июле девяносто девятого, спустя два года, как я чудом осталась жива, между окончанием компьютерных курсов и началом работы в фирме, которая меня ждала уже полтора месяца, – нам казалось, что нас наконец-то нашла заблудившаяся где-то удача.
Влтава, полная лодок, рыбаки на зеленых островах. Длинные, политые ночным дождем, набережные с дворцами, отражающими солнечный свет, словно зеркала. Я топаю по булыжнику Карлова моста, старательно ставя ноги в новеньких кроссовках, и Ленька смотрит мне в спину чуть озабоченно, но радостно-удивленно: я уверенно удерживаю темп и равновесие, а ведь еще совсем недавно…
В Градчаны нас, правда, поднимает такси. Но спускаемся мы сами – я охаю и придерживаюсь за стены на крутизне, – забегаем к «Хряку»51 испить очередного пива, и дальше, почти бегом… Ошалевшие, сидим-пялимся на сияющую Тынскую Церковь, и даже целуемся, как студенты, – вот оно, счастье… Где-то в лабиринте улочек за ней находим «Золотых Ангелов»52, Ленька, хохоча, заказывает «Мешок Императора Рудольфа»53, потом напихиваемся оладьями с брусникой…
А в гостинице – огромные мягкие подушки на широких матрацах, и мы долго блаженно валяемся по утрам, сонные и ленивые. В гостинице убийственные завтраки, со сказочными сосисками и колбасками, с тающей во рту печеной картошкой, обильные и душистые. А вечерами в гостинице – казино, и мы бегаем туда в тапочках, едва натянув цивильные брюки; Ленька изумленно наблюдает, как я выигрываю двадцать долларов в рулетку, и приносит мне лимонный сок, и я, обнаглев, спускаю в ту же рулетку все сорок, и мы отваливаем перевозбужденные, с чувством выполненного долга…
А наутро мы поворачиваем налево за собором Святого Николая, и по улице Парижской, миновав сторожевую Староновую синагогу54 четырнадцатого века, достигаем Главного.
Старое Еврейское Кладбище55.
Я и не знала раньше, что оно есть у меня – Пражское Кладбище. Да, именно у меня, лично у меня, – это моя вотчина, мое достояние, мой наследственный надел, который я искала много лет.
Чувство, знакомое многим таким, как я, – когда в сумерках прошлого столетия теряется нить твоего рода, народа, корня. Где-то там, в сгоревших и истлевших, навеки утраченных книгах местечек и городков сгинули имена моих предков, означающие документальную связь с народом, – тем народом, что неумолимо оставляет свой знак на лицах и на судьбах. Я читала Тору56, я живу в Израиле, я прихожу к Стенке – к Западной Стене, к Котелю, к Стене Плача57, – и она говорит со мной внятно и властно. Закрыв глаза, я могу себе представить медленное, под музыку Вселенной, шествие-рассеяние, постигшее моих предков, – как, словно осколки Второго Храма58, сквозь века текли они по планете. Один из этих протуберанцев достиг Центральной Европы… И – все. Тишина. Молчание на тысячу лет. Зеленый океан немоты до самой этой фразы, уже не раз мною писанной: «Один из моих прадедов был купцом первой гильдии, другой – бухгалтером, еще один держал дровяной склад, а четвертый – был простым сапожником.» Четыре моих прадеда: Берка, Гедалья, Соломон и Берель. Я знаю их по именам, потому что от них образовались отчества. А прабабок знаю только лишь двух…
В зеленом океане забвения потеряла я тысячу лет своего прошлого. Пражское кладбище стало первым островом в этом океане.
Я впервые увидела место, где солнечный свет замедляется и течет, как вода. Земля покрыта травой, а все равно кажется изрытой, рыхлой, как болотная трясина. На небольшом этом пространстве из земли поднимаются могильные камни, и камни эти разные, как лица. Как судьбы. Как люди – окаменевшие воины моего народа, уходящие плечом к плечу в трясину наступающей вечности…
Или нет, наверное, это больше похоже на руки.
Тесно-тесно друг к другу, кренясь во все стороны, касаясь друг друга и опираясь о ближних, тянутся вверх могильные камни, словно руки тонущих в немом зеленом болоте. Есть камни, которые видно целиком, с надписью, с барельефом. Есть и такие, что больше чем наполовину поглощены уже жадной землей, расколоты и сломаны, и никто никогда не сможет прочесть древние буквы имени, слизанные языком времени. Но, все до единой, эти раскрытые каменные ладони – тянутся ко мне. Этих утопающих могу спасти я одна. Поэтому я тут, и мне кажется, что каждого из них я смогу вспомнить по имени… Если постараюсь. Если очень захочу.
…Я здоровалась с ними – с каждым! – словно они слышат мой шепот. Я касалась этих камней пятнадцатого и семнадцатого века так осторожно, словно трогала дышащие ладони… Как описать потрясение, похожее на счастье так же сильно, как и на смертную тоску безысходности? Я нашла их! – кусочек тысячелетнего молчания, тех, кто был – до меня.
2
Маленькая Гунька часто спрашивала, почему я не люблю брать ее с собой к Стене Плача. Я всегда говорила ей, что она пока что, до двенадцати лет59, – кусочек меня, и телом и судьбой. Я за нее молюсь, и я же за нее отвечаю перед Творцом. Приняв когда-то такое объяснение, Гунька серьезно готовилась после своей бат-мицвы60 впервые самостоятельно и сознательно встретиться со святынями своего народа. И тут ей повезло, что неудивительно: Гунька вообще человек везучий, недаром в восемь лет она водила пароход, а в девять – дирижировала симфоническим оркестром. Как-то так само сложилось, что за два месяца до ее дня рождения, «опережая события», мы, в качестве подарка, взяли ее в Прагу. Да не просто взяли! В Прагу полетела вся семья: мы с мужем, обожаемые дедушка с бабушкой, и Гунька. Гунька узнала об этом массовом мероприятии за три часа до самолета, и, застегнувшись уже ремнем на почетном месте возле иллюминатора, кричала шепотом: «Не верю!…»
Прага не изменилась за два года. Радостный город, звенящий скрипичной музыкой. Ребенок перелетал из зеркального лабиринта в театр теней, от сокровищ Лореты взмывал к витым сводам Владиславского зала, валялся в подснежниках на Петршине и высовывал взлохмаченную апрельским ветром башку из всех игрушечных окошек Златой Улички.
Глаза ее становились все круглее и круглее, и «вопросы… летели, как пчелы из улья»61 – о крепостях и королях, о Востоке и Западе, о европейской культуре, о Швейке и докторе Фаусте, и о Големе62 – наконец-то, о Големе! Легенду о Големе мы читали еще дома, и вот теперь Гунька пришла к могиле его создателя, рабби Лёва, который до сих пор, и без мифического Белого Тезиса63, творит, говорят, чудеса, если как следует попросить64…
Я привела свою дочь на подаренное нам с ней древнее кладбище. Я никогда не видела у развинченного израильского подростка такой осторожной походки, какой шла Гунька по узкой дорожке между плитами-ладонями. Дрожащими пальцами, едва дыша, обводила она пыльные знакомые буквы на высоком обелиске – знакомые с детства буквы, из которых тут не складывались понятные слова65…
Как сейчас она-тогдашняя стоит перед моими глазами – наклонившая лоб, чтобы расслышать голос ветхого камня, – моя голубоглазая дочь. Ей двенадцать, и она взрослая. Я привела ее сюда – большего я сделать уже не успею, но главное у меня получилось: она приняла подарок. Это ее вотчина. Теперь я не умру. Потому что мой род не умрет.
…И я просила раби Лёва бен Бецалеля о волшебной его помощи, и была в мольбе своей неоригинальна. И назавтра был нам с Ленькой последний день, когда семейство, отправившись по магазинам, нас с ним оставило вдвоем… Было длинное и нежное солнечное утро, вышеградский парк, полный пестрых цветущих деревьев, голые еще ветки на фоне старинной ротонды, наше любимое темное пиво у Святого Томаша66, шумная ярмарка у ратуши, где Гуньке в сюрприз – после веселых препирательств и примерок – была куплена длиннющая скоморошья шапка, бело-сине-полосатая, с помпоном страшного размера…
И вскоре по возвращении мы узнали, что привезли из Праги то, о чем просили. Мы привезли Марго.
(сентябрь 2004)Остатки и обрезки

У Дины Рубиной есть маленькая книжка, как она говорит в предисловии, «из остатков и обрезков». Но это ее писательские обрезки, отходы производства. А я тут нашла коробочку…
Толстенная пачка отпечатанных еще с пленки, «завалявшихся» фотографий: частью не особенно удачных, ненужных фотоопытов, неприглянувшихся вариантов, непригодившихся дубликатов, а то и просто вытащенных однажды из альбомов, чтобы кому-то показать, да так и не вернувшихся на место по моей безалаберности и забывчивости.
Может быть, именно из-за этой небольшой части заблудших овечек я не захотела выбросить все остальное. Случайно уцелевшие осколки бытия. Неценные. Те, что первыми забываются за ненадобностью. Да уже забылись!
Они вообще случайно попали на пленку.
Случайно.
Я с невероятным трепетом отношусь к этому слову. Я убеждена, что Вселенная появилась в результате случайности, властной даже над Всевышним. Сами мы всего лишь суть результат случайной группировки атомов. То, что в случайном (!) порядке сложено сейчас в этой коробочке, которую я случайно (!) открыла именно сейчас, может быть, сообщит мне нечто важное? Что там у меня, в очистках яблок, в обрезках постсоветской, но прецифровой эпохи? Страшновато начинать, но попробую. Честное слово, прямо сейчас начну таскать одну за одной, вслепую, из ящика, и записывать впечатления.
Хвать… О Господи, а ведь это Флоренция, апрель 1996. Хотя улочка совершенно безликая, круто поворачивающая, теплые желтые стены в три этажа, яркое солнце из-за угла, ставни на окнах, слева накренился припаркованный мотоцикл, справа темного дерева дверь с полукруглой аркой и маленькой плоской ступенькой. Я сама не думала, что помню эту ступеньку, а тем более, что я ее сфотографировала: именно тут я полчаса рыдала, потому что во Флоренции мы с Ленькой впервые по-настоящему поругались. Чуть не разбежались прямо там! Не помню, из-за чего. Не помню, как помирились. Ничего я не помню! Но точно: вот на этой самой ступенечке, на границе света и тени, справа от меня горячей от солнышка, гладкой и ласковой, я сидела, рыдая, а Леонид бегал взад-вперед по кривой желтой улочке, искривив физиономию…



