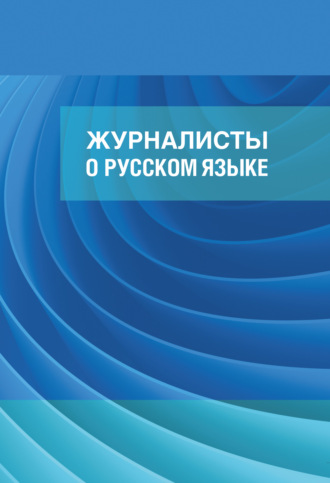 полная версия
полная версияЖурналисты о русском языке
1. Состояние русского языка нахожу довольно плачевным: даже на чисто журналистских форумах и комьюнити довольно много грамматических ошибок, а ведь именно журналистика – зеркало современного языка, как мне кажется. Явления и процессы – «упрощение» языка, «как слышим, так и пишем», что, может быть, и забавно в рамках субкультуры, но когда «медведы» просачиваются на новостные сайты, это перестает быть забавным.
2. Лично мне не нравится «одинаковость» стиля всех глянцевых журналов, которая потом попадает в книги, написанные теми же глянцевыми журналистами. Язык для каждой группы изданий должен быть своим – более официальный для «строгих» СМИ, более вольный и эмоциональный в СМИ развлекательных. Радуют те издания, где язык узнаваем – например, тот же «Большой город» ни с чем не спутаешь.
3. Цитаты к месту, знание предмета и чувство юмора у автора – вот козыри журналиста. В то же время от художественной литературы журналистика должна отличаться краткостью и информационной наполненностью текста (никакой «воды»!)
4. По-моему, это влияние в основном негативное. См. пункт 1.
5. Нормально отношусь, если журналист использует слово в верном контексте.
6. В специализированных изданиях сие вполне оправдано, в изданиях, рассчитанных на широкого потребителя, – не совсем.
7. Когда пишу для молодежной аудитории – использую, а куда без этого. Но стараюсь не злоупотреблять.
8. Однозначно – нет. Иначе чем статья в СМИ будет отличаться от надписи на заборе?
9. Пример приводить не буду, разве что хрестоматийный «подъезжая к станции, у него слетела шляпа». Отчего это происходит? У многих людей память зрительная, наткнутся раз-другой в том же самом Интернете на написанное с ошибкой слово и привыкнут к такому его «внешнему виду», а запомнив – начнут воспроизводить. Еще одна причина – не все журналисты, даже имеющие высшее филологическое образование (а тем паче пишущие люди без оного), абсолютно грамотны. И не все корректоры внимательны. Непрофессионализм? Спешка?
10. Руководителям издательских домов – отправлять сотрудников в принудительном порядке на семинары по обучению правилам стилистической и грамматической чистоты русского языка. Журналистам – читать на досуге побольше хорошей прозы и отгадывать сложные кроссворды, пусть даже и со словарем (расширяет кругозор и словарный запас). А что делать с речевой культурой общества – не знаю, ничего, кроме усиленного привития грамотности начиная с первого класса, в голову не приходит. Хотя образование не панацея – лично знаю одну «образованную» журналистку, которая говорит «ложит» и «текет»…
Александр Гаврилов
Главный редактор еженедельника «Книжное обозрение», доцент кафедры проектов в сфере культуры Высшей школы экономики
1. Не понимаю вопроса, честно говоря. Состояние оцениваю как живое. Процессов в языке идет тьма. Наиболее интересен мне лично процесс объединения русского письменного с русским устным. Долгое время это были расходящиеся замкнутые системы – и потребовалась технологическая революция (Интернет, а затем блоги), чтобы они смогли раскрыться друг другу.
2. Не понимаю вопроса вообще. Идеальный язык MTV чрезвычайно далек от идеального языка газеты «Ведомости».
3. Не вижу причин, по которым язык публицистики должен отличаться от языка художественной литературы – кроме уже упомянутых в предыдущем вопросе аспектов адресации. Публицист (в отличие от художника) обязан быть понятным своему читателю. Следовательно, если журналисту выпало горькое счастье работать в СМИ с большой, массовой аудиторией, то за свою влиятельность он вынужден расплачиваться узким спектром языковых средств. Хорошо бы, чтоб его мыслительные способности также соответствовали уровню наиболее широкого читателя. Но тут, боюсь, без лоботомии не обойтись.
4. Русский язык богат и прекрасен именно потому, что в нем есть место всему. Он демонстрирует нам гибкость столь дивную, что грех не искать возможности использовать его на всю катушку. Вопрос только в том, каким именно словом ты можешь выразить свою мысль, интонацию и эмоцию наиболее точно.
5. Не понимаю вопроса. У кого заимствованных? Если мои предположения по поводу этого вопроса верны, то не могу не вспомнить недавнего анекдота, принесенного моими друзьями с академической конференции по вопросам художественного перевода. Там из зала поднялась дама и стала пенять переводчикам за отход от подлинной чистоты языка. «К чему щеголять этим нелепым «лобстер», если есть хорошее русское слово «омар»?» – вопрошала она, в частности. Русский язык вобрал в себя множество слов и конструкций из всех наречий и групп, с которыми контактировал на протяжении своей истории. Сегодня они – наши. Вопрос времени, не более того.
6. Если они используются осмысленно (см. выше) – отчего бы и нет. В большинстве же случаев и термины, и профессионализмы, и канцелярит употребляются в СМИ по причине фатальной языковой лени аффторов.
7. Допустимо ли в общественных местах орать в голос? Как правило – нет, но есть обстоятельства, в которых это необходимо: ловля вора, требование помощи умирающему или роженице. Употребление в печати слов, именуемых именно что «непечатными», есть переход демаркационной линии языка, и как таковой он производит очень сильный эффект. Если он оправдан – журналист молодец. Если нет – хулиган и дурачок.
8. Воздержусь.
9. См. ответ на вопрос 1-й.
10. Всех расстрелять. Перестанут делать ошибки.
Евгений Гаврильченко
Руководитель компании SFERA MASS MEDIA
1. Современный русский язык сегодня активно атакует глобализация с ее профессиональными сленгами и наречиями-интервентами. Он беспомощен, и скоро у нас будет новый язык – великий и могучий, с хорошим иммунитетом.
Главный процесс сейчас и есть вот эта самая глобальная атака со всех сторон.
2. Качественные федеральные СМИ транслируют хороший, живой язык. В провинции за редким исключением происходит полный п…ец.
Идеальный язык у каждого отдельно взятого СМИ должен быть свой.
3. Все средства хороши, лишь бы у читателя удовольствие от чтения вырабатывалось на физическом уровне.
Этическими и юридическими аспектами использования слов «х…й», «п…а», «е…ться».
4. Когда это необходимо для достоверности текста – обязательно. Жаргонизмы – это главный показатель того, жив язык или мертв.
5. Прекрасное, просто иногда корпоративные зомби со своей «е…итдой» портят всю прелесть заимствований.
6. См. выше.
7. Допустимо в определенных СМИ и определенных случаях. Вот писать слово «х…й» нельзя в газете «Комсомольская Правда» – массы не поймут. А вот процитировать это слово в «Коммерсанте» – ничего страшного, т. к. публика почувствует необходимую восприятию перчинку, и повседневный лексикон читателя «Коммерсанта» не пострадает.
8. Нарушения стилистических форм – это результат плохой работы факультетов журналистики в нашей стране и отсутствия нормального барьера на входе в профессию.
9. Интернет в России еще не является полноценным СМИ (в плане охвата аудитории и ее сравнения с аудиториями ТВ-каналов), поэтому влияние сильно лишь на определенные общественные группы. Пройдет еще пара лет, и влияние будет прямым и полноценным.
10. Язык – живое явление. Он сам избавит себя от мусора и впитает необходимое. Нам ничего не нужно делать.
Евгения Гайсина
Редактор многопрофильных сайтов строительной корпорации
1. Язык развивается всегда. Сейчас особое влияние на его развитие оказывает Интернет, как беспрецедентно открытое и свободное СМИ. Как всегда, идет образование новых слов и заимствование из других языков, но с заметно большей скоростью, именно из-за новых типов СМИ. Многие отмечают также упрощение языка, но это, возможно, панические заявления.
2. Язык в большинстве случаев приблизился к разговорной речи. В идеале язык должен органично восприниматься наиболее культурными слоями общества, чтобы планка качества не опускалась совсем низко.
3. Всеми художественными средствами она может создаваться. Язык публицистики отличается тем, что он прежде всего передает факты и потому менее нагружен «красивостями», подробностями, психологизмом и т. п., более близок к разговорному. Впрочем, это не аксиома.
4. Только в кавычках. Если лучше всего подходит жаргонизм, почему бы и нет, главное – дать понять, что это слово взято для выразительности, например кавычками и ссылкой с пояснением.
5. Все оправдано, если не слишком много.
6. Их следует давать в кавычках, с пояснением, не слишком много.
7. Думаю, что использование такой лексики не оправдано. Ее нужно свести к минимуму и заменять звездочками. Нельзя разрешать абсолютно все, потому что это будет хаос, должны быть правила, согласующиеся с чутьем образованных людей.
8. Довольно большим процентом безграмотных журналистов при возросшем во много раз их общем количестве.
9. Сильно. У речевой культуры большой соблазн сильно опуститься, поскольку гораздо легче написать в Интернете безграмотно и быстро, чем редактировать. И эта пагубная привычка пользователей была быстро замечена и подхвачена журналистами.
10. Прежде всего подавать положительный пример – поддерживать «культурные» СМИ. Премии за культуру речи вручать. Социальную рекламу запустить с пояснениями. И, конечно, на факультетах журналистики повысить уровень преподавания.
Мария Гарнова
Государственная радиовещательная компания «Маяк» и «Радио России», дирекция информационных общественно-политических программ, редактор отдела эксклюзивной информации, преподаватель, координатор программы профессиональной переподготовки «Интернет-журналистика» факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
1. Состояние современного литературного языка могу оценить как вполне удовлетворительное. Беспокоит лишь тенденция к заимствованию лексики из интернет-среды. Различные «удаффы», «падонки» прочно завладели умами молодежи. В этом не было бы ничего плохого, если бы мода уходила и приходила, а основы языка оставались бы незыблемыми. Но проблема кроется в восприятии интернет-сленга аудиторией. К сожалению, люди, которые пишут с ошибками, склонны «коверкать» слова не только в сетевых чатах, но и во вполне обычных ситуациях, таких как написание заявления, составление официальных бумаг.
2. Идеального языка СМИ, наверное, не существует. СМИ – «глаза» и «уши» своих потребителей (читателей, слушателей, зрителей), а потому языковой уровень посредничества во многом зависит и от них. СМИ – зеркало тех, кому направлена информация. На мой взгляд, если потребители информации будут обладать высокой языковой культурой, то и СМИ будут вынуждены так или иначе к ним «подтягиваться».
В целом язык современных СМИ абсолютно адекватен своей аудитории. Это касается и «Российской газеты» (например), и «SPEEDinfo».
На радио и телевидении все эфирные тексты нарочно упрощаются. Сложные предложения разбиваются на простые и т. д. Это происходит в связи с тем, что аудитория на слух не воспринимает очень длинные фразы, сложные слова, замысловатые конструкции.
3. Выразительность радио – интонация, меткие словечки, придыхание ведущего. Радио, наверное, самое «интимное» СМИ, потому что оно как будто «шепчет» на ушко своему слушателю и одной только интонацией способно покорить миллионы сердец.
Язык художественной литературы шире, чем литературный, поэтому все существующие выразительные средства можно увидеть именно в художественной литературе. Публицистика – нечто на грани литературы и журналистики, некий синтез языковой мудрости веков.
4. Использую. Но не на радио, а в своих редакторских колонках молодежных выпусков районной газеты «Маяк» Пушкинского района Московской области. Жаргонизмы – как точки связи журналиста и определенной аудитории, которую он хочет привлечь на свою сторону, доверием которой нужно заручиться. Главное – мера, которую так трудно «держать за хвост» и отсутствие которой так легко вовремя не заметить.
5. В использовании заимствований не вижу ничего плохого. Любой язык на протяжении всего своего развития «переваривает» иностранные слова. Каждый день забываются одни слова, их заменяют другие. Это естественная «жизнь» языка, динамика развития культуры речи. Полностью отказаться от заимствований или же, наоборот, стремиться большинство русских слов заменять иностранными – способствовать «закупориванию» языка. Любой язык великолепен в своем лексическом и стилистическом разнообразии.
6. Все во власти конкретной ситуации. Уместность или неуместность употребления терминов и профессионализмов можно определить только в контексте. Единственное, что необходимо, – это объяснение любого непонятного термина или профессионализма.
7. Не вижу никаких положительных перспектив в употреблении ненормативной лексики в СМИ. Общество очень быстро ко всему привыкает, в конце концов настанет момент, когда ненормативность передовиц станет обычным делом. К распущенности привыкать нельзя. Слова-связки» быстро приедаются и становятся чем-то незаменимым. Культуру общества необходимо повышать, а не потворствовать низменным вкусам.
8. Многочисленные нарушения нормы чаще всего происходят из-за отсутствия времени на проверку журналистских материалов, особенно если речь идет о «горячих» оперативных новостях. Иногда не хватает элементарных знаний, но это вряд ли можно отнести к массовому явлению в крупнейших федеральных СМИ. Самая типичная недоработка – у журналистов нет «чувства языка». Это объясняется чаще всего малым опытом.
9. Интернет – это сфера прежде всего молодежного общения. По общению в сети можно проследить весь «срез» языковых пристрастий как школьников, так и людей более старшего возраста. Все интернетовские негативные процессы рано или поздно обнаруживаются в школьных сочинениях, в неграмотном составлении документов или иных текстов. Интернет – нерегулируемая сфера языкового применения, а потому несет в себе множество опасностей для и без того неустойчивой современной языковой культуры.
10. Самое главное – это осознания того, что русский язык – родной, что именно наш язык стоит на страже национального единства и связи поколений. Без понимания всего этого невозможно ощутить всю ответственность за свою языковую культуру как носителя языка.
Речь журналиста в эфире должна быть образцовой, меткой, яркой, грамотной!
Константин Гетманский
Специальный корреспондент журналов «Профиль» и «BusinessWeek Россия», редактор отдела новостей журнала «Профиль», журналист «Газеты РБ» (Главного портала Бурятии), блогер
1. Я думаю, что нельзя оценивать «состояние» современного русского языка. Оценка «состояния» подразумевает, что мы сравниваем нынешнее состояние с чем-то, например с каким-либо канонизированным вариантом русского языка, далеким от реальной языковой практики. Или, наоборот, с языком необразованной части населения. Я уверен, что русский язык такой, какой он есть.
2. Если считать одной из функций СМИ пропаганду грамотной речи, правила которой зафиксированы в словарях, то состояние ужасное. Однако я не считаю, что это главная функция СМИ. По-моему, СМИ должны разговаривать с аудиторией на понятном ей языке. Это и есть идеальный язык газеты, телевидения и радио. Аудитория должна понимать, что ей хотят сказать.
3. Могу говорить только за себя. В больших текстах стараюсь использовать больше актуальных сравнений, понятных читателям. И стараюсь избегать метафор. Хотя, наверное, для авторских текстов вроде колонки метафора может быть хорошим выразительным средством.
В языке публицистики, на мой взгляд, преобладают штампы, как новые, так и созданные в последнее время. И это оправдано, так как читатель должен быстро схватывать мысль автора публицистического произведения. Цель же художественной литературы – избегать штампов и пользоваться всем богатством языка. Но литература все же не для всех.
4. Поскольку в России 20 млн постоянных интернет-пользователей, язык Сети оказывает большое влияние на молодежь, живущую в больших городах. С дальнейшим проникновением Интернета в массы сетевой сленг, безусловно, будет влиять на язык, проникать в разговорную речь. Не удивлюсь, если многие сленговые слова вскоре будут признаны литературными. Жизнь заставит.
5. Они есть. И этим все сказано. Сам, если позволяет время и структура повествования, стараюсь использовать русский эквивалент. Например, вместо «бизнесмен» напишу «предприниматель».
6. Я считаю, что надо писать проще. Но это палка о двух концах. Если в сообщении, допустим, об авиакатастрофе не использовать профессионализмы, обидятся летчики и работники авиакомпаний, обвинят журналиста в непрофессионализме. Если же в этом сообщении будет слишком много авиационных терминов, может ничего не понять читатель. Термин хорош там, где он понятен читателю. Иногда его можно и расшифровать, если есть место.
7. Да, но только при рассказе о той или иной социальной группе. В таких заметках или интервью нельзя избежать использования жаргонизмов. Да и не надо. Они придают особый колорит материалу, позволяют лучше понять ту или иную группу людей. Отмечу, что сейчас слова, еще недавно бывшие жаргонными (например, жаргон айтишников), быстро перетекают в нормальный русский язык (идет стремительное развитие Интернета).
8. Допустимо, но только в цитировании. Если на митинге депутат А сказал слово на букву X, то не стоит в репортаже менять его слова.
9. Норма нарушается большинством людей, не имеющих филологического или близкого к этому образования. Так было, так будет.
Примеры от 12.05:
«Мы согласовали маршрут марша от фонтана на улице Осипенко, того места, которое организаторы мероприятий с самого начала определяли как место сбора»;
«Отсутствие легализации проституции способствует развитию коррупции в стране».
Про Боинг-737: «С учетом того, что в мире это самый распространенный вид авиации, можно предположить, сколько он налетал перед продажей в Россию».
«И пусть история с чайкой – происшествие, но не более того, тем, кто в тогда находился в самолете, было не до смеха».
10. Думаю, не стоит этого делать в глобальном плане. Никакая кампания не поможет. Каждый человек сам решает, где как ему говорить. Российские школы, на мой взгляд, дают основу хорошего языка. А его дальнейшее совершенствование – личное дело человека. И не забывайте, над журналистом есть редактор. Есть правила в редакциях, что можно использовать в текстах, а что – нельзя.
Сергей Гогин
Региональный корреспондент «Радио Свобода»
1. Я считаю, что русский язык в целом жив и здоров: у него такое мощное устойчивое основание, что поколебать его невозможно (впрочем, как и у любого другого развитого естественного языка). К тому же литературная норма, классические образцы литературной речи (книжная классика, архивные записи, в частности, теле- и радиоспектаклей, а теперь еще и аудиокниги) в качестве эталона есть, никуда не исчезли. Уверен, что язык как сложная самоорганизующаяся система способен справиться с точечными атаками или негативными воздействиями со стороны экстралингвистической реальности. Ибо новый элемент (или кластер элементов), попадая в систему языка, неизбежно ей подчиняется: он либо начинает функционировать по правилам системы, «обкатавшись» в языке, либо отторгается как инородное тело.
Актуальными в речи я считаю процессы, связанные с освоением и ассимиляцией профессиональной лексики, вошедшей в русский язык в постсоветское время из европейских языков в связи со сменой политического режима, включением России в мировую экономику и более активным ее участием в международной политике. Я имею в виду лексику, которая пришла вместе с реалиями демократии, рынком, экономикой, финансами (и всем шлейфом прикладных инфраструктурных знаний), компьютерными и информационными технологиями и, конечно же, Интернетом. Откат от демократии, который мы переживаем сегодня, неоавторитарные тенденции в политике уже сказываются на языке СМИ: лексика сегодняшних СМИ, лексика выступления политиков все больше соответствует риторике советских времен. На наших глазах рождается постсоветский новояз, имеющий отчетливую пропагандистскую национал-патриотическую окраску (яркий пример: «Россия встает с колен»). Общественное сознание, проявляющееся в языке, может быть всерьез и надолго заражено этими шаблонами, но язык в этом не виноват. Уйдет явление – уйдут в историю и языковые штампы подобного рода либо останутся в качестве иронических идиом с привкусом политической архаики (как «ответ Чемберлену», «лучший друг физкультурников», «не могу поступиться принципами»).
2. Идеальный язык СМИ – это литературный язык, адекватно обеспечивающий передачу и восприятие информации. Я считаю задачу подготовки дружелюбных для понимания текстов, не замутненных информационным шумом, основной в работе журналистов и редакторов. Разумеется, надо делать поправку на тип издания и его целевую аудиторию, которые определяют язык конкретного СМИ. Ведущие на MTV говорят на языке, на котором не говорят на канале «Культура», а язык «Comedy Club» на ТНТ сильно отличается от языка программы «Время» на «Первом канале», и все потому, что они рассчитаны на разную аудиторию. Язык – тоже понятие «нишевое»: жанровый стиль или даже стиль конкретного СМИ – это тоже языковые ниши.
Если же говорить об общественно-политических СМИ в целом, то, к сожалению, можно говорить о падении языковой культуры в них. Многие газеты из экономии отказались от института корректоров, из-за чего увеличилось число ошибок, грамматических и стилистических. Журналистами и редакторами зачастую становятся люди, недостаточно эрудированные и образованные, не получившие соответствующего профессионального образования, мальчики и девочки «с улицы», особенно в провинции. Убежден, что языковым чутьем, которое облегчает работу со словом и которое является незаменимым подспорьем при создании журналистских текстов, может обладать и нефилолог, но многие современные журналисты даже не слышат и не чувствуют, что в их текстах что-то «не то», что по-русски так не говорят. В частности, негативной тенденцией в журналистике я бы назвал ориентацию на канцелярский бюрократический стиль, характерный для выступлений чиновников и для официальных документов. Журналисты, по разным причинам некритически относящиеся к высказываниям представителей власти, копируют и их стиль, как правило, громоздкий, неудобоваримый, нелепый, и ленятся изложить то, что написано в официальных документах, «человеческим», а не канцелярским языком. Полагаю, что эта тенденция проникла в язык СМИ вместе с созданием так называемой «вертикали власти». Это язык «огосударствленной», псевдопатриотической журналистики, которая в данном виде отрицает себя и свое назначение в обществе.
3. На мой взгляд, выразительность языка журналистики определяется в первую очередь выразительностью фактов и – на следующем уровне – архитектурой выстроенных и сопоставленных фактов. Для таких построений годятся самые скупые языковые средства: сильный факт будет говорить сам за себя, а в обрамлении других фактов, возможно, начнет блистать, вопить, рыдать, воодушевлять…
Чем сложнее жанр, тем больше выразительных средств языка он допускает (и даже требует), тем больше он может черпать из стилистических и лексических пластов, соседствующих с литературным стилем (различают же, в отличие от газетного, журнальный стиль). В аналитической заметке можно употребить остроумное сравнение, помогающее понять некий сложный социологический или экономический феномен. В очерке о компьютерном гении герой может заговорить на сленге программистов, в другом очерке городские бомжи естественным образом будут использовать сниженную лексику. Хороший фельетон – это почти литература. Но конечная цель, как ни странно, у всех журналистских жанров одна: как можно лучше донести основную идею, облегчить понимание факта, явления, проблемы, тенденции; но сложные жанры для этого апеллируют не только к левому, «логическому» полушарию мозга, но и к правому, «интуитивному», «эмоциональному», именно за счет привлечения более изощренных языковых средств, «окрашенных» эмоциональным опытом. В этом смысле у электронных СМИ есть преимущество – они вдобавок могут эксплуатировать голосовую интонацию и эфирный (визуальный) образ журналиста или ведущего, усиливая воздействие произносимого текста.
Что касается меня, то я, например, люблю комбинировать фрагменты устойчивых выражений, чтобы получилась игра слов, а также использовать богатые словообразовательные возможности русского языка (один из моих последних неологизмов – «обынтернеченный», то есть человек, имеющий доступ к Интернету и, скорее всего, регулярно проводящий в нем время). Я также люблю использовать отсылки к так называемым прецедентным текстам, конструировать прецедентные высказывания. Гипертекстуальность статьи, несомненно, усиливает ее воздействие на читателя.

