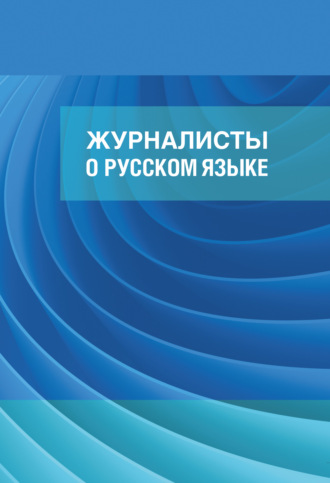 полная версия
полная версияЖурналисты о русском языке
Что же до явлений и процессов – наиболее актуален и интересен сегодня язык контркультуры. Но по этому поводу уже сломано так много копий, что не хочется множить работу оруженосцев, кто бы они ни были. Носители лексики контркультуры почти всегда неплохо владеют академическим русским языком. Точно так же, кстати, как владел им поэт Александр Башлачев, предпочитавший в обыденной речи пользоваться сленгом. Поэтому, когда очередному инквизитору от лингвистики приходит охота сломать еще парочку копий по поводу чистоты языка, мне обычно очень хочется сказать заветное: «Аффтар, выпей иаду».
2. Язык современных СМИ ровно такой, каким он должен быть. Шероховатый, не такой причесанный, как язык советских СМИ. И, право, таким он мне нравится больше. Сейчас модно рассуждать о недостатках языка современных СМИ. Дескать, в наше время тексты в газетах были более гладкими и литературными. Конечно, были, кто спорит? Легко сочинять гладкие тексты, неспешно описывая позавчерашнюю новость, при этом используя заранее согласованный с кем нужно набор слов, образов и лозунгов. Только это не имеет никакого отношения к журналистике, к информации. Когда я узнаю из новостной ленты о том, что произошло важное событие, и знаю, что текст должен уйти на верстку уже через три часа, мне не до лингвистических изысков. Важнее обзвонить экспертов, наблюдателей и собрать фактуру. На составление самого текста остается каких-нибудь тридцать минут в лучшем случае. Но я успеваю донести до читателя событие, и в этом моя, собственно говоря, миссия. Поэтому все разговоры об идеальном языке в СМИ – от лукавого. Тревожит то, что слишком невелика территория, которая обычно пролегает между этими разговорами и первыми упоминаниями о необходимости ввести цензуру. Нет идеального языка СМИ. И не должно быть. Как нет идеального преступления, идеального романа или идеальной любви. Увольте. Пусть язык СМИ сам решает, каким ему быть.
3. Не очень понятно, почему язык газеты и уже в скобках телевидение и радио. Собственно, это три вопроса. Выразительность газетного языка создается одними средствами, телевизионного – другими. О радийном языке и вовсе разговор особый – он имеет мало отношения к языку телевидения или газеты. И еще давайте вспомним журнальный язык. Там тоже отдельные средства. Мало того – газеты тоже не используют единые унифицированные инструменты создания выразительности. Нет общих правил для СМИ – язык меняется в зависимости от призмы конкретного, отдельно взятого издания, теле- или радиоканала. Выразительность газетного языка достигается за счет лаконичности, использования простых коротких предложений. Журнал дает более широкое поле для словесного маневра, здесь допустима игра, фразеологизмы, которые газетный текст лишь засоряют. Язык телевизионной новости по лаконичности похож на газетный.
4. Я думаю, что ровно такое же, как и язык любого иного СМИ. Язык сетевых СМИ почти ничем не отличается от газетного.
5. К англицизмам, о которых, очевидно, ведется речь, у меня отношение двоякое. Вовсе без них обойтись сложно, а то и невозможно. Просто потому, что в русском языке зачастую нет адекватных аналогов. Я, как экономический журналист, не совсем понимаю, какими немыслимыми сокращениями можно заменить такие термины, как EBITDA (прибыль до налогообложения, за вычетом амортизации и начисленных процентов по кредитам) или DCF (оценка компании методом дисконтирования денежных потоков). Правда, депутат Госдумы, а по совместительству президент ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, похоже, не сомневается в том, что экономические термины можно русифицировать. Иначе зачем было бы ему направлять письмо вице-премьеру Сергею Иванову с предложением создать эффективный механизм по унификации русскоязычной терминологии, описывающей финансовые инновации? «На сайтах и форумах в Интернете, в газетах и журналах, телевизионных программах появился целый пласт англизированных слов и понятий («роуд-шоу», «лид-менеджер», букраннер, IPO и пр.)», – посетовал парламентарий. Правда, рецепт унификации он не предложил. Что, в общем, разумно. Представь Аксаков свои варианты таких терминов, как «роуд-шоу» или IPO, и кто знает, что стало бы с его репутацией в профессиональной среде?
В то же время нелепо использовать англоязычные термины там, где действительно можно подобрать вполне благообразно звучащий русский аналог. Профессор Я. Н. Засурский любит на своих лекциях для иллюстрации этой мысли приводить термин «дигитаризация», который вполне можно заменить более прилично звучащей «оцифровкой».
6. Никак не оцениваю. Ни о каком появлении речи нет. В СМИ всегда было много терминов и профессионализмов. СМИ – явление социальное. Мы в газетах и журналах пишем не романы – мы, собственно, рассказываем о тех или иных явлениях социальной жизни. Если избегать профессионализмов, то очередной мой текст о шахтерах, которых завалило в забое, будет похож на роман сентиментальной гимназистки. Например, так: «Несчастные мужчины глубоко страдали в этой бездонной яме под грудами земли».
7. Использую для украшения речи.
8. Едва ли допустимо. Хотя «Коммерсант» недавно доказал обратное, вложив в уста одного из спикеров соленое словцо. Тем не менее в СМИ лучше обходиться без ненормативной лексики – в конце-концов, газеты читаем не только мы, но и наши дети.
9. Я не замечаю таких уж многочисленных нарушений и уж тем более не стану приводить примеры ошибок. Повторяю, языковая норма – такая же нелепая категория, как цензура. Язык сам решает, что считать нормой, а что – нет.
10. Не надо ее повышать. Оставьте журналистов в покое – им и так забот хватает. Человек, который захочет повысить мою, к примеру, языковую культуру, рискует натолкнуться на довольно сухой прием.
Виталий Челышев
С 2008 и по настоящее время – секретарь Союза журналистов России, заместитель главного редактораи член редколлегии журнала «Журналист», главный редактор сайта «Виртуальный ЖУРНАЛИСТ»
1. Русский язык жив именно потому, что находится в состоянии непрерывного развития. С распадом СССР его положение в мире временно ухудшилось, ибо (за редкими и объяснимыми исключениями) язык метрополии было престижно и важно знать в любой из союзных республик. Его знание давало шанс на получение высококачественного образования в столичных вузах, его знание было необходимым условием для любой карьеры (научной, производственной, партийной и т. п.), его знание давало шанс деятелям искусства из регионов быть услышанными (и прочитанными) не только в Советском Союзе, не только в Восточной Европе, где язык изучался, но и во всём мире. Ибо чаще всего переводы на языки других народов осуществлялись с русского. Так возникла слава Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова и многих других авторов, чьё творчество стало достоянием мировой культуры.
Некоторые национальные языки после распада Союза, безусловно, ожили и перестали быть «консервами» ушедшей в прошлое культуры (так было, например, с украинским языком). Но русский язык в новых независимых государствах потерял не только статус государственного языка, но и некую рафинированность. Его хуже знает народ, совсем плохо знает молодёжь, родившаяся после 1991 года, его хуже знает интеллигенция, ибо постоянное межреспубликанское живое общение ушло в прошлое. Увы, но снижение количества (и качества) переводов с языков наших бывших соседей по стране и Восточному блоку не только снизило значение русского языка как ретранслятора разных культур, но и снизило культурный уровень российской аудитории. Исчезли переводы польских драматургов (явление!), современных украинских поэтов и прозаического авангарда (явление, например Оксана Здобужко). Чехия, Словакия, Болгария и далее по списку – теперь вновь terra incognita, что обеднило возможности как этих культур, так и нашей.
В Западной Европе, на Востоке, в различных курортных и деловых зонах уже поднялся интерес к изучению русского языка, поскольку такое знание сулит успех в бизнесе. Тенденция эта будет только нарастать. Но для взаимообогащения культур необходимо время.
Собственно русский язык в России развивается примерно так же, как это происходило раньше. Язык вбирает в себя море иностранных слов и фразеологизмов, которые имеют либо политическую, либо деловую актуальность. При этом часть слов уходит в тень вместе с политической кометой и её хвостом, оставаясь в сознании народа как освоенный лингвистический пласт (вспомните консенсус). Иные слова входят в русский язык, становясь естественной его частью. Например, чем вы замените иностранное слово «сайт»? Неужели «веб-ресурсом»? Другие слова из новой области обкатываются в языке, как галька в море, превращаясь в новый сленг. Скажем, существует много виртуальных словарей компьютерного сленга, в котором (сленге) иностранные слова приобретают русские очертания, но звуки и смыслы в них разделены. В этом случае повторяется история офеней, когда «новый язык» предназначен для общения «своих со своими».
Основная тенденция – та же, что и всегда. Язык наш безмерно богат, и мы, в отличие, скажем, от французов, щедро и безбоязненно заказываем официанту всё, что есть в языковом меню, а едим лишь то, что способны усвоить и что приходится нам по вкусу. Попытка из квасного патриотизма академически (сверху) заменять плохие иностранные слова хорошими нашими всегда приводит к конфузу. Калоши или мокроступы? Брокер или сдельщик? И если вы скажете, что работаете сдельщиком на рынке ценных бумаг, будет ли это то же самое, что брокер на бирже? И что это за билингва – «кредитное плечо»?
Наиболее актуальные проблемы русского языка сегодня проблемами, собственно, не являются, ибо будут переварены языком и народом так же, как это случалось и прежде.
Известно, что ряд лабораторий начиная с 80-х годов прошлого века вбрасывали в язык новые слова, пытаясь с помощью псевдоидеом актуализировать в обществе те или иные тенденции. Успех был переменным. Нельзя сказать, чтобы это реально повлияло на язык общества и само общество.
Другая попытка «технического» вмешательства в язык (точнее – попытка математического обуздания языка) была предпринята группой «Ваал» (познакомиться с проектом и даже скачать первичные программы можно на сайте www.vaal.ru). Начиналось с игры, когда изначально определялись математические матрицы стилистики и стиля разных авторов (излагаю упрощённо, чтобы коротко). А затем стандартная речь, скажем президента страны, могла быть обработана в стилистике Толстого, Муссолини, Ленина, Сталина, кого угодно. Речь шла о воздействии на потребителя информации. Насколько мне известно, сегодня проект похож на айсберг (на поверхности – названный сайт, а что в глубине – не знаю).
Большое влияние на прагматичное использование языка оказал Алексей Ситников (Ситников Алексей Петрович – президент консалтинговой группы «ИМИДЖ-Контакт» (ICCG), доктор психологических наук, профессор. Окончил факультет естественных наук Новосибирского государственного университета. В 80-х гг. был научным сотрудником Сибирского отделения Академии наук (специализация в области нейропсихологии и психофизиологии), затем – научным сотрудником социологической лаборатории Новосибирского института социального управления и политологии. В 1989 г. привез и внедрил в СССР технологии эриксонианского гипноза и нейролингвистического программирования (НЛП). В период с 1995 по 2006 гг. – профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, МГИМО МИД РФ, ГУУ. Гостевой профессор зарубежных университетов (США, Франция). Заведующий кафедрой политического консалтинга и избирательных технологий ГУ ВШЭ. Директор Института коммуникационного менеджмента ГУ ВШЭ. В 1989 году создал консалтинговую группу «ИМИДЖ-Контакт». С 1989 г. под его руководством проведено более 400 избирательных кампаний, 200 тренинговых и 300 консалтинговых проектов. Партнер агентства «Р.И.М. Портер Новелли». Лауреат Национальной премии «Персона года», Всемирной премии The World Young Business Achiever, Национальной премии в области PR «Серебряный лучник». Президент Национальной академии социальных технологий. Член высшего экспертного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью. Автор и соавтор нескольких десятков научных публикаций по психологии, акмеологии, политологии, математике, физиологии, в том числе 11 монографий.). Специалисты знают его прекрасно, народу он известен гораздо менее всяких Павловских и Делягиных, хотя реальные и результативные политтехнологические схемы (включая языковые, включая технологии перераспределённого интеллекта, включая теорию прагматических коммуникаций) рождались именно в его голове. Интересующиеся могут зайти на его сайт http://www.sitnikov.ru/ и познакомиться с автором и его работами подробнее. Впрочем, не думаю, чтобы сайт (и даже Алексей Петрович лично) вскрыли ответы на все вопросы, которые могут возникнуть. И не вскроют, пожалуй.
Ещё одна проблема (которая, повторяю, не проблема) – новая функция языка как разделителя поколений. Это было всегда, но инструменты работали разные. Революционный языковый переход совершило поколение Пушкина. Но позже функции разделителя выполняли: общественно-политические журналы, музыка, живопись, революция, контрреволюция, ритм и пр. Чтобы долго не объяснять, скажу, что императорский духовой оркестр в начале прошлого века играл вальс для танцующей публики в темпе, который в 1,5 – 2 раза медленнее, чем темп нынешних похоронных маршей. Музыка и ритм всегда старались разделить молодость и старость (и это срабатывало успешно). Но сегодня разделение происходит на уровне высоких технологий, к которым уставшая, ленивая, запуганная гуманитарная старость почти всегда боится приблизиться. И язык этих технологий, став частью языка общения молодёжи, выполняет сегодня функцию, которую музыка выполнить не в состоянии (ибо мир полон пожилых, престарелых и просто старых рокеров, готовых воспринимать любой ритм).
Язык тем и хорош, что переживает и своих хулителей, и своих защитников, и социальные системы с их новоязами и аббревиатурами, понятными лишь на очень коротком историческом отрезке. Язык хорош бесстрашием жизни, и как только (в целях академической неприкосновенности или тщеславной политической придурковатости) его пытаются превратить в консервы с этикеткой «Язык заливной. Беречь от чуждых звуков. Срок годности – вечность» – тут-то наш великий и могучий станет большим и пахучим: сиречь протухнет.
2. Ну, так же нельзя! Смотря какое СМИ! Научные СМИ сегодня нельзя писать стихами (свой Михайла Ломоносов сыщется, а вот для учёного такой текст неэкономен). Сегодня, если СМИ успешно, оно обеспечивает чтением конкретную аудиторию. И оно будет говорить на том языке, который привычен для этой аудитории. Беда языка современных СМИ одна – непрофессионализм пишущих. Употребляются слова, которых авторы (а за ними – и многие читатели) не знают, не понимают либо понимают превратно, искаженно.
Стиль разных газет, конечно же, разный. Ибо каждая хочет замуж за своего читателя. Бульварная газета не позволит себе выйти без заголовочной интриги, за которой часто – враньё. Причём чаще враньё, которое раскрывается через абзац. «Учёные НИИ цветных металлов рубили головы на овощном складе». Оказывается, группа учёных решила просто подзаработать в выходные рубкой голов капусты под закваску. Хорошо это или плохо – не знаю. Для одной газеты – возможно. А для другой – дурной тон, отпугивающий серьёзного читателя. Впрочем, «бульвар» иногда позволяет себе такую циничную мерзость, которую бумага выносить не должна. Глумление над смертью, рассказ о гнусном преступлении в стиле дворового «прикола»… В первую очередь это свидетельствует о непрофессионализме пишущих и издающих.
Язык газеты – слишком общая и большая тема, чтобы я мог осветить её в коротком ответе. Скажу лишь о подходе. Первое – необходима языковая цельность всего издания, ориентированного на определённую аудиторию. Второе – языковая цельность разделов (иногда – полос, иногда – рубрик). И третье – «цельность разрушения цельности». Заумно, но короче не скажу. Тексты не должны быть написаны как бы одной рукой. Разность авторских стилей (как и взглядов на одну проблему) – часть успеха, в том числе и языкового. На разрушение стиля должны оказывать влияние письма. Они из другого мира (если редакция – Кремль, то письма – из-за кремлёвской стены, где не обязаны говорить и думать так же, как в Кремле). Человек редакции должен (обязан) соблюдать языковые нормы, если другого не требует жанр. А человек извне – НЕ ОБЯЗАН! И не стоит приводить его к своему знаменателю. Вы должны писать: «на Украине», «в Башкирии», «в Молдавии», «в Туве», «в Алма-Ате». Но человек, живущий там, напишет «в Украине», «в Башкортостане», «в Молдове», «в Тыве», «в Алматы», и их тексты НЕ СМЕЙТЕ рихтовать вашими деревянными молотками. Эти письма разрушат ваш языковый порядок, но наведут при этом порядок гораздо более важный – уважительного отношения к слову, написанному не тобой.
О языке радио. В 1991 году, когда молодые кадры захватывали центральные и региональные радиостанции, весёлая языковая пурга заполонила радиоэфир. Тогда на сильно непрофессиональной эфирной свалке рождались и вырастали как прекрасные цветы, так и сорняки. Прошло время. Эфирная революция состарилась, языковые находки превратились в штампы, раздражающие и свидетельствующие о старении говорящих. И все эти, прежде новые, обобщающие образы и выражения (типа «Вася Пупкин», или «какой-нибудь Мухосранск», или «пердимонокль») отдают маразмом стареющих (когда-то новых) профи, не знающих, на каком именно языке говорит общество за пределами студии.
Язык ТВ, с вашего позволения, анализировать не буду. Это такой коктейль, в котором есть всё: и высокое, и низкое, и пошлое, и беспримерно глупое, и мудрое. Можно анализировать отдельную передачу, но никак не ТВ в целом. Это всё равно как анализировать роль электричества.
3. На ТВ главное – картинка. Язык не должен забить картинку, он должен помочь понять, что происходит за границами картинки. Он может поэтичным (очень ёмким и кратким) образом из картинки сделать картину мира. А в другом случае поэтический образ засвидетельствует глупость и бездарность авторов сюжета. Слишком большая тема.
Газеты живут в век ТВ и Интернета. А потому иллюстрация должна заменить «движущуюся картинку», а броские заголовки, лиды, выносы и пр. – звук. В печатных СМИ и Интернете язык должен соответствовать жанру. Только талант перебивает структуру жанра, ибо сам является жанром – трудно определимым и неповторимым. Скажем, в восьми случаях из десяти тексты Сергея Мостовщикова (провалившего, между прочим, в качестве руководителя прорву новых изданий) чрезвычайно талантливы, а в двух случаях из этих восьми – гениальны. Чтобы использовать образ, нужно чётко ощущать объём твоей работы, её ритм, её способность вызвать в читателе внутренний звук (барабанный гул, или фортепианный аккорд, или вибрацию симфонии). В журналистике возможно всё, если это всё – не лишнее, не маскарадный костюм, не уводит от темы, а забрасывает тебя вовнутрь этой темы, превращая в одного из героев реального действа.
В таком случае публицистика может и не содержать «морали», ибо она сама будет моралью, которая обнимет читателя и не отпустит его уже (хотя бы до конца чтения).
4. Безусловно. В моих обзорах Интернета («Мухи в паутине») при необходимости я говорю на компьютерном сленге, хотя считаю себя просто натасканным ламером, который разбирается только в одном – в поиске. Если в сети хоть кто-то хоть когда-то запрашивал нужную мне информацию (или вбрасывал её), она будет отыскана. Роль жаргона – подчинённая. Она должна облегчить моему КОНКРЕТНОМУ читателю жизнь в моём тексте.
5. Нормально. Я уже говорил об этом. Заимствования не могут навредить (как не навредят фарфоровые зубы, поставленные вместо удалённых; другое дело, когда фарфоровым зубом пытаются заменить живой, здоровый зуб – за такой зуб нужно драться).
6. Их присутствие в специальных изданиях – вообще не вопрос. А вот в общественно-политических… В журнале «Журналист» мы довольно часто сталкиваемся с этой проблемой. И лично я поступаю так. Термины и профессионализмы, использованные авторами, оставляю, но всегда нахожу и даю в сноске варианты их расшифровки. Таким образом, читатель не чувствует себя идиотом на пиру академиков, а одновременно пополняет свой словарный запас.
7. Даже не знаю, что и сказать. Никогда не чувствовал ситуации, в которой мат был бы мне необходим (по логике языка и ситуации) для письма. Необходим – то есть неизбежен. Это – как и поэтический образ. Это не может быть гримом, накладными ресницами, бородой, усами. Это должно расти само. Считаю, что СМИ, ориентированные на массового читателя, должны избегать того, что может какую-то часть читателей (или всех) оскорбить. Когда в старые времена две крестьянки ссорились и одна из них показывала другой из-за своего забора кукиш или посылала проклятие, то, по правилам языческого поведения, другая, чтобы проклятие её не коснулось, задирала юбку, наклонялась и показывала противнице голый зад. Но это происходило в общении двух людей. На сельском сходе такое обычно не проделывалось. Другое дело – блог. Там человек сидит в своём виртуальном домике, и к нему заходят лишь те, кто зайти хочет. Скажем, один из гениев Рунета (Антон Носик) пользуется ником dolboeb. Ну, он так выбрал. Мне это не нравится. Но я туда захожу не за этим, а за эксклюзивной информацией об очередной попытке властей оседлать мустанга по кличке Интернет. В блогах это возможно. А в СМИ это пижонство. Если СМИ изначально провозглашает это своим языком – тогда другое дело. Тогда его и будут покупать те, кому мата не хватает в живой жизни. Мат может явиться и в прямом эфире. Но как исключение. Как реакция на такую мерзость и подлость, оглашённую здесь же, которую и сравнить с матом нельзя. Но даже тогда, когда случился такой выплеск эмоций, нужно извиниться перед зрителями и слушателями, нужно уважать их право жить в здоровой речевой среде.
8. Глупость, неграмотность, отсутствие чувства языка. Типичные примеры – их много. Зайдите на наш сайт и посмотрите материалы Аз Букина (это Никита Васильевич Вайнонен) под рубрикой «Покажите язык» (практически в каждом номере журнала они есть). К тому, о чём пишет Вайнонен, добавлю несколько типичных грубых нарушений. Первое – путаница в падежах и числах. Иногда свидетельствует о том, что автор просто не перечитал то, что написал. Но чаще – мрак. Позвольте не приводить примеры, я очень ограничен во времени. Второе – использование частиц «не» и «ни». Даже в прессе, претендующей на высокое качество, эти ошибки повсеместны. О сетевом письме и не говорю. Типичный пример – одна из песен, исполнявшихся Пугачёвой. «Жизнь невозможно повернуть назад, и время НЕ на миг не остановишь!». Она так старательно кричала слово «НЕ!», будто вела намеренную борьбу с грамматикой, языком, и со мной лично. Мне нравилась эта певица, но тут меня почти физически начинало тошнить.
9. Влияет. От вопроса: «какие издания» – будет зависеть ответ: «как влияет». На многих форумах появился стиль намеренного искажения, типа «ЖЖОТ!», «АФФТАР, ВЫПЕЙ ЙАДУ» и т. п. Теперь и в обычных письмах, а не в форумной дискуссии вместо «PS» часто пишут «ЗЫ», вместо слов «по моему личному мнению» ставят короткое ИМХО. Средних лет интеллигентная дама с двумя высшими образованиями, отнюдь не фанатка Интернета, увидев, что котёнок карабкается по шёлковой скатерти на стол, говорит своему сыну: «Убери нах этого котёнка на кухню!» – и тут же испуганно прикладывает ладонь к губам. Это тоже один из сетевых штампов. Сие не хорошо и не плохо. Из всего сленга лабухов (музыкантов), заполонившего язык в 60-70-е годы прошлого века, остались только: обращение «чувак» (вообще-то это баран) и глагол «кирять» (пить – чаще относилось к алкоголю). Всё остальное (сурлять, бирлять, верзать, верзоха, до-ре-ми-до-ре-до – мелодия, обозначавшее посылание туда же, куда мама просила убрать котёнка, и др.) ушло в прошлое. А прошлого не существует.
10. Повышать качество среднего образования. Эпоха реформ – не лучшее время для этого, но нам посчастливилось жить сегодня, а не в другие времена (они всегда и везде хуже настоящих, кто бы ни лил о них ностальгических слёз). Без хорошего среднего образования не будет и хорошего высшего. Журналист должен читать не только классическую, но и современную литературу. Его не должны пугать ни научные журналы, ни издания по искусству. С врачом он должен говорить как врач, с инженером – как инженер, с путешественником – как путешественник и т. д. Он должен знать слова и смыслы, лежащие в базисе всемирной культуры. Этот багаж не бывает лишним, но он всегда – личный. Весь этот груз знаний можно нести сквозь жизнь даже тогда, когда использован он будет всего лишь раз в этой жизни (или ни разу вообще). Груз знаний даёт устойчивость ногам, на которых журналист бежит за информацией. Другого способа нет. Любые попытки вводить нормы силовым путём обернутся для языка и общества сначала косноязычием, а потом – немотой.

