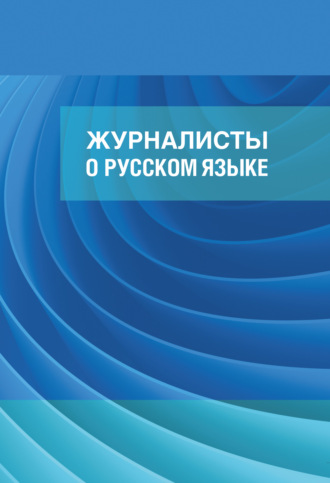 полная версия
полная версияЖурналисты о русском языке
9. Язык интернет-изданий активно проникает в нашу жизнь. Более всего ощутимо влияние на письменную речь. Например, интернет-привычка ставить «смайлики» ужасно мешает, возникает желание после шутки поставить улыбочку – как код того, что здесь шутка. Если говорить в целом о языке интернет-изданий, он немногим отличается от языка печатных СМИ, часто сами эти издания – электронные дублеры бумажных газет и журналов. Большее влияние оказывают всевозможные блоги и форумы, формирующие привычку к сокращению, «падонской лексике» и тем же «смайликам».
10. Я не уверена, что речевая культура общества в целом напрямую зависит от речевой культуры журналистов. Мы можем говорить об образованной части общества – людях с высшим образованием, ведущих активную интеллектуальную жизнь, и это один вопрос. Они читают журналы и газеты, вообще много читают, и на них пресса влияет сильно. Однако непонятно, что делать с массой – людьми, которые с удовольствием читают желтую прессу и смотрят какую-нибудь «Криминальную хронику», получая удовольствие от сцен насилия и историй убийств. Таким ярким цветом все это расцвело оттого, что данные истории/газеты/передачи действительно популярны, и, наверное, здесь есть что-то неправильное в сознании, психологии людей. От изменения внутреннего состояния личности изменятся и интересы, и речевая культура также, но тут мы натыкаемся на более сложные – социальные и политические – проблемы. Единственное, что можно предложить, – хорошая школа, хорошее образование. Но тут – опять те же проблемы. Нужно обеспечение школ, желание преподавателей работать с ребятами, быть своеобразными учителями жизни, эстетики, учить чувствовать, учить самоуважению и т. п. Привитые в детстве привычки, умение выразить мысль, умение чувствовать литературу, чувствовать красоту слова – вот что повысит речевую культуру общества.
Повысить речевую культуру журналистов поможет хорошая корректура и – опять же – образование: учить работать с текстом, давать больше практических, а не теоретических заданий, творческие практикумы по написанию статей, где на каждое следующее занятие студенты пишут статью. Теория все равно забывается (хотя она также необходима) – практика и неоценимый опыт преподавателей – вот чем нужно делиться, как мне кажется.
Константин Филатов
Корреспондент деловой газеты «ВЗГЛЯД», корреспондент «Вести 22»
1. Мне кажется, что современный язык стал намного примитивнее. Кроме большого количества заимствований из европейских языков – в первую очередь английского, упрощается повседневный язык, в нем появляется большое количество жаргонизмов и завуалированных нецензурных выражений. Особенно ярко это можно заметить по языку, который использует при общении молодежь, а ей всевозможные «отстои», «жесть» и «круть» подкидывают с экранов телевизоров и кинотеатров.
2. Язык современных СМИ очень редко бывает адекватным – и в первую очередь потому, что свободная журналистика практически исчезла и пишущие излагают точку зрения инвестора, автоматически боясь навлечь на себя гнев государства. Все это вкупе сковывает журналиста, и он пишет по матрице – что можно, что нельзя. Посему и язык изрядно скован и кастрирован. Единого идеального языка быть не может – издания разные, и деловая пресса не может изъясняться теми же словами, терминами, что и воскресные бульварные приложения. У каждого вида и жанра СМИ должна быть своя речевая специфика – тогда потребитель сможет сам выбрать, что ему больше подходит.
3. Выразительность – любыми, от заголовков «Москва продана на корню» (если это газета), джингла вроде «Кино без дубля» (произносится лениво-угрожающе-без-пауз-между-словами) до видеоряда вроде программы «Максимум» на НТВ. В результате в погоне за рейтингом во все органы восприятия окружающего мира из СМИ льются все более примитивные тексты и картинки. Зритель-читатель, соответственно, быдлеет, и ему начинает казаться, что это норма. А немногие интеллигентные персоны в прессе и на телевидении, которые приходят в ужас от происходящего, автоматически причисляются к снобам. Чем отличается язык… это вопрос к литературоведам. Но в первую очередь тем, что в художественной литературе есть поле для вымысла и он не несет информационного посыла. Журналист не пишет роман – он должен в рамках статьи своего издания максимально донести до читателя информацию, представив по возможности все точки зрения на данный вопрос.
4. Думаю, никакого. Гораздо сильнее на речевую культуру влияют речевые обороты популярных блоггеров, которых в настоящий момент модно читать. Интернет-издания все-таки не могут себе позволить некоторых вещей – того же мата, например, а у блоггера в этом отношении руки не связаны.
5. Двоякое: иногда заимствование очень емко, и намного проще произнести одно иноязычное слово, чем длинное русское предложение, обозначающее то же самое. С другой стороны, многие заимствованиями прикрываются, как пеленой модного жаргона, скрывающего их пустоту и непрофессионализм.
6. Иногда бывает, что журналист забывает, что пишет для людей, а не для узкого круга специалистов, и тогда в его вполне профессиональной статье многие не понимают ни слова (особенно этим грешат экономика и бизнес). Нужно помнить, что пишем мы для людей, значит, текст должен быть понятным. Как пример – Лившиц, который объяснял, что такое Стабфонд, на десяти тарелках борща.
7. Использую, но не в рабочих текстах. Если уж все-таки употребляю, то обязательно кавычу. Отдельной роли не отвожу – много чести.
8. В СМИ – нет. Почему? Потому, что это стремительно понижает общую культуру, и без того невысокую. Поясняю: многие с ужасом слышат сообщения «парень застрелил 20 человек в своей школе, подозревают, что это не без влияния видеоигр». Точно, не без влияния: он 20 раз прошел 20 разных игрушек, где ему нужно было убивать, под ногами хлюпала кровь, в ушах звучали стоны – и он понемногу привык к ощущению того, что это нормально, что он прав, поскольку он идет к победе сквозь полчища всякой мрази. Главное – стрелять, бить без пощады, тогда дойдешь до финала. То же относится и к ненормативной лексике – если вы спокойно читаете мат со страниц изданий, то почему вы поднимаете брови, когда вас «обложил» ваш пятилетний сын? Особенно раздражает, когда режиссер новой картины, где много мата, говорит журналистам «Бросьте, что за ханжество, ведь дети все это и на улице могут услышать», – такое ощущение, что это дает право подливать масла в огонь.
9. Нарушений много потому, что это не стыдно. Раньше было стыдно быть безграмотным, сейчас – нет. Примеры приводить неохота, простите – откройте «МК» или «КП» – букет найдете.
10. Журналисты и общество тут тесно связаны. Если бы обществу было не все равно, что читать, если бы уровень журналистики не опускался так стремительно, что даже «Коммерсант» и «РБК» ищут себе работников через сайты «ищу работу», если бы в словосочетании «свободная пресса» был хоть эфемерный смысл… то тогда журналистов за систематические нарушения речевой культуры надо было бы гнать из профессии (а с ними – и корректоров, и выпускающих, которые это пропустили и поставили в полосу). А общество… вот не знаю, как объяснить людям, что существуют вещи, которые стыдно делать, – со школы, может, а лучше еще – дома? У нас даже Президент постоянно говорит «обеспечЕние» – выводы делать не буду, неблагодарное это занятие.
Александр Хабаров
Журналист телеканала «Россия», один из авторов программы «Специальный корреспондент», с 2009 года – руководитель лондонского бюро «Вестей»; с 2004 г. – член Академии российского телевидения; имеет награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (11 октября 1995 года), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (8 декабря 2000 года), Орден Дружбы (27 июня 2007 года)
1. Все изменения, которые происходят в обществе, отражаются на языке. Одним из результатов изменений в политике и экономике, развития новых технологий стало появление в русском языке огромного количества заимствованных слов: менеджмент, имиджмейкер, девелопер и т. д. На мой взгляд, это один из актуальных процессов, происходящих в русской речи.
2. В силу того, что современных СМИ стало физически больше, появились интернет-издания, огромными тиражами выпускается так называемая «желтая пресса», качество языка СМИ заметно снизилось. Идеальным, как мне кажется, должен оставаться литературный язык с минимальным количеством заимствований и жаргона.
3. Краткость и точность формулировок, образные выражения, метафоры.
Публицистика менее описательна: язык более жесткий, если так можно выразиться.
4. На мой взгляд, негативное.
5. Есть слова, у которых нет синонимов в русском языке. Во всех остальных случаях надо пользоваться родным словом. Например: не бизнесмен, а предприниматель.
6. Как правило, это связано со специализацией отдельных изданий. Например, газета «Ведомости», ориентированная на экономические новости, без них обойтись не может.
7. Нет.
8. Нет. Ненормативная лексика необходимостью не является.
9. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций – культурную.
В 60-80-е годы XX века литературные произведения и радиопередачи действительно могли служить образцом нормативного употребления. На сегодняшний день ситуация изменилась. Не всякое литературное произведение и не всякая передача по радио и телевидению могут служить в качестве образца нормативного употребления языка. Сфера строгого следования нормам языка значительно сузилась, лишь некоторые передачи и периодические издания могут быть использованы как примеры литературно-нормированной речи.
Чрезвычайно распространенная в разговорной речи ошибка, перенесенная и в эфир: слово «пара» применимо лишь к тем предметам, которые существуют в парном виде: «пара глаз», «пара ног», «пара ботинок», но ни в коем случае не «пару лет», «пару человек» и пр. К этому же ряду можно отнести и нередко встречающееся неверное применение иноязычных слов, таких как «консенсус», «электорат».
Газеты, радио, телевидение сыплют «пиарами», «траншами», реклама глушит «чумовыми джок-дайлами», «оффшорами» и «таймшерами». Многие слова, как, например, «пиар» (оно же «паблик рилейшнз»), внятно не может объяснить ни один российский обыватель. Сообщая об отключении света, энергетики говорят о «лимитировании подачи электроэнергии», рассуждая о банковских операциях, оперируют словами «менеджмент» и «консалтинг» вместо «управления» и «консультирования».
10. В настоящее время существует несколько направлений государственной языковой политики. Собственно государственная политика по отношению к языку выражается в принятии законов о языке, создании специальных структур, занимающихся поддержкой и защитой языка от разрушительных процессов, финансировании целевых программ по русскому языку. Языковая политика, которую проводят ученые-лингвисты, тоже является государственной в том смысле, что государство финансирует и поддерживает научно-исследовательские учреждения, решающие важные государственные задачи.
25 октября 1991 г. был принят «Закон о языках народов Российской Федерации», в котором русский язык объявлен государственным языком России (в 1998 г. в закон были внесены изменения и дополнения).
В Государственной думе был подготовлен и недавно обсужден проект закона «О русском языке как государственном языке РФ», в котором предусмотрена даже уголовная ответственность за грубые нарушения норм языка.
Александр Хабургаев
Политический обозреватель «Радио России» и «Маяка», ведущий радио «Маяк»
1. Язык живет и изменяется, как любая живая форма. К тому же отражает состояние общества, и культурное, и классовое, и какое хотите еще, независимо от того, как мы с вами все это оцениваем. Хочу только напомнить, что, например, в 20-30 годы было не меньше лексических маразмов и откровенного идиотизма, чем теперь. С возрастом становлюсь все более ярым врагом ненормативной лексики. Актуальными считаю все процессы в русской речи, иначе бы они не происходили.
2. Нормативным, эталонно чистым, грамматически и орфоэпически правильным. К сожалению, компьютерный редактор не может заменить живого корректора. Допускаю профессиональный сленг в специализированных изданиях (спортивных, экономических и т. д.). Категорически не приемлю пошлость и дешевую скабрезность бульварной прессы. То, что «пипл» это все «хавает», – не оправдание. Если издание не пишет хорошим языком, а канал не говорит правильно – значит, они не уважают тех, для кого трудятся.
3. Язык, на мой взгляд, ничем не должен отличаться. Почитайте даже научные труды середины-конца XIX в. – это же язык Тургенева, Лескова, Чехова! А какие образы! У профессора Гесдерфера в огромном ботаническом талмуде (который читается как роман!) глава о комнатном растении «монстере» начинается так: «Нужно обладать огромным терпением, иметь достаточно свободного времени и проявить дьявольскую изощренность, чтобы погубить это растение!». Современный автор мусолил бы эту информацию три долгих абзаца (монстера, как и все представители семейства ароидных, имеет высокий порог устойчивости к заболеваниям патогенной микрофлоры, повышенную резистентность к токсинам… и т. д.), а мы бы так и не поняли, что он хотел сказать. А вот формой и сюжетным построением – да, публицистика и художественная литература отличаются. Разные жанры – разные законы. Хотя… Иногда ходят очень близко – рука об руку! Но это очень долгий разговор.
4. Редко. Только если очень требует образ. Раньше много ругался матом. С возрастом – почти перестал. Мат – это однозначно язык БЕСОВ, он формирует внутреннюю эстетику человека (помните, что «сначала было слово»?). За свои 47 лет я ни разу не встретил ни одного по-настоящему благородного человека, который бы матерился как извозчик. Хотя тут есть и одна тонкость. Человеку с ограниченным кругозором, мало читающему и не чувствующему языка, очень тяжело строить фразы. Он не может этого делать быстро и легко. А чтобы протянуть время, использует слова паразиты или мат. То есть, в тот момент, когда он произносит «как говорится» или «на х…й бля», – он просто думает, как достроить фразу, нервничая, что его не очень хорошо понимают. Классический пример – Виктор Степаныч Черномырдин, который без мата не может связать двух слов. Кстати, очень точный глагол «связать»! Что касается роли… Я не ханжа. Ни «Москва-Петушки» Ерофеева, ни «Николай Николаевич» Алешковского без мата немыслимы. Но там с этим НЕ ПЕРЕБОРЩИЛИ!
5. Нормально – если в меру, и что они обозначают, понятно не только автору.
6. Очень долгий разговор – много спорного.
7. Есть две газеты и журнал, который выпускает МИНЮСТ для воспитанников пеницитарных (кажется, так это слово пишется?) заведений. Вот там – сколько угодно. Можно еще и в изданиях МВД – там теперь, те же самые люди, с абсолютно такой же ментальностью и тем же «базаром». Во всех других СМИ – категорически против! Это то, чем угробил себя Тимур Шаов. Талантливый парень, и песни хорошие, остроумные… Только как ляпнет «хайло», «хавать», «канать» или «мурло» – и все! Планка тут же летит в болото обычной пошлости. Кстати, не он один. Материться в этом жанре талантливо и к месту может только человек с очень высокой (я бы добавил – на генетическом уровне) внутренней культурой! Это могли очаровательно делать академик Н. И. Толстой или актриса Фаина Раневская.
8. Низким уровнем культуры, конъюктурным цинизмом (что, в принципе, одно и то же) и классовым составом этих самых журналистов. Даже Президент говорит: обеспечЕние, укрАинский, одновремЕнно и т. д. А ведь мог бы завести корректора, который бы правил его «базар». Хотя необходимы и компромиссы. Например, по всем нормам надо говорить «подростковый», но ведь вся страна ставит ударение по-другому – «подростковый»! Можно и закрепить такую новую форму.
9. ГУБИТЕЛЬНО, как любой массовый НОВОЯЗ. Кстати, знаете, какой краеугольный камень, на котором держится любая тоталитарная секта? Это подмена понятий – тот же новояз. Не человек, а – Ань! Не душа, а – Унь. Не мир, а – Монь. Член братства (якобы инициированный) произносит фразу: «Унь Аня принадлежит Моню!» – и тут же чувствует свое сладкое превосходство над вами (ничего не понимающим), ему кажется, что он один – носитель изотерической мудрости. Чем изначально ограниченнее такой сектант – тем сильнее подобный «духовный» оргазм. В этом отношении «админы, юзающие что-то там…» мало чем отличаются от вышесказанного.
10. НИКАК! Это так же бесполезно, как бороться с гомосексуализмом, хамством, гашишекурением, атеизмом, коррупцией и прочей мерзостью, за которыми четко виднеются рога врага рода человеческого. Она сама изменяется, в зависимости от общих процессов, происходящих в обществе. А куда и как они пойдут меняться – зависит от огромного количества факторов (хотя, по большому счету, на все – воля Божья!). Самый худший вариант – любая компанейщина. Вот, правда, за мат (громкий в общественных местах) наказывать надо! И – строго! Это – к гадалке не ходи!
Алексей Харламов
Специальный корреспондент ГРК «Маяк», РИА «Новости»
1. Право, высказываться мне о современном состоянии русского языка даже и неловко как-то. Во-первых, я не филолог, а во-вторых, не журналист (как минимум, по образованию). Следовательно, необходимый анализ будет непременно дилетантским, так сказать, на уровне ОБС (Одна Баба Сказала). Но коль скоро требуется, так и начнем.
Итак. Язык, безусловно, явление живое, а потому возможные его, языка, флуктуации вполне естественны, реагировать же на них можно лишь на уровне «нравится – не нравится», «эволюция – деградация», не оспаривая тем самым принцип, согласно которому естественно живое, а потому – меняющееся. Современный русский язык жив, динамичен, впитывает новые тенденции («аффтарский» сленг), охотно принимает заимствования («Уау!», «Куул!», «Имидж», «Транспарентность»), не противится уголовно-криминальной лексике («разводка», «не катит», «в натуре») и канцеляризмам («приземлить», «заострить», «провентилировать»). Можно сожалеть о некоей примитивизации и стремлении к упрощению конструкций, однако, следует понимать, что ускоряющийся ритм развития постиндустриального общества как раз и порождает тенденцию вкладывать как можно больше значения в возможно меньший объем знаков. Такой период прошла и проходит, быть может, Америка (wonna, gonna), такой же период переживает Россия («полюбас», «всяко», «будь спок»). В активное употребление входят слова, которые могла бы в свой арсенал включить легендарная, хотя и вымышленная Эллочка-людоедка: упомянутое уже «Уау!», «Гламур!», «Супер!», выражающие целую гамму переживаний. И за этим также следует видеть одну из линий развития т. н. «западной» цивилизации потребления, где глубинный смысл подменяется более ярким и более примитивным, а потому, как ошибочно считается, более понятным, пусть и поверхностным по смыслу суррогатом. Производители товара нацеливают человека на потребление без осознания, почти не задумываясь. Политки занимаются ровно тем же, особенно, при неразвитом гражданском обществе. Стоит ли говорить, что язык – репрезентация общественных процессов и зеркало массовых транзакций, также реализует, отражает эту тенденцию.
Из актуальных процессов хотелось бы еще раз отметить массовое распространение т. н. «аффтарского» и компьютерного сленга и англоязычных заимствований.
2. «Идеального» языка в СМИ быть не может, как не бывает идеального цветка, идеальной красоты или идеальной мухи. Живое живо разнообразием форм и содержаний, и малейшее отклонение от т. н. нормы ровно в той же мере свидетельствует об извечном совершенстве Вселенной, в какой и идеальное ей (норме) соответствие. Потому сам вопрос об «идеальном» языке считаю несколько некорректным. Можно говорить лишь о «желаемых» принципах подачи материала с точки зрения соответствия нормам русского языка. Но, в зависимости от аудитории тех или иных СМИ, в зависимости от целей и задач, стоящих перед автором, вполне допустимо, считаю, употреблять и ненормативную лексику (цитирование, литературные тексты – Довлатов, Лимонов), и сокращения («Здрасьте!» – сказал Петр, снимая кепочку и кланяясь») и многое другое. Возможно, некоему стандарту языка должны соответствовать основные государственные газеты или специализированные издания. Однако, следует помнить, что и здесь не должно быть жестких рамок: попытка сделать неподвижным меняющееся и движимое обречена на провал: умрет кролик, едва из клетки выйдя, хотя всю жизнь там просидел и кормился сытно, бо люди посчитали, что последнее для него лучше и правильнее.
3. Что касаемо средств, то вот не отвечу тут нечего, не силен в специальной терминологии. Что же до отличий, то публицистика, в первую очередь, должна следовать языку логики, в то время как литературный язык – изображению образов, ощущений. В этом процессе традиционная линейная логика не является определяющей и максимально удобной («Но где-то там, на подгоревшем небе / Еще мелькнет последняя звезда…»; небо не может быть «подгоревшим» на самом деле, но его цвет и возникающие у автора ощущения вполне можно обрисовать таким словом). Впрочем, наиболее талантливые публицисты умело сочетают эти стили, подтверждая тем самым мысль американского философа Кена Уилбера о том, что граничные понятия не существуют до проведения самой границы. Ее же, per se, не существует. Это относится ко всем формам движения материи, говорим ли мы о человеке как организме (биологический уровень движения) или о человеке как существе социальном (социальный уровень). Или же вообще о человеке не говорим (как провести границу между двумя реками на месте впадения одной в другую?!)
4. Безусловно, использую. Роль – второ и третье-степенная. Исключительно для общения в референтной социальной группе или для обозначения принадлежности к той или иной социальной группе при необходимости адаптации в ней.
5. Отношение нормальное. Ими не стоит злоупотреблять, но прижившиеся слова нужны – их ассимиляция не случайна: людям может быть удобно пользоваться этими словами. Это аналогично способу прокладывания дорожек в английских садах. Землеустроитель сперва смотрит, как именно люди проходят через участок, а потом, уже вытоптанную пешеходами дорожку, устилает камнем, щебнем или плиткой.
6. Они могут присутствовать, но, обязательно должны разъясняться. Это во-первых. А во-вторых, ими также не стоит злоупотреблять. Впрочем, настоящий интеллигентный журналист или писатель и так этого не сделает. В противном случае он сильно рискует «вознестись» над читателем.
7. Безусловно допустимо. Ненормативную лексику, быть может, не стоит институциализировать в СМИ, но, если т. н. бранные слова помогут нарисовать более подробную картину происходящего, создать более целостный образ, завершить гештальт, то их употребление допустимо, местами, возможно, необходимо.
8. Еще раз: норма – понятие жесткое, не живое, язык, как и его носитель – человек – явление живое. Конфликт между ними неизбежен. Однако, такой конфликт следует, прежде всего, понимать как созидательный, тот, что предоставляет шанс для развития новых форм на основании изменившегося со временем содержания. О стилистических ошибках ничего, к сожалению, не скажу: не столь богат опыт чтения плохих журналистских работ.
9. Ну что ж, влияет, сильно влияет. «Превед!» теперь можно услышать и на улице или в телерекламе, а не только прочитать в блоге. А, как написал один из блоггеров, даже своего талантливого лектора по физике он мог слушать с трудом, читая красовавшуюся перед ним на парте надпись «Йа криветко!». «Олбанский» язык – вполне естественная и временная флуктуация, отголоски которой, возможно и заякорятся в языке, но и в этом случае число носителей таких неологизмов, будет, полагаю, не столь уж велико.
10. Образование, образование и еще раз образование. Студентов, преподавателей, школьников. Однако, до той поры, пока образованный человек, возможно, будет рассматриваться как потенциальная угроза для Системы, больших прорывов в этой области ждать не приходится.
Алан Хурумов
Актер, журналист, обозреватель газет «Газета. Ру», «Россія», «Газета», «Бизнес», журналов «Smart Money», «Автоньюс» и др.
1. По какой шкале оценивать? Рискну предположить, что русскому языку глубоко безразлично, как я его оцениваю. Потому что он живой. Причем жизнь в него вдыхают вовсе не те, кто оценивает состояние языка, не лингвисты и филологи, а носители. И когда конкретный носитель поднимает телефонную трубку и возмутительно звОнит – с ударением на первом слоге, – вместо того чтобы звонИть – с ударением на втором, как рекомендует орфоэпический словарь, русский язык послушно доносит его мысль до собеседника. За что ему и спасибо.

