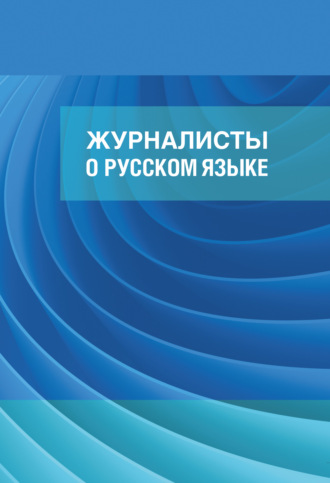 полная версия
полная версияЖурналисты о русском языке
2. Все более грубый, упрощенный и некачественный. Экономия многих СМИ на персонале, связанном с коррекцией, а также снижающийся уровень образования и знаний выпускников ВУЗов приводит к валу ошибок в СМИ (особенно в интернет-СМИ, спецификой которых является повышенная скорость производства материалов), причем как описок и дефектов, связанных с неправильным переводом первоисточника, так и исторических, логических и пр. смысловых ошибок.
3. Язык публицистики – в идеале краткий и выразительный, насыщенный (максимум информации на заданный объем знаков), в зависимости от стиля – иногда эмоциональный, юмористический. Язык художественный литературы – наполненный образами, иносказаниями, информация здесь зачастую уступает место образам, способным пробудить воображение читателя. Выразительность языка на телевидении и радио зависит даже от интонаций голоса ведущего. А вообще – все зависит от редакционной политики – подбор авторов материалов и пр.
4. Преимущественно деградационное. Вводит моду на упрощения, сокращение, использование маркирующих слов (своего рода паролей, выражающих принадлежность к определенным сообществам, – например, знаменитое превед), презрение к пунктуационным нормам. Также обогащает язык иностранными заимствованиями и «международными неологизмами».
5. Неоднозначное. Скорее отрицательное, но ряд слов действительно не имеют удобных аналогов в русском языке, и поэтому их использование можно считать обоснованным.
6. Для специализированных СМИ, предназначенных для узких профессионалов, – это скорее плюс, для ориентированных на массового читателя – однозначно минус. Не со словарем же в метро газету читать…
7. Да, использую, но только когда делаю материалы для подготовленной для этого аудитории. Иногда, правда, даю слабину и вставляю их для красного словца и для своего рода «форса» – показать себя как модного и продвинутого автора.:)
8. В зарегистрированных СМИ – нет. Эта точка зрения уже хорошо пояснена в действующем законодательстве РФ. В собственных блогах и дневниках солидаризируюсь с личными мотивами и наклонностями автора.
9. Падающий уровень образования, вульгаризация речи масс, желание автора выглядеть более грубым, брутальным и агрессивным, чем он есть в реальности.
10. Ни в коем случае не запретительными мерами. Повышением уровня образования и негативной реакцией аудитории и групп влиянии в СМИ. Тех, кто создает тенденции. То есть попытаться сделать модными СМИ с чистым, красивым и объемным русским языком.
Александр Карягин
Фотограф и контент-менеджер журнала «Наш Локо»
1. Думаю, что язык в полной мере отражает нашу действительность. По-иному и быть не может. На мой взгляд, разговорный русский сейчас примитивен и убог, как вся наша страна в целом. Развивать язык попросту некому, так как молодёжи достаточно лишь нескольких фраз, чтобы выразить все то, что с ними происходит.
2. Здесь всё зависит от уровня СМИ, его репутации. Общий средний уровень низок. Сказывается тот факт, что все большую популярность у населения приобретают электронные издания. Чистота языка в связи с этим утрачивает свою актуальность и на первые роли выходит оперативность изданий. Образцовым для меня в смысле стилистики речи является канал «Культура», идеальный по всем показателям.
3. Сложно описать, здесь все на уровне ощущений. Бывает и слова правильные, а не «цепляет». Так что выразительность языка изданий достигается талантом журналистов, легким, ироничным (с каплей здорового цинизма) отношением к жизни и описываемым событиям. Язык публицистики отражает сегодняшний день таким, какой он есть, и языком сегодняшнего же дня, желательно без вымыслов. В художественной литературе вымысел играет более существенную роль.
4. Конечно, ведь без них язык становится пресным и официальным. Отвожу роль специй, которые добавляются по вкусу.
5. Все хорошо в меру. Есть области, где без этого не обойтись. Опять же – вопрос вкуса того, кто заимствует.
6. Ну если без них никуда, куда же деваться? Есть темы, для полного раскрытия которых это необходимо. Кроме того, есть специализированные СМИ. Там уж сам Бог велел.
7. Лучше все же обойтись без этого. Мне кажется, это признак дурного тона. Нормальныелюди этого не оценят, отщепенцы – да!
8. Тем, что русский – довольно сложный язык. Журналистика же становится делом молодых, для которых соблюдение правил не является нормой.
9. Отрицательно, быстро – не значит качественно. Хотя в любом правиле есть исключения.
10. Думаю, никак. Всегда будут профессионалы и ремесленники, люди со вкусом и бездари. Просто надо тщательнее подходить к выбору изданий, которые читаешь.
Любовь Ковалева
Корреспондент журнала ТВ-ПАРК
1. Я считаю, что развитие русского языка идет своим чередом. С одной стороны, огромное влияние на него оказывает интернет-культура: люди, привыкшие к сокращениям и текстуальным выражениям эмоций, несут это в язык. С другой стороны – в среднем люди стали намного меньше читать и использовать в работе текстовые редакторы, поэтому уровень грамотности снижается. Назвать эти процессы положительными нельзя, но они укладываются в логику развития мировой цивилизации.
2. Язык современных СМИ разнообразен. Он отличается в зависимости от тематики, задач и направленности издания. Существуют огромное количество газет, журналов, радиостанций, уровень которых оставляет желать лучшего. Но они и рассчитаны на людей, которые, мягко говоря, не претендуют на академичность. Но есть и качественные СМИ, причем с каждым годом их количество увеличивается. Язык этих изданий не вызывает никаких нареканий. Идеального языка для СМИ быть не может: условия диктует рынок.
3. Грамотностью и четкостью формулирования своих интересных идей. Язык публицистики отличается от языка художественной литературы как мгновенная спекуляция и долгосрочное инвестирование. Если у автора есть желание и возможность формулировать свои мысли развернуто, он может использовать всю палитру возможностей языка. Если нет – он должен просто быть краток и понятен.
4. Имея опыт работы на телевидении и в печатных СМИ, никогда не использовала жаргонизмы, ничего не могу сказать по этому поводу.
5. Положительно-нейтральное. За счет этого язык получает возможность оперативно реагировать на развитие различных сфер человеческой жизнедеятельности.
6. В определенных ситуациях разъяснение каких-либо обстоятельств без упоминания терминов невозможно, но ими нельзя злоупотреблять, иначе зритель-читатель не воспримет информацию (или посчитает программу/ статью слишком заумной) и переключит свое внимание на что-то более интересное.
7. Допустимо только в формате «запикиванья», от лица героев, не журналистов!!!
8. Таковых много, в памяти сейчас нет…
9. На мой взгляд, никак, ведь даже в Интернете можно столкнуться с серьезными, хорошо отредактированными, ярко написанными текстами.
10. Культура общества косвенно зависит от того, что оно видит, слушает и т. д., поэтому в руках журналистов основной козырь – правильная с точки зрения отбора фактов, грамотная подача материала.
Дмитрий Коваленин
Переводчик-японист, востоковед, журналист, писатель, автор книги «Коро-коро», лауреат литературной премии «Странник»
1. Сегодня русский, как и большинство других языков, стремительно «оцифровывается». Лишаясь бумажно-печатной базы, он, с одной стороны, становится мобильнее и «операбельнее»: сегодня любой нужный кусок текста, удачную фразу, если они выражены в цифре, мы вольны практически сразу, не записывая и не заучивая наизусть, использовать в дальнейшем персональном языкотворчестве. Это, несомненно, позитивный процесс, позволяющий усилить метафоричность речи, повысить «визуальность» каждой отдельно взятой мысли. С другой стороны, не все из адептов «бумажного» языка поспевают за этим процессом, да и среди «цифровых» авангардистов каких-либо новых правил пока не выработано. В итоге мы вынуждены наблюдать резкий антагонизм между теми, кто говорит правильным, классическим языком, но слишком медленно формулирует свои мысли, чтобы удерживать внимание аудитории, – и теми, кто нарушает все мыслимые правила, но умудряется высказать за пару строк больше, чем его оппонент за целую страницу. Истина, понятно, где-то посередине. Но сам этот зазор сегодня, по-моему, велик как никогда.
2. На мой взгляд, язык современных СМИ пока еще слишком безлик. В любой крупной стране периодика имеет по нескольку изданий-корифеев, задающих тот или иной лингвистический стиль: язык «Ньюсуик» – это не язык «Таймс», хотя оба и грамматически, и стилистически, в общем, достаточно безупречны. Видимо, не в последнюю очередь такой эффект обеспечивают профессиональные, высококачественные редакторы, которых у нас, увы, в последние годы практически не осталось. В целом же «идеальный язык» – это индивидуальный язык каждого отдельного издания. Без нарушения общих правил, само собой. И не дай Бог им всем снова стать одинаковыми.
3. Я бы не разделял. Чем больше художественной выразительности будет в публицистике, тем лучше для публицистики. А там, глядишь, и сама эта грань между ними сотрется за ненадобностью.
4. Да, конечно. Ту, для которой они и нужны: акцентуационно-экспрессивную.
5. Конечно, если по-русски можно сказать то же самое, но короче – предпочитаю русский. Поэтому нужно всегда знать перевод: «бутерброд с маслом (как и без)» – языковой абсурд. Однако с водой нельзя выплескивать и ребенка: некоторые заимствования означают не совсем то, что их русский буквальный эквивалент. К сожалению, не все это понимают. «Куски мяса в тесте» в зависимости от региона изготовления могут быть и сибирскими пельменями, и бурятскими мантами, и китайско-японской гёдзой, и татарской самсой, и украинскими мясными варениками. Смысл один, а вкусы разные. О пикантной разнице между «шавермой» и «шаурмой» я даже не говорю.
6. А как Вы оцениваете сам термин «СМИ»? Он ведь тоже, красавец, не с потолка появился. Теперь вот народ и матерится, но использует, куда деваться.
7. Если это нужно – почему нет? И что тут, собственно, пояснять? Кто допускать должен? И по какой лексической норме? Слава Богу, это уже вопросы отношений конкретных СМИ с конкретной властью, но не проблемы языка как такового.
8. Тем, что добрая половина из этих журналистов не формулируют свои мысли сами, а занимаются «рерайтингом», или передиранием текста из языков с принципиально другой грамматикой. В результате мы получаем нечто среднее между механическим бредом программы-переводчика без какой-либо редактуры – и жалкими попытками выглядеть круто при полном цейтноте. Примеры повсеместно, особенно в «поточных» новостных лентах.
9. См. ответ на 1-й вопрос.
10. Не запрещать библиотеку Мошкова, в первую очередь. И все, что это повлечет за собой.
Максим Ковальский
Креативный директор в ИД «Коммерсантъ»
1. Состояние современного русского языка – объективный факт, непонятно, как его оценить. Это все равно что спросить, как вы оцениваете климат России. Какой есть климат – такой и есть. С другой стороны, у языка существуют определенные свойства, их отметить можно. Например, консервативность. Читая Пушкина, то есть произведения, написанные почти 200 лет назад, мы их понимаем. Язык за этот достаточно долгий срок не изменился до неузнаваемости. Также, смотря новостной сюжет из, скажем, Владивостока, – города, расположенного от Москвы дальше, чем Париж или Берлин, мы прекрасно понимаем местного корреспондента. Он, несмотря на расстояние, говорит на том же русском языке, что и москвичи. Если и есть различия в диалекте, то они минимальны. Этот факт, мне кажется, также свидетельствует о консерватизме русского языка.
Что касается актуальных процессов в русской речи, то, думаю, все они связаны с миграцией. Сейчас в Москву приезжает огромное количество людей из ближнего зарубежья – Украины и Белоруссии. Они говорят по-русски, используя интонацию и фонетику своего языка. Для украинцев, например, характерно редуцирование гласных. Оставаясь жить в Москве, они продолжают говорить на украинский манер. В итоге русскоговорящие молодые люди, дети перенимают этот говор. Таким образом появляется актуальное явление в современной русской речи – суржик.
2. Язык СМИ не особенно отличается от языка рядовых носителей. К тому же в СМИ далеко не всегда работают только профессиональные журналисты. Но если коротко его определить, то это чудовищный русский язык. Причем хуже всего дело обстоит с теле- и радиожурналистами. Это легко объяснить: то, что говорится в прямом эфире, нельзя поправить, нет возможности для работы редактора и корректора. Но, несмотря на все объяснения, потрясают радиоведущие, не способные правильно склонять числительные. Например, загадочную дату «двухтысячепятный год» я слышал уже несколько раз.
С другой стороны, не стоит думать, что процесс упрощения и изменения лексики происходит в языке впервые. Прочитав дневники Корнея Чуковского, видишь, что в его время «радио» всегда употреблялось исключительно в мужском роде, а сегодня это слово среднего рода.
Идеальный язык СМИ? Трудно сказать, что значит идеальный. Наверное, проще привести примеры языка, наиболее близкого, по моему мнению, к идеальному, чем попытаться объяснить. В издательском доме «Коммерсант» таким языком обладает Григорий Ревзин. Он пишет понятно, просто, но в то же время не малограмотно.
3. Если под средствами подразумеваются литературные тропы, то у каждого автора свой набор используемых средств. Перечислять все средства выразительности языка, которые в свое время выделили древние греки, будет слишком долго и скучно. К тому же этот список уже давно составил французский ученый Бернар Лами. В его книге упомянуты почти все существующие тропы. Журналисты часто используют эти речевые фигуры, даже не зная их названия. Например, часто употребляемый в газетных заголовках хиазм («Власть тьмы и тьма власти») или встречающаяся в основном тексте зевгма («Мы пили чай с сахаром и с удовольствием»).
Отличие языка публицистики от языка художественной литературы определяется мотивацией читателя. Человек читает книгу, потому что хочет ее прочитать, потому что он любит проводить свое свободное время за чтением книги. Газеты же и журналы читают люди, в принципе не склонные к чтению. Вместо газеты он с таким же успехом может потратить время на телевизор, прогулку, поход в магазин. Мы, журналисты, по сути, заставляем, провоцируем читателя взять наш продукт. Когда автор пишет книгу, он приводит текст в соответствие со своим стандартом, журналист же должен основываться на стандарте среднего гипотетического читателя. Поэтому язык СМИ должен быть понятен, логичен, увлекателен. Автору книги нелогичность и монотонность простят, а скучную и непонятную газету просто выбросят.
4. Я использую все богатство русского языка.
5. Меня они не смущают. В русском языке более 70 % слов заимствованы. Я не ратую за так называемую чистоту языка, то есть полный отказ от иностранных слов. Гораздо более серьезное значение я придаю заимствованным конструкциям. Слово – капля в море, сегодня оно есть, завтра язык его выкинул. А вот синтаксическая конструкция организует нашу речь. Если мы заимствуем слово «киллер» из английского языка, мы получаем еще один синоним русскому слову, описывающему уже определенный род деятельности. Если же мы заимствуем «бизнес-план», мы получаем новое понятие. Русскоговорящий человек начинает думать английскими категориями, составлять свою речь из конструкций, принятых в английском языке. На мой взгляд, такое заимствование намного опаснее для развития языка.
6. Важно, о каких СМИ идет речь. Бывают профессиональные СМИ, например журнал для рыболовов. Он рассчитан на аудиторию, интересующуюся рыбалкой и знающей все специальные термины. Совсем по-другому присутствие профессионализмов оценивается в общественно-политических журналах, где читатели не обязаны знать специальную лексику. Появляется вопрос уместности. Скажем, уместно ли говорить с русским человеком по-китайски?
Приведу пример из своей редакторской практики. Это было около десяти лет назад, наше издание называлось тогда «Коммерсант-Weekly». Я отредактировал заметку, перенасыщенную терминами по добыче алюминия, и попросил автора заменить их более доступными словами. Он стал спорить со мной и отказываться, говоря, что без профессионализмов получится неинтересно и тривиально. В конце концов он сказал гениальную фразу: «Тот, кто хотя бы два года занимался алюминием, с легкостью это поймет». В том-то и дело, что заметка пишется для тех, кто никогда не занимался алюминием. Автор текста забыл свою задачу – доступно объяснить непрофессионалу специфические детали.
7. Изъясняться такой лексикой, конечно, недопустимо. Мат и другая ненормативная лексика должна быть использована уместно. Когда человек упал и ударился коленкой, будет даже странно, если он не выругается, но если он пишет заметку в газету, от него ожидают совсем другой лексики.
Другой вопрос – цитирование. Чтобы передать особенности определенной личности, особенно если эта личность настаивает на сохранении ее речи, то почему бы и нет? Подтверждение тому – недавний текст в газете «Коммерсант», где напечатали цитату главы холдинга «Проф-медиа» Рафаэля Акопова с охранением оригинальной ненормативной лексики.
Если говорить не о мате, а просто о грубой лексике, то, думаю, в некоторых случаях ее необходимо употреблять. Таких случаев немного, но они есть. Например, какое-то время назад генерал Альберт Макашов сказал грубую фразу, что-то вроде «мы еще покажем этим жидам и поссым им в окошки». Его высказывание, естественно, оскорбило представителей еврейской нации, на Макашова подали в суд. Дело решилось в пользу генерала. На следующий день после вынесения решения в «Коммерсанте» вышел текст с заголовком «Макашов может ссать спокойно». Таким образом газета охарактеризовала ситуацию и косвенно выразила свое отношение к делу.
8. Объяснить многочисленные нарушения языковой нормы просто – не все способны чувствовать язык, не каждый журналист, к сожалению, владеет языком настолько, чтобы без ошибок высказать свою мысль.
Думаю, здесь даже важнее говорить не о нарушении, а о самой языковой норме. Сегодня установить эту норму – проблема. Недавно коллега попросил меня купить ему орфографический словарь. Я пришел в книжный магазин и нашел там 9 разных словарей. Решил проверить их по слову «первобытнообщинный». По правилу постановки дефиса, которое изучают в пятом классе средней школы, это слово пишется слитно. Когда я просматривал словари, однозначной нормы употребления этого слова не было: четыре словаря предлагали написать слитно, пять – через дефис. Вопрос: как выбрать орфографический словарь?
Примеров стилистических ошибок я могу привести массу, потому что уже собрал из них коллекцию:
«Она показала, как в теле, далеком от идеалов женской красоты, могут жить замечательный талант и тонкая душа»;
«…очаровательная Светлана Аджубей, в некотором смысле внучка Никиты Хрущева»;
«Уход г-на Жабоева с капитанского мостика на больничный лист не мог не иметь последствий»;
«У Солдатовой родились пластиковые плащи, мягкие желто-голубые шляпы, прозрачные пиджаки»;
«Специалисты считают, что поджог леса в труднодоступном месте и в то же время в двух местах совершен злоумышленниками».
9. Язык Интернета – это записанная разговорная речь. Поэтому вряд ли язык интернет-изданий как-то принципиально меняет уже сложившуюся устную норму. Если говорить о распространенном сегодня языке «падонков», то он, по крайней мере, не оригинален. Потому что такая игра – заменять глухие согласные парными звонкими и наоборот – существует уже много веков. В некоторых случаях выражения типа «превед, медвед» и «аффтор жжот» выглядят забавно и уместно, но когда человек полностью переходит на «падонковский» язык, возникают сомнения: а может ли он говорить правильно, знает ли он литературную норму?
10. Журналистов? Думаю, никак. Нельзя сделать взрослого сформировавшегося человека более грамотным или неграмотным, чем он есть.
Андрей Колесников
Специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»
1. Это состояние можно было бы назвать плохим. Но мы должны учитывать естественное развитие языка, превращение жаргонизмов и слов и выражений, не очень чистых с точки зрения классических учебников Д.Э. Розенталя, в нормативные понятия. Вполне очевидно, что язык – живая материя. И то, что еще вчера казалось неприемлемым, сегодня вдруг оказывается нормой.
Но, несмотря на это, мне кажется, в русском языке заложена определенная стойкость. Помню, когда я учился на факультете журналистики МГУ, уже тогда преподаватели недовольно говорили, что слово «кофе» часто употребляют в среднем роде, что неправильно. Сегодня, спустя почти 20 лет с того момента, по литературной норме слово «кофе» по-прежнему мужского рода.
Другой вопрос, что, судя по внешним наблюдениям, падает общая культура, а значит, и уровень банальной грамотности. Люди меньше читают – и это тоже влияет на общее состояние современной российской языковой культуры.
2. Если падает общая языковая культура, вместе с ней все более ущербным становится и язык современных СМИ. Здесь происходят процессы, схожие с теми, что я описал в ответе на первый вопрос. В 1990-е годы сформировался новый язык современной деловой и политической прессы. Нормой стало то, что раньше могло бы показаться диковатым.
Проблема в том, что в массовых, таблоидных, некачественных печатных и электронных СМИ слишком много случайных, а значит, непрофессиональных людей. И здесь уровень языковой культуры падает. Однако в качественной прессе, где селекция журналистов и редакторов более жесткая, где по-настоящему работают корректура и бюро проверки, языковая культура находится на высоком, а иногда и на очень высоком уровне.
Не существует общего «языка современных СМИ». Даже в одном и том же издании журналисты пишут на разных языках СМИ. Например, тот русский язык, на котором пишу я и еще несколько человек в «Коммерсанте», отличается от того русского языка, на котором пишут, скажем, авторы делового блока. Похожая ситуация, но еще более печальная, кстати, сложилась в газете «Ведомости». Я бы даже не решился назвать русским тот язык, на котором они пишут. Люди научились складывать кубики из комментариев экспертов и из достаточно ограниченного набора стандартных слов.
А идеальный язык один – и СМИ и всех остальных, его пример – «Капитанская дочка» Пушкина.
3. Все перечисленное – это текст. Только текст разного функционального назначения. Профессиональному текстовику в принципе должно быть безразлично, что он пишет, – речь политику, заметку в информационный «стакан» в газете, радиоскрипт или авторскую колонку. Просто изготовление каждого из видов текста подчиняется своим правилам, которым нужно неукоснительно следовать.
У каждого журналиста свой набор. Раньше я часто заглядывал в словарь синонимов, но сегодня мне это уже не нужно. Набор средств для выразительности языка меняется в зависимости от опыта автора.
В идеале язык публицистики ничем не должен отличаться от языка художественной литературы. Ведь какой первый признак литературного языка? Доступность. А доступность рождает заинтересованность читателя. Если бы деловые новости были бы написаны языком «Капитанской дочки», то есть доступно и интересно, я бы их читал.
Другой вопрос, что не каждый журналист-информационщик в состоянии написать талантливую колонку. А яркий колумнист не всегда способен написать обычную информационную заметку. То же и с писательским мастерством: есть множество примеров, когда из журналистов рекрутируются недурные писатели. И наоборот. Хотя второе случается реже: в журналистике слишком много чисто ремесленных ограничений.
4. Использую общепринятые в политической и деловой прессе жаргонизмы. Обычно заключаю их в кавычки в своих и редактируемых мною текстах. Считаю, что злоупотреблять ими не следует.
5. Такое же, как и к жаргонизмам. Многое зависит от целевой аудитории издания. Если это качественное издание, ориентированное на образованный и адаптированный класс, то употребление таких слов более или менее оправдано. Хотя иной раз до меня не сразу доходит смысл некоторых слов. Например, я только со второго раза понял в колонке одной из «коммерсантовских» дам, что такое «тишотка». Есть ощущение, что иные издания злоупотребляют словами и понятиями, доступными весьма узкой аудитории. Происходит, выражаясь этим языком, «овердоз». Если вы меня правильно поняли…
Если журналист использует слишком много заимствованных слов, то у него явная проблема с авторскими средствами выразительности языка, о которых мы говорили выше. Поэтому мое отношение к ним – отрицательное.

