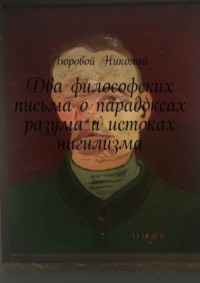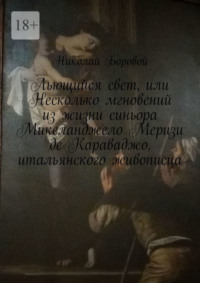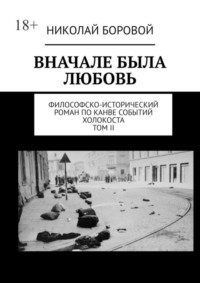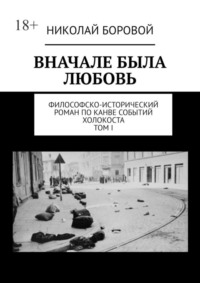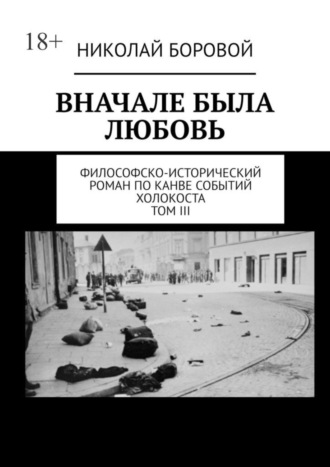
Полная версия
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Вообще, ярость пана профессора будет вызывать сама попытка поднимать над ценностью единичного человека те или иные разновидности «всеобщих» ценностей и целей – он будет усматривать в этом почву и истоки нигилизма, одну из наиболее принципиальных ипостасей нигилизма, когда тот становится сутью мира человека, отношения мира к человеку, судьбы и положения человека в мире, имя которым «обничтоженность»… Высшей ценностью, ревностно исповедуемой и яростно отстаиваемой, будут для Войцеха человек, личность человека, судьба и возможности человека. Это профессор Житковски будет класть в своем мышлении и сознании вещей во главу угла, с этим, высшим и главным, он будет соотносить идеалы и горизонты общественного развития, провозглашаемые обществами, политиками и идеологиями цели. Вопрос о судьбе и возможностях человека, о возможности свободы, достоинства и нравственной личности человека, о служении социальных и политических реалий высшей ценности единичного человека и ее утверждению, будет для него мерилом состояния обществ, наций и стран. Конечно – это будет не случайным: профессор Войцех Житковски слишком хорошо и ясно будет понимать, что там, где перед победным шагом «всеобщего», человека низводят с пьедестала высшей и самодостаточной ценности, он неотвратимо обречен превратиться в «ничто», стать «глиной», «материалом», целесообразно используемой «вещью», «разменной монетой» больших авантюр. «Там, где общество, его благо и цели превращаются в высшую и безусловную ценность, существование и человек в конечном итоге перестают быть всякой ценностью и неотвратима катастрофа, подобная пережитой. Человек не должен служить обществу и его целям, и не приходит в мир во имя блага и процветания общества – утверждавшие так в течение века, за внешней логичностью и пристойностью, но фактической нигилистичностью их идей и лозунгов, не сумели создать ничего, кроме картин ожившего ада, и по другому конечно же и не могло быть. Общество должно создаваться так, чтобы человек как личность, в бесконечности его возможностей, в неповторимости его жизни и судьбы, был в таковом высшей и самодостаточной ценностью, находил утверждение как безусловная ценность и цель самого себя. Пусть речь идет о горизонте, о способном вдохновлять, но никогда не достижимом идеале – уж если что-то должно и имеет право служить идеалом, так именно это. Человек приходит в мир во имя самого себя, утверждения себя и осуществления своих возможностей, реализации данных ему надежд и возможностей перед лицом смерти. Во имя того, в конечном итоге, чтобы реализовать и утвердить себя как личность, ценность и самоцель – только так. Человек должен быть высшей ценностью, а не химеры общественного блага и процветания, сводимые в основном к объему созданных и приобретенных вещей, росту биржевых котировок и возможностей накопления. Человек должен быть целью себя, а не «средством» и «глиной» для любых, пусть внешне даже самых благородных целей общественного и национального бытия. И когда в реалиях его существования и судьбы он перестает быть подлинной ценностью и самоцелью, остается в бессилии перед неотвратимой бездной смерти – вот тогда торжествует ад, тогда беснуются, затягивают последнюю и страшную пляску отрицание и нигилизм. Тогда всё вокруг рушится и превращается в прах, ибо не то что химеры, которым мир приносил в жертву человека и его жизнь, становятся для него «ничем» – сама возможность быть становится для человека злом и проклятием, превращается для него в «ничто», утрачивает смысл и ценность. Вот тогда салютуют подонкам миллионные толпы и заставить эти толпы бестрепетно гибнуть и уничтожать себе подобных, становится лишь вопросом нехитрых манипуляций. Ведь мы должны признать, что именно дегуманизация мира в победных шагах прогресса и цивилизации, в торжестве целей и химер «всеобщего», превращенность человека в реалиях этого мира в «ничто» и его обреченность на абсурд как судьбу, в конечном итоге и привели к пережитой в течение полувека катастрофе, той дьявольской пляске бунта и отрицания, ставшего состоянием масс нигилизма, которая сделала возможными известные всем события». Так Войцех напишет в одной из статей, изданной в США и Польше в 1949 году. Останется в этом конечно же собой, ибо сумеет насолить сразу всем. Американцам, больным в эти годы маккартизмом и антикоммунистической истерией, но подобно и нацистам, и коммунистам, вооруженным борьбой за «всеобщий прогресс», накопление и имперское господство над миром. И конечно – самим коммунистам в освобожденной Польше, которые в основных мыслях статьи увидели достаточно откровенно поставленное перед извращенной сутью их идей зеркало, а так же намек на то, что после крушения Рейха они одни остались носителями и радетелями тоталитарных, нигилистичных, в основах «обничтоживающих» человека и всецело химеричных идей. Это имело свои практические последствия, из-за которых Войцех с Магдаленой и уже подросшим сыном Юзефом, смогли приехать в Польшу только в 1957 году…
Однако – вопрос о национальной сопричастности с неожиданной остротой поднимется для пана профессора как раз на изломе 40-х и 50-х годов, когда их с Магдаленой жизнь в Женеве начнет входить в обнадеживающее и прочное русло, и Войцех будет еще раз поражен, насколько нравственно и трагически настоящим может быть этот вопрос для человека. Ответом на него фактически станут события жизни семьи Житковски в 50-е годы. В одной из статей Войцех Житковски будет писать, что «как бы ни была сильна в человеке национальная идентичность и сопричастность, насколько глубоки и крепки не были бы его связи с миром той или иной культуры, над этим должна торжествовать общечеловеческая идентичность и солидарность людей, основанная на личностном сознании и самосознании, на осознании единства людей в их сути и судьбе, на способности видеть во всяком другом человеке того же, кто есть по сути ты сам. В конечном итоге – на сознании высшей ценности всякого человека как личности, долга совести и нравственной ответственности перед единичным человеком, вне зависимости от его национальной, религиозной, культурной или политической принадлежности». Во истину – в этих словах и мыслях будет драма судьбы и сути самого пана профессора, ныне величаемого в основном «герром». В личностном, экзистенциальном ощущении солидарности людей и высшей ценности единичного человека, у него никогда не было недостатка, и глубокая привязанность к Польше никогда не брала верх в нем над таковым, над сознанием и ощущением нравственной ответственности перед всяким человеком как личностью, чудом и таинством Человека, «образа и творения божьего». Однако теперь, оторванный судьбой от любимой и родной страны, не представляющий, сколько это может продлиться, даже начинающий постепенно привыкать к жизни в Швейцарии и срастаться с ней обстоятельствами, статусом и делами, он ощутил, как же сильна в его уме и душе, в самом его существе, связанность со вселенной культуры и истории, событий и корней, называемой Польша. Очень многие годы они с Магдаленой жили умом и душой, вечно встающими и терзающими вопросами более в Польше, нежели в окружающей их французской Швейцарии с ее безопасностью и легендарными красотами. Они тосковали. По Кракову, по улицам и домам, среди которых произошли лучшие годы и важнейшие события их жизни. По видам Вавеля и Вислы, лесистых холмов, над которыми загадочно проступают в зеленоватом тумане шпили и маковки монастырей. По соборам, по площади, по готическим сводам Университета. По Флорианским воротам, возле которых провели не один, полный тепла и искренности, глубоких и вдохновенных разговоров вечер. Швейцария была по своему красива и даже очень, но она не была родной. Они тосковали по языку, и как! После войны Западная Европа стала наводнена поляками из армии Сандерса, но жизнь Войцеха и Магдалены была выстроена так, что расслышать польскую речь на улице им практически не доводилось, а в те редкие моменты, когда это всё же случалось, ни она, ни в особенности он, не решались подойти и заговорить. Язык оставался им только в общении между собой. Да – он говорил по немецки и быстро овладевал французским, а она, будучи моложе, впитывала французский еще быстрее и лучше его и любила посмеиваться над ним за это. Но тем языком, которым они мысли о жизни и смерти, о самих себе, выражали глубокие и личные переживания, оставался и конечно же – до конца дней обречен был оставаться польский. И кроме них двоих в их нынешней жизни не было никого, с кем можно было бы перекинуться на этом языке словом. Им не хватало задушевного польского общения, которое завязывалось зачастую между самыми плохо знакомыми людьми и нередко потом перерастало в теплую и долгую связь – просто потому, что таковы были характер, души и привычки людей, воспитанные на наследии веков. В швейцарцах, которых они всё больше и больше узнавали, было очень много хорошего – педантичность от немцев, сибаритство от итальянцев и французов, выкованная в веках гордость и воля к свободе, и всё это было дано почувствовать в каждодневном общении и связях. Но где было найти польскую задушевность и искренность общения! К нему и главное – к Магдалене, с ее несчастьем, отнеслись более чем по человечески, это была правда. С настоящим участием и сочувствием. Но вот – уже несколько лет они оба преподавали и были включены в академическую среду, но ни с кем им не удалось завязать того искреннего, почти дружеского общения, которое было у них с коллегами в Кракове. Они жили обособлено, в особенности стали жить так, когда покинули лагерь для интернированных, где сама обстановка хоть как-то, даже исподволь, но сближала людей и заставляла завязывать контакты. Но и тогда общения было не много. Большинство жителей лагеря были евреями, бежавшими из разных мест. Среди них, по понятным конечно же причинам, были сильны и ненависть к чужим, и националистические настроения, к тому же – и агитация сионистских организаций. Она была полькой, и это хочешь или нет, при всем сочувствии отчуждало от нее, а Войцех по известным причинам, сторонился соплеменников сам. Те буквально пару теплых знакомств с беженцами из Франции, которые были корнями и историями семей поляками, прервались в 45 году – эти люди эмигрировали в тогдашнюю Палестину. Да – они жили творчеством, надеждами, своей любовью и заботой о сыне, после – уже всерьез завертевшимися обстоятельствами академической судьбы, но так тосковали по Польше, что часто смаковали даже воспоминания о двух неделях в сельце Конске… о первых днях после их встречи, в которых было всё же немало радостных мгновений… О Божике и его семье… Магдалена еще тогда подмечала смешные черты в характере и облике Божика, а сейчас умела с восхитительным и добрым юмором возрождать их в памяти, привнося этим в жизнь капли тепла… В течение многих лет самыми сладкими были для них вечера, когда они садились на кухне, усаживали рядом с собой уже неплохо лопотавшего сына, и отдавались воспоминаниям о польской жизни – разным, зачастую очень простым… Грелись теплом и подмечали, с каким пытливым интересом в глазах маленький Юзеф, еще не умевший как следует задавать вопросы и не понимавший большей части того, о чем они говорили, всё же смотрел на них, увлеченный самим действом. Первые годы они всерьез думали, что как только проклятым гадам всё-таки сломают хребет, они, чтобы ни было, вернуться в Польшу. Быть со всеми вместе, с по настоящему «своими». Вернуться в родную, до слез любимую страну. И не остановит ни пережитое ими обоими, ни то, что происходило там с его соплеменниками – что сделали с теми и позволили сделать. Они жили этой надеждой и верой, жили мыслями и душой в Польше, в том трагическом, что в мелькающие годы происходило там. Замирали чуть ли не у каждого выпуска радионовостей. Знали быть может больше, чем остававшиеся и страдавшие в Польше. Узнали о докладе Карского, об ужасах варшавского гетто, о которых и тогда было известно неплохо, а теперь – не оставалось возможности сомневаться. Замирали у радио со слезами целый месяц, пока длилось восстание в Варшавском гетто. Слушали новости со слезами, с болью, с гневом и яростью. Месяц, целый месяц обездоленные, обреченные на смерть, изможденные муками и голодом люди отчаянно сражались за каждый подъезд и метр улиц, отстаивали их человеческое достоинство, заставляли отступать и бояться своих палачей! Целый месяц пылал в огне, тонул в выстрелах и смерти самый центр Варшавы, и что – хоть кто-то по настоящему помог гибнущим и сражающимся?! Образцы мужества и героизма являли иссохшие от голода, обессиленные унижениями и безнадежностью евреи, от которых подобного вообще никто не ждал, а поляки, что же – взялись за оружие, осмелились, нашли в себе решимость? Горделивые, веками боровшиеся за свободу страшными жертвами, не так давно аплодировавшие усатым маршалам и мнившие себя империей – что же, сумели понять и в этот раз, что свободу можно добыть только самим и с оружием в руках? Вот то самое, профессиональное и умелое польское подполье, уже к тому времени ломившееся от оружия и людей, там и сям вступавшее в столкновения с немцами, но в большей степени конфликтовавшее внутри – оно решилось взяться за оружие, когда перед самыми глазами был подан подлинно героический пример? Осмелилось сказать себе – пришло время? О нет, совсем нет! Пару раз перебрасывали оружие и пытались что-то там неудачно подорвать, по возможностям выводили детей, руководителей восстания, а в основном – как в театре, просто смотрели за совершающимся перед глазами кровавым действом, быть может глубоко сопереживая героям, но не решаясь принять участие и пересечь границу сцены, которой в этом случае служили трехметровые стены гетто. Как и прежде – просто позволили немцам растоптать и раздавить восставших, невзирая на их отчаянную борьбу, а после вывести оставшиеся десятки тысяч евреев в Треблинку и там уничтожить. В основном только наблюдали со стороны, кто с сочувствием в сердце, а кто и не слишком – как и прежде. И даже в этот раз, уже наверняка, безо всякой возможности сбежать в отговорки зная, что делают с собственными согражданами-евреями в Треблинке и подобных ей местах, всё равно – даже не попытались сделать такое в общем простое: взорвать пути в концлагеря, чтобы хоть как-то усложнить немцам их действия и планы, вставить хоть слабую, но палку в колеса. И только потому, что и до сих пор всё длилось по старому – был приказ ждать и увещевания ждать, хранить ожидание и выдержку как можно более, были равносильны метке «патриот» ты или же «враг» и «прокоммунистический прихвостень». И евреями, во имя главной цели «ждать», сотнями тысяч, если не миллионами евреев, было возможно конечно пожертвовать, великонациональная стратегия была превыше всего! Правда, когда речь зашла о том, что поляков могут согнать с земли в Замостье и вообще – планируют осуществить массовую казнь, как-то само собой воссталось и взялось за оружие, привели в действие небольшой партизанский отряд и смог этот отряд дать по зубам большому подразделению армии и жандармов, спасти польское село от гибели! И сдали назад немцы, и всё же разгорелось настоящее восстание, и продолжилось, несмотря на пошедшие жертвы и карательные акции! Значит – всё же возможно было решиться взять оружие и пролить кровь, открыто восстать, возможно! Просто речь зашла о земле и о «своих», это решило дело. И всё дело было собственно в том, что евреи не были до конца «своими», собратьями и согражданами, и ими в конце концов можно было пожертвовать… Всё это Войцех, в особенности откровенно, со слезами и рыча от ярости, говорил в последние дни восстания, когда было ясно, что оно обречено захлебнуться в огне, охватившем весь центр Варшавы. Магдалена обнимала его и плакала вместе с ним. Он была полькой, гордой и некогда прекрасной полькой, похожей на королев со старинных портретов. Воля к борьбе и достоинство были близки ей более, чем кому бы то ни было, и именно они тогда, на том декабрьском концерте, когда еще обе ее руки вдохновенно и с силой чувств касались клавиш, заставили ее совершить безрассудный демарш… И она до сих пор гордилась этим – их с Войцехом участь была предрешена скотом-«наци», у которого глаза щурились так, что почти закрывались и были похожи на глаза удава… Ее демарш ничего не решил, но зато – она напоследок отвела душу, вернула себе чувство собственного достоинства, и еще более возвратила то, когда дважды всадила в того скота острющую вилку. И сейчас, чуть ли не наполовину изувеченная, не могущая обнять рукой любимого мужа и удержать на руках их сына, она вспоминала это и испытывала гордость. И гнев от того, что у ее соплеменников не было в те страшные дни той же человеческой и гражданской гордости, обычной совести и солидарности, порывы которых зачастую свойственны самым простым и недалеким людям, пробуждаются в них в минуты трагических испытаний. Ей было больно и жутко до слез слушать новости, видеть в мыслях пылающий в огне центр Варшавы, представлять безнадежно гибнущих в огне и от пуль людей. Ей было горько и больно до слез слушать то, что рыча от ярости, льючи по полным щекам слезы, говорил Войцех, но она знала, что это правда и была солидарна с ним. И чтобы хоть как-то показать ему, что едина с ним и в этом, обнимала его, целовала его по прежнему вьющиеся, но уже сильно избитые сединой волосы. Через год, в августе сорок четвертого, они точно так же замирали в ужасе перед радио, и уже оба рычали от ярости и задыхались от слез. Наконец-то, значительными силами, развернулось восстание в Варшаве. Правительство в Лондоне и Армия Крайова ждали до последнего, но когда армия русских встала уже на другом берегу Вислы, заняла окраины Праги, те самые места, в которых ему довелось жить, работать связным и писать книгу, чудом встретить и спасти Магдалену, ждать более было нечего. И варшавяне, уже в который раз за полуторавековую историю, взялись за оружие – решительно, отчаянно и мужественно. В боях с немцами гибли ежедневно сотни людей, среди них были совсем молодые студенты подпольно функционировавшего университета, обещавшие блистательные свершения поэты и литераторы, художники и музыканты. Словно вся копившаяся за долгие годы ярость, униженное за эти годы достоинство, жаждавшая искупления за бездействие совесть, вдруг прорвались в едином порыве более пятидесяти тысяч людей. Первые дни весь лагерь интернированных толпился у репродукторов, а в глазах у Войцеха и Магдалены, у их нескольких друзей, корнями из Польши, блестели надежда и гордость. Но слишком быстро всё стало понятно. Точно так же, как год перед этим подполье наблюдало за удушением восстания в гетто, русские, из своих политических соображений, стояли в двух километрах от страшных событий, спокойно ожидая и наблюдая, как немцам, шаг за шагом и теми же методами, которыми расправлялись с евреями, всё-таки удается выжечь и подавить восстание. Теперь уже полыхала вся Варшава – от Старого Города до Охоты, от Залибожа до Мокотова. И буквально за пару недель из-за позиции русских стало понятным, что невзирая на ярость, реальные успехи и число участников, восстанию суждено захлебнуться. Оставалось лишь наблюдать за тем, как это случится и превозмогая боль, изо дня в день припадать к сводкам радионовостей. Немцы, невзирая на все пережитые ими удары, были по прежнему сильны, воевали отчаянно и умело, со своей «свирепой тевтонской яростью», и помочь восставшим Варшаве не могло даже развернувшееся восстание словаков. Напротив – сумев размолоть одних, немцы еще более уверялись в собственных силах и начинали брать верх и над другими. И надежду сменили ярость, слезы и гнев. Проклятия русским переплетались в мыслях и душе Войцеха и Магдалены с ужасом перед сведениями – восставших выбивают из их позиций огнем и танками, бои ведутся по всему городу, немцы подрывают исторические кварталы. Они силились представить это, и их пробирал ужас. Как ни вдалеке от событий они были, но они словно бы видели, что происходит с до войны цветущей, претенциозной и богатой, и по польски, и по еврейски «снобистской» Варшавой, запечатлевшей в своем облике века имперского величия, порабощения и яростной борьбы за свободу… Да, Варшаве случалось гореть и ранее, еще в прошлом веке русские выясняли отношения с восставшим городом безо всякого сострадания – ровняя с землей и выжигая предместья, многие кварталы центра. Но теперь, из безжалостно льющихся сводок становилось понятно – полыхает и ровняется с землей весь город. От некогда поражающих красотой и величественностью, дыханием времен домов Старого Города и Краковского предместья, Нового Мяста и Лазенок, привокзального центра, оставались лишь остовы или вообще руины. Город переставал существовать, но охватить это умом, поверить в это, не увидев своими глазами, было почти не возможно…
Так – относительной безопасности, в радостях творчества и близости, в надеждах и мыслях о Польше, протекли два года. Когда в январе 1945 Польшу освободили, Войцех и Магдалена практически решили для себя – как только закончится бойня, они подождут немного, осмотрятся и вернутся. А в июне Магдалене предложили поступить на преподавание в консерваторию… такой удачей, пусть даже на время, но нельзя было пренебрегать. Потом стали налаживаться дела у него. Они всё равно продолжали переписываться, жить мыслями в Польше, быть в курсе всех дел, нацеливались вернуться и не скрывали этого. Лер-Сплавински, от письма к письму, призывал Войцеха подождать, «ибо зная натуру пана профессора, которая навряд ли переменилась, уверен, что ему приспособиться к новой Польше будет не легко». Опять ждать… проклятое «ждать»… Они ждали, и жизнь их стала во время ожидания всё более налаживаться. Приросшим в Западной Европе Войцех ощутил себя после успеха его книги и восстановления в профессорском звании, после покупки квартиры… Внутри что-то словно надломилось, почувствовалось – у чужого берега брошен якорь, корни пущены на чужой земле, которая – в том-то всё и дело! – всё равно скорее всего не станет никогда своей… Но надежда и желание вернуться всё равно жили… Второй удар Войцех получил в 49-ом, в одном из писем Лер-Сплавински, в котором пан ректор, а ныне просто профессор родного Ягеллонского университета сообщал спасенному коллеге, «что по причине некоторых его публикаций и в польских и еще более – в западных изданиях, имя и философия профессора Житковски ныне клеймятся ярлыком „буржуазного реакционизма и декадентства“ и в практическом отношении, для карьеры и судьбы пана профессора в случае его возвращения, это не будет означать ничего хорошего». Отчаяние и тоска по Польше, ощущение, что если они не вернутся сейчас, то не вернутся уже никогда, целиком захватили их летом 51-го. Они решили – поедут в отпуск на полтора месяца, посмотрят и постараются прочувствовать жизнь, и если ощутят, что сумеют устроиться, то вернутся, чтобы там ни было. Плевать на всё – на статус обоих и гонорары Войцеха, на широкую известность, которую приобретали в Западной Европе и США его работы, на корни в Женеве и завоеванное уважение новых коллег, на многое. С собственностью – потом разберутся. Главное – почувствовать, что они смогут более-менее полноцено жить на Родине, обеспечить будущее Юзефу, заниматься по настоящему делом. Они выправили визу, доехали до Вены, собирались ехать через Прагу и Остраву – повторить путь их спасения и бегства, но уже совершенно другими глазами… А в Вене – отбили Лер-Сплавински телеграмму, где сообщали о приезде… В тот же вечер им в гостиницу пришла телеграмма-молния, подписанная именем Тадеуш Лер-Сплавински – «друзья, умоляю вас хранить себя, не делать глупостей и помнить об обстоятельствах девятилетней давности». Более внятного предупреждения об опасности получить было нельзя, они не рискнули и вернулись в Женеву. Лер-Сплавински уже второй раз спасал им жизнь. Позже они узнали, что тот год, в который они решили, по принципу «будь что будет», попытаться вернуться в Польшу, во всех странах социалистического лагеря был пиком политических репрессий и Войцеху, попади он даже как швейцарский к тому времени гражданин в родную страну, светило бы весьма трагическое будущее. Для такого «будущего», по иронии судьбы, было бы достаточно одного его участия в работе СВБ и Армии Крайовой, а весь остальной – довоенный, оккупационный и послевоенный антураж жизни, облика и творчества пана профессора, конечно бы довершил дело. Они возвратились в Швейцарию, продолжили там жизнь и работу, понимая, что вернуться в Польшу не решатся и не смогут наверное уже никогда. Они приедут в Польшу в 1957 году, и впоследствии будут приезжать туда часто, но об этом будет сказано чуть ниже.
А что же Магдалена? Неужели Войцех забудет о неоднократно произносившейся им мысленно клятве жить ею, ее будущим и надеждами, возрождением ее для творческой жизни? Неужели забудет, что именно об этом думал в ту страшную, могшую стать роковой ночь, когда шел с двумя «соратниками» из польского подполья к реке? Ну конечно же нет…
Жизнь и судьба Магдалены, собственно, начнут налаживаться даже раньше, чем у Войцеха, как уже сказано. Вдохновленная всё же состоявшимся вместе с Войцехом опытом чисто исследовательского, философского по сути творчества, она продолжит это и далее – в диалоге с профессором Войцехом Житковски, ее до беспамятства любимым мужем, но уже самостоятельно, нередко не соглашаясь и споря с ним. Творчество книг и исследования, преподавание теоретических дисциплин станут тем содержанием ее жизни, которое более никогда не позволит ей ощущать свою жизнь безликой, серой и лишенной смысла… Но всё же – в ней останется не реализованный, не нашедший выхода талант и темперамент исполнительницы, которая могла стать гениальной, жила внутри музыки, мыслила и говорила музыкой о самом личном и важном, понимала и ощущала музыку как речь… Очень часто она будет останавливаться возле классов, в которых занимаются солисты, вслушиваться в звучащую игру… Это будет причинять жгучую, нестерпимую боль, но тяга к живой музыке всё-таки пересилит и она начнет заходить в классы, получит разрешение оставаться, наблюдать и слушать. Будет слушать игру молодых людей, объяснения их педагогов, понимать мучительно, какой же талант заживо погиб в ней и на какой высоте трактовки и виртуозности находилось ее исполнение… Ведь она очутилась волей судьбы по истине в страшном положении – обладая невероятной силой личностных, нравственных, творческих побуждений, на переделе глубины и накала ощущая жизнь, мир и саму музыку, была лишена того таланта, который единственно позволял ей в полноте и экстазе выразить, воплотить всё это. Она была подобна пророку, обреченному на вечную немоту, солисту, лишившемуся в расцвете карьеры голоса, ничего больше не могущему в жизни, и потому не способному более наполнить жизнь смыслом. Скульптору, оставшемуся без рук и до конца дней обреченному лишь выть от бессилия, не от физической, а от нравственной и личностной немощи. Это действительно оставалось проблемой и довольно трагической, ибо сила рожденного и написанного слова, которой она, благодаря Войцеху, теперь научилась творчески жить, всё же не могла до конца выразить артистической, разносторонне творческой личности, какой была нынешняя фрау Магдалена Житковски, урожденная Збигневска, дочь Юзефа и Марии Збигневских. Это была проблема, и проблема эта была долгое время неразрешима, ибо если писать и печатать Магдалена с участием правой руки могла, то извлечь той какие-то полноценные звуки было ей недоступно, а учиться играть только левой, даже невзирая на наличие серьезного репертуара, категорически отказывалась. Левая рука служила только тем нуждам, которые возникали в ходе преподавания теоретических дисциплин. Долго она не решалась давать какие-то советы – ее имя не успело долететь из Польши до этих мест и никто не представлял себе, чем была ее игра, а ныне она была неспособной пробежать даже простые пассажи. И тем не менее – однажды, когда это всё же случилось, ее советы, понимание и чувство музыки показались студентам очень глубокими и дельными. Ее стали просить давать советы, немало студентов стало негласно посещать их с Войцехом дом, заниматься в ее присутствии и под ее указаниями. И хоть она невероятно стеснялась по началу своей немощи, пианисты стали просто валить к ней толпой и вместе с ней, в тайне от их основных педагогов, готовили наиболее серьезные выступления, ценя на вес золота ее указания касательно трактовки, акцентов, перепадов ритма и темпа, тех или иных приемом и прочего. Ей же всё это стало важным как сама жизнь, любовь к сыну и мужу – пусть не своими, а чужими руками, но она возвращалась в музыку, в смыслы и язык музыки, в таинство исполнения, возвращалась к самой себе, казалось – навеки утраченной и оставшейся лишь в памяти…