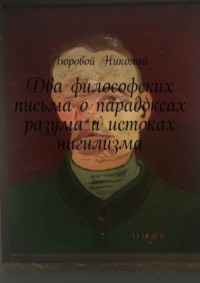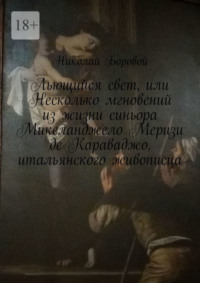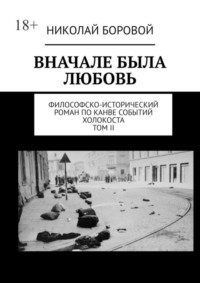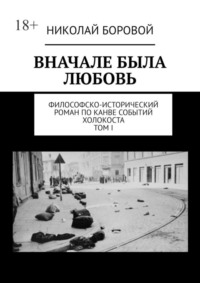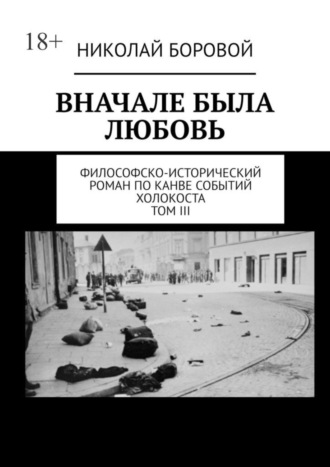
Полная версия
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Магдалена не просто примет приглашение. Она и Войцех буквально ринутся в Польшу, забыв обо всем, и возьмут с собой пятнадцати летнего сына, родившегося поляком, но выросшего швейцарцем. Да, времена конечно уже будут не те и тревога, чувство опасности, исходящей от родной, но ставшей какой-то совершенно иной и неведомой страны, будут уже не так терзать, парализовывать волю, отнимать решимость. И тем не менее – забыв обо всем, они оба поедут в Польшу и двигать ими будут лишь какой-то небывалый, чуть ли не сводящий с ума порыв, торжествующее в их душе, трепетное ощущение «наконец-то!» и предвкушение долгожданной, казавшейся уже несбыточной встречи с родной страной, с которой некогда так трагически разорвалась связь. Они отправят телеграмму о приезде Лер-Сплавински, с которым переписывались все эти годы, и получат ответ «Дорогие мои, жду обоих с нетерпением, обнимаю и целую». Они пробудут в Польше полтора месяца. Магдалена даст девять триумфальных выступлений, о ней, ее судьбе и игре, пронесется целая кампания в прессе. В эти годы Польша наконец-то начнет потихоньку стряхивать кошмарные наваждения, грозившие целиком поглотить ее в начале 50-х… В ней начнет просыпаться и закипать фрондерство, которое окончательно прорвется ровно через двадцать лет. Первые ласточки появятся еще в 54-м, а в 56-м году, вместе с восхождением Гомулки, начнутся действительно ощутимые преобразования, которые затронут самые разные стороны жизни – от заметной деидеологизации академической и творческой сферы, восстановления практики плюрализма и общественной дискуссии, до многочисленных реформ в экономике и повседневности. Поляки вернут себе право протестовать и миллионами выходить на площади. Всё это конечно будет обнадеживать, ибо прошедшие с конца войны годы убеждали в том, что страна попала «из огня в полымя» и оказалась обреченной на хорошо отработанные и проверенные кошмары тоталитаризма с другим цветом, который принесли с собой «освободители». Собственно – именно эти обнадеживающие перемены и позволили Войцеху и Магдалене немедленно решится на поездку в родную страну. Во всех таких переменах поляков в особенности начала волновать судьба соплеменников, ветрами и волнами трагических событий выброшенных из родной страны, нашедших не просто приют, но и насыщенную творческую жизнь в Западной Европе. Укрепление связей с ними тоже станет разновидностью «фрондерства» и протеста, превратится в достаточно внятно одобренную новыми лидерами страны политику, и в этом, а не только в трагизме и легендарности ее судьбы, будут состоять причины, по которым Магдалена получит официальное приглашение посетить с концертами Польшу. Войцех приедет в этот раз как частное лицо… Они с Магдаленой встретят и обнимут наконец-то постаревшего, но еще преподающего, не утратившего энтузиазма и огня души, воли к борьбе и серьезной работе Лер-Сплавински. Ведь были бы воля и желание бороться, а времена, к сожалению, в избытке находили с чем именно. Расставшийся с Лер-Сплавински 6 ноября 1939 года, Войцех вновь обнимет спасшего ему жизнь, легендарного коллегу и ректора. Они проведут вместе немало дней и вечеров. Уже в частных разговорах Лер-Сплавински, считавший спасение Войцеха одним из самых важных и достойных дел, которые сумел сделать в жизни, подробно расскажет ему о том сложном, противоречивом, подчас откровенно трагическом, что происходило за минувшие годы со страной. О послевоенных репрессиях, длившихся и после смерти Сталина. О гонениях и кошмарах времен Рокоссовского и Берута, когда Польша фактически превратилась в такое же тоталитарное государство, которым был СССР, в подобный предвоенной Чехии «протекторат» коммунистов. О судьбе евреев на изломе десятилетий – как дети в материнский дом, возвращавшихся в Польшу несмотря ни на что, и вновь находивших в ней лишь гонения. О том, что эти гонения были особенно сильны даже тогда, когда репрессивный аппарат возглавляли сами евреи-коммунисты, на когорте которых держался просталинский режим. Что после смены курса в самом СССР, коммунисты попытались сохранить у власти консервативные силы, и делали это именно в попытке сыграть на антиеврейской карте и жажде возмездия. Что ничего не вышло и ныне, вместе с Гомулкой и общей либерализацией польской жизни, пока слава богу торжествует и лояльная, разумная политика в отношении к еврейским гражданам. В этом, как объяснил Лер-Сплавински, и была причина, по которой он тогда, в 51-м, так отвращал их от приезда, а ныне – был счастлив их встретить и обнять, ибо считал, что для этого и в самом деле пришло время. Войцех будет полон сильных, зачастую противоречивых и смятенных переживаний… Все предшествовавшие годы он в целом довольно ясно догадывался, что происходит в родной стране – этому способствовали и общие новости, и намеки, которые, стопроцентно доверяя ему, допускал в письмах Лер-Сплавински, однако услышать шокирующие, не вызывающие сомнений подробности, было тяжело… Что-то подобное он предчувствовал… Освобождение фактически стало новой оккупацией, ввергло страну в тот же по сути тоталитаризм, которым всё время – и между двумя бойнями, и после последней, самой страшной, жили русские… Да и могло ли, собственно, выйти как-то иначе?.. Его Родине вновь выпали тяжелые, быть может даже трагические испытания, в которых она должна была проверить и подтвердить ее гордый, свободный, почти во все времена непокорный дух… У него давно зародилась мысль, что в продолжении этих испытаний заключены ее расплата и какая-то толика ее собственной вины, а не только беспощадное и необоримое движение «жерновов исторической судьбы», колес глубинных исторических процессов, конечно имеющих место быть… Что долгое отсутствие у поляков и их, скрывающихся в подполье и сидящих в Лондоне вождей, надлежащей решимости бороться за свою свободу пусть даже кроваво и отчаянно, но самостоятельно, в конечном итоге сыграло роковую роль – сломило национальный дух и волю к свободе, привело лишь к смене одних поработителей другими, сделало это возможным… Конечно – помимо много иного… Он не был до конца уверен, что эта мысль верна, но одно мог сказать – она приходила ему на ум часто… И вот – он был внутри родной страны, долгие годы мучившей вопросами и догадками, ставшей за время разлуки какой-то совсем другой, и мог наблюдать, вдумываться, пытаться делать выводы… С одной стороны – Польша, представшая его глазам, была в гораздо большей мере полна былым духом борьбы за свою свободу, чем та запуганная, парализованная в ее воле, пребывающая в глубочайшем шоке страна, которую он помнил в годы оккупации. Это вселяло в сердце радость и надежду. Войцех вспоминал то, что говорил многократно – рано или поздно поляки сумеют отстоять и вернуть себе свободу, за которую столетиями боролись по истине героически и отчаянно, не считаясь с приносимыми жертвами и проливаемой кровью. И глядя на воспрянувшую Польшу конца пятидесятых он понимал, что и вправду был душой, умом и сердцем поляком и хорошо понимал суть и дух родной страны, и прочувствованное, предсказанное им в самом начале трагедии, сохранившееся как вера в течение последующих лет, действительно когда-то сбудется. С другой стороны, он задавал себе вопрос «когда», и зная уже с «обеих сторон», что происходит, понимал, что ответом будет одно и печальное: не слишком скоро… Перед Войцехом был мир, жестко разделившийся на два яростно конфликтующих лагеря, и невзирая на все возможные надежды, веяния «оттепелей» и «весен», «послаблений» и «возвращения к свободам», обещавший быть таким еще долго. А значит – надежды на настоящие и необратимые перемены к лучшему были в основном призрачными. И в этом же, понимал Войцех, обещали перерождаться, быть может до неузнаваемости изменяться страны, оказавшиеся под тоталитарным советским сапогом, и один господь бог лишь знал, чем станет в грядущих годах и испытаниях Польша, насколько она сумеет отстоять себя и свою свободу, память о том, чем она была и должна быть… Пока же – перед ним была страна, которая даже в решимости бороться за свободу и перемены, всё равно была изувечена тоталитаризмом и ложью, и он со всей внутренней честностью, с содроганием и болью понимал, что уже не смог бы жить в ней, бывшей родной для него самого, его жены и бесчисленных поколений его еврейских предков. Он в тайне чувствовал, что быть может и слава богу, что он, с его свободой и бунтарством, с его могучей личностью, не терпящей лжи и нравственной извращенности жизни и дел, не вернулся в Польшу, ибо не смог бы здесь по настоящему мыслить и жить, быть самим собой. Он с горечью и болью уже точно понял в этой, такой долгожданной и взлелеянной в мечтах и надеждах поездке, что сможет продолжить жить и работать, завершить свой путь только там, где ныне обрели корни его с Магдаленой и сыном судьба и жизнь. Это понимание было мучительно, но безжалостно правдиво. И тем не менее – он безоговорочно ощутил, что сколько еще ему, почти шестидесятилетнему человеку, осталось прожить на земле, он должен найти возможность быть близким к родной стране, которая, хоть уже и не могла быть домом для него и его судьбы, но всё же до трепета была ему дорога… Он не раз обсудит это с Лер-Сплавински, с Магдаленой, для которой дорога в Польшу была открыта теперь, кажется, на многие годы, с иными из немногих бывших и любимых коллег, которым он сочтет возможным доверять. Как результат – в польской прессе еще в этот приезд появятся пару статей мужа пианистки Житковски, профессора Женевского Университета, где в исключительно умной и обтекаемой форме, тот выразит восхищение перед внушающими надежду переменами и преобразованиями, которыми ему открылась «социалистическая», послевоенная Польша. Да-да, всё так – «неистовый профессор» будет уже не молод и почувствует свое сердце дряблым от трепетной любви к стране, в которой родился и прожил лучшие годы жизни, и эта любовь пересилит принципы и заставит хоть немножечко, но солгать. И даже сделать это уже публично, масштабно, а не «по мелочи», приняв на себя всю полноту ответственности. Еще одна такая статья, опубликованная в западных и польских изданиях, появится вскоре после их с Магдаленой возвращения в Женеву. Результат будет очевиден и не напрасен – уже на следующий год Войцех приедет в Польшу не как муж пианистки Магдалены Житковски, а в качестве почетного гостя родного Ягеллонского Университета, в рамках программы расширения сотрудничества европейских университетов и «борьбы людей мысли разных стран за мир». Бунтарь и безжалостный, ни с чем не считающийся критик реалий, он будет официально сочтен «прогрессивным» и «дружественно настроенным» деятелем современной буржуазной мысли, и это, как не смешно и не странно, в обходящем романы Кафки мире, откроет ему надежную дорогу в Польшу уже в качестве, так сказать, самого себя… Наконец-то он вновь станет профессором в «альма матер» – ему будет присвоено соответствующее почетное звание, и вновь сможет читать лекции под теми же самыми готическими сводами, под которыми они звучали вплоть до самого последнего, рокового дня 6 ноября 1939 года… Однако – о горькая ирония! – теперь уже его статус как швейцарского гражданина и профессора Женевского Университета, широко известного в «западном мире» философа, в родной стране и в родном городе, под сводами ставшего для его судьбы почвой Ягеллонского Университета, будет защищать его право на свободу мысли и совести, свободу самовыражения…. С этих пор и вплоть до конца жизни, он и Магдалена каждый год будут приезжать в Польшу, Магдалена же со своими выступлениями будет делать это иногда и по нескольку раз. Вскоре после их первого приезда, Войцех, неожиданно для себя, напишет и выпустит объемное философское эссе о «драме корней и истоков», о сути и границах ощущения человеком своей «национальной сопричастности». Эссе будет полно бурлящих и противоречивых мыслей. Автор будет подчеркивать возможную глубину и сущностность связей человека с пространством той или иной национальной культуры, проистекающую из историчности индивидуального существования человека, проблемы языковой идентичности и подобного, при этом – станет настаивать на общечеловечности экзистенциального сознания и самосознания, на личностном в человеке как том в нем, что «наднационально» и единит его с другими людьми поверх любой национальной и социо-культурной идентичности, неумолимо возводимых ею, подчас подлинно и трагически опасных барьеров. В известной мере – «красной нитью» через текст будет проходить многократно и на разные лады повторяемая автором мысль: дом человека и его судьбы возможен только там, где человек может быть самим собой, обладает правом на достоинство и свободу, возможностью жить настоящей, внутренне честной и творческой жизнью…
Вообще – трудно передать словами сонм могучих, волнительных и трагических, радостных и страшных переживаний, которые будут переполнять Войцеха и Магдалену во время их первого приезда в Польшу, когда они будут вновь шагать по тем же самым местам, с которыми были связаны многочисленные мгновения и события их жизни. Когда они будут проходить по знакомым с детства краковским улицам и аллеям, стоять под сводами Университета… Быть может – этого и не стоит делать, ведь подобное понятно и без слов… Их потрясет вид во многом утраченной и разрушенной к освобождению, с претензиями на величие «осовеченной» за все последующие годы Варшавы… Войцех пройдет по тем улицам, на которых он, «молочник Гжысь» и связной подполья, изо дня в день, под носом у немцев и рискуя, делал свою работу… где после находилось самое сердце Варшавского восстания… Он будет узнавать дома, окна и подъезды… станет вглядываться в окна и представит, что наверное – некоторые из тех людей быть может еще живы, но только навряд ли решатся узнать в респектабельном пожилом человеке «с Запада», профессоре и муже гастролирующей пианистки того грубого, странного и угрюмого «пана Гжыся», у которого они покупали молоко в годы оккупации… Войцех пройдет по улицам, на которых располагалось выжженное немцами в 43 году гетто… Те места, которые лишь оживали в их с Магдаленой воображении во время радиосводок в лагере для беженцев, предстанут их глазам вживую, как свидетели и жертвы страшных, развернувшихся в те годы событий. Он будет плакать и думать о Кшиштофе, стоя на маленькой площади между Мокотовым, западной границей еврейского гетто, и Старым Мястом, и глядя на табличку, сообщавшую о расстреле на этом месте десятков бойцов и участников Варшавского восстания. О судьбе Кшиштофа из писем Лер-Сплавински он знал в общих чертах давно. Выйдя на свободу из Дахау зимой 1941 года, гордый и благородный душой шляхтич, Кшиштоф желал бороться или подобно ему самому – чем-то похожим на активную борьбу сохранять достоинство и лицо. А потому, похоронив в начале весны 1943 года очень старого отца, он немедленно перебрался в Варшаву, где шансов и надежд на настоящую борьбу было гораздо больше, решился взять в руки оружие, в конце апреля и первой половине мая был одним из немногих бойцов Армии Крайовой, которые были приданы в помощь отчаянно и напрасно, с достоинством и оружием в руках погибавшим бойцам еврейского восстания, сражались с ними совсем недалеко от этого места, на главной Площади Мокотова, у ворот гетто плечом к плечу. А во время самого Варшавского восстания молодой, тридцатипятилетний Кшиштоф, блестящий и перспективный ученый, вместе со множеством подобных ему польских интеллигентов, сохранивших мужество и национальный дух, безвестно пропал в одной из множества стычек с немцами в центре города, наверняка погиб или был схвачен и в последствии замучен либо просто расстрелян. И стоя возле братской могилы безымянных бойцов варшавского восстания, Войцех, который к шестидесяти изрядно растолстел и обрюзг, со всей неискоренимой и неостудимой «неистовостью» его сути, души и ума, стал поэтому не просто похожим на доброго и пузатого дедушку, настоящего немецкого «герра профессора», но в особенности сентиментальным и дряблым сердцем, не стесняясь жены и подросшего сына плакал, лил из под очков слезы, трясясь щеками и грудью, потому что вспоминал очень близкого, дорогого друга молодости, который вполне мог погибнуть, в последний раз увидеть солнце именно здесь… Он вновь пройдет мимо дома в Казимеже, в котором протекали его детство и юность, и именно после долгих лет разлуки с Польшей и родным Краковом, так хорошо знакомые улицы и дома, площади и переулки, покажутся ему словно бы осколками его судьбы, быть может – свидетелями той, упоминающими о ней таинственными письменами… Они с Магдаленой пройдут возле его квартиры на Вольной, в которой между ними состоялось немало чудесных мгновений любви и близости… Ее окна по прежнему будут выходить на Ратушу, и это будут те же самые окна, покрытые той же, быть может просто облезшей краской… Да вот только жить за ними будут уже совсем другие люди и навсегда исчезли, сгинули во всем, кроме пока еще живой памяти мгновения и события, планы и мечты, надежды и порывы, свидетелями которых они были… Вдоль и поперек Войцех и Магдалена исходят улицы района Подгуже, на которых располагалось краковское гетто… Перед их глазами, как реальные, будут оживать страшные и кровавые, словно бы лишающие последней веры в человека, разум и смысл события, которые происходили там. Жертвы тех страшных лет, принявшие здесь смерть или невероятные муки, будут проходить перед их воображением бесконечными вереницами и у Войцеха, хоть он и не был в гетто, будет достаточно пережитого опыта, чтобы понять и почти наверняка представить, какое страшное зло вершилось между обшарпанными домами… Каждый из них мог быть тем, в котором до последних дней находила спасение и укрытие его семья… И когда он будет проходить по Львовского и Лимановского, по улице Качик или Тарговой, Пивной или Кракуза, он всё будет спрашивать себя и гадать – «этот… или какой-то другой…»? Они посетят монастырь, в котором скрывалась Магадлена, тщательно ухоженные могилы ее родителей, могилу спасшего их пана Юлиуша Мигульчека. Выступления Магдалены, встречи с дорогими людьми из их прошлой жизни, не помешают им посетить в самый первый приезд огромное количество мест по всей стране. Юноша Юзеф Житковски, их сын, почти неотступно будет следовать за ними, приобщаться к таким разным по сути и истории корням своих родителей, впитывать и запоминать, постигать и спрашивать… И конечно…
Да-да, конечно же! Как могло быть иначе?! В один из августовских дней 1957 года, жители окраины местечка Конске, которое в годы войны еще было селом, будут поражены увидеть странную пару, идущую по улице… Уже не молодая, но очень горделивая обликом женщина с изуродованным с правой стороны лицом, неторопясь и пристально вглядываясь вокруг, будет шествовать между солидным, толстоватым, на «западный», «немецкий» манер одетым господином и длинным симпатичным юношей, глазеющими по сторонам не менее, чем она сама. Троица будет казаться настолько «нездешней» и «не польской», принесенной ветрами из какой-то совершенно другой жизни, что ее появление вызовет настоящий ажиотаж и жители окраины местечка будут аккуратно, чтобы не обидеть странных людей, высыпать к своим заборам, всматриваться и задавать в мыслях целую вереницу вопросов. Впрочем – вскоре всё выяснится само собой. Троица дойдет до самых последних домов на улице и постучится в ворота пана Богдана Штыблера… Ворота откроет сам пан Штыблер, невзирая на его почти семьдесят – крепкий и сбитый трудяга, каким он и прожил всю жизнь и ныне, несмотря на годы, обретающийся в своем доме и огромном хозяйстве один. Жена его, Ганка, умерла в начале 50-х, дети уехали в город и лишь старались почаще навещать, а сам Божик, не отстоявший своей земли во время создания «госхозов», но сберегший подворье и дом, решил для себя, что умрет там же, где в труде и поте, с уважением к себе прожил всю жизнь. И вот – кроме него открывать было некому, он растворил старые, оставшиеся с довоенных времен ворота, а дальше… через несколько кротких мгновений старый польский крестьянин, женщина и странный, наверное «немецкий» господин, с криками и слезами бросились друг на друга и долгое время не успевали как следует, вдоволь друг друга обнять. Семья Житковски, невзирая на ограниченность ее времени, проведет в доме Божика три дня… Они вообще будут счастливы одной уже встрече – поди знай, что могло приключиться за эти годы, а уж тот факт, что Божик сохранил здоровье и ясный ум, в три мгновения узнал их и бросился на них с неописуемой радостью, сделает эти дни полными самых человечных и трепетных чувств! О, сколько же будет переговорено, обсуждено и вспомнено, искренне и горько отплакано за эти три дня!.. Юзеф Житковски впервые увидит своего отца таким – разговаривающим «по простецки» и «накоротке» с очень простым же и по видимому очень важным для него, искренне любимым и уважаемым человеком, а кроме того – хлещущим «первач»… Юноше покажется, что отец – человек, как было известно, весьма непростого нрава и отношения к окружающим – ведет себя со старым крестьянином так, будто тот его родной брат или стариннейший и любимый друг, связанный с ним какими-то очень важными обстоятельствами жизни… И точно так же впервые, и мать откроется Юзефу с какой-то новой, прежде неизведанной стороны… И он никак не сможет взять в толк в течение этих трех дней, почему добрый и любящий его отца старик-поляк, всё время зовет отца каким-то другим польским именем… В один из вечеров, понимающе переглянувшись, Войцех и Божик уйдут надолго в одно место на берегу реки, долго просидят под старыми и мудрыми ясенями, много видавшими и таившими в себе… будут и молчать, и говорить, и в конце – хлестать по старинке «первач», и конечно – вспоминать страшное событие, которое произошло в этом месте и до конца дней сделало их братьями… И вот – станет уже привычным, что каждый год «заграничные» друзья пана Штыблера, знакомые ему еще с военных времен, станут навещать его, и раз от разу гостить всё дольше… И еще заметят соседи, что от приезда к приезду этих своих друзей, станет пан Штыблер поправлять там и тут хозяйство, его и без того огромный, вызывающий зависть дом… То крышу поменяет, то прикупит что-то особенное, немногим доступное, а то приведут ему в скотник новую молочную корову-«голландку» – редкость по временам. А уж после лета 1962, когда пан Штыблер купил себе хорошее авто, соседи и вовсе потеряют голову, гадая, чем же обернется для него следующий приезд его «иностранных», «западных» друзей. Перемены начала пятидесятых очень изменят облик бывшего села Конске – многие из старых жителей села переедут, на их место поселятся новые, и никто из близких соседей пана Штыблера не будет знать, что же на самом деле значили в судьбе того люди «из-за границы», которые из года в год, до самой его смерти в 1966 году, будут посещать его, подолгу и тепло гостить в его доме…
Особенно важным окажется визит в Польшу для молодого Юзефа, сына Войцеха и Магдалены. Умный и прекрасно учащийся, хорошо исполняющий на фортепиано, с упоением читающий юноша, очень много будет слышать до этого приезда о Польше, о судьбе и жизни своих родителей, о истории их семей и пережитой их страной во время войны трагедии, и говорящий на польском как на родном, как на немецком и французском, он будет предвкушать встречу со страной, за время его короткой жизни обросшей в его мыслях легендами, фантазиями, мечтами и чем только нет… Однако – пережитое им во время поездки превзойдет все ожидания. Юзеф будет потрясен, ибо история его семьи, такая разная, вдруг обретет для него совершенно реальные контуры улиц и зданий, городов и сел, где когда-то, в жизни его родителей, его далеких еврейских и польских предков, происходило что-то очень важное. Он внезапно ощутит глубокую связь с этой страной, до щемящей ностальгии в душе понравившейся ему, и потребность посещать Польшу станет для него такой же важной, как и для его родителей. Судьба самого Юзефа сложится вскоре неожиданно, но по сути – именно так, наверное, как только и могла… Пишущий стихи, очень рано повзрослевший душой и умом, Юзеф будет разрываться между любовью к музыке и университетским будущим, и родители, конечно же, будут стараться тянуть его каждый в свою сторону. Однако – всё решится само собой… Через полтора года после первой поездки с родителями в Польшу, у Юзефа откроется неожиданный талант – великолепный и редкий, как скажут впоследствие, голос-бас… В 1960 году он поступит в Женевскую Консерваторию, в которой его мать к тому времени уже будет профессором, окончит ее и сделает блестящую оперную карьеру, станет более известным, чем его отец и мать вместе взятые. И в течение всей жизни им будет двигать любовь к Польше, проснувшаяся еще во время самой первой поездки с родителями. Он будет одним из самых дружественно настроенных к Польской Республике международных исполнителей. В отличие от многих солистов из социалистических стран, которые будут стремиться делать карьеру на Западе, бас Юзеф Житковски напротив – будет участвовать в разнообразных программах сотрудничества с польскими музыкальными и театральными коллективами, станет последовательным пропагандистом польской культуры, с восторгом встретит развернувшуюся к концу 70-х годов деятельность движения «Солидарность». В это же время, в расцвете музыкальной карьеры, Юзеф словно вспомнит о том, что его отец – один из крупнейших философов послевоенного периода, и сам он с ранней молодости увлекался творчеством познания и литературными опытами… Скорее всего – просто созреет для чего-то иного и большего, чем просто оперная карьера… Он не станет пробовать себя на поприще «классической», академической философии, но неожиданно для себя начнет запоем писать и превратится в автора многочисленных, исключительно философских по сути и содержанию романов, и с определенного момента его жизнь станет привержена уже двум важным творческим дорогам…