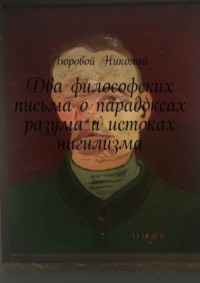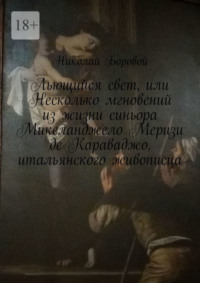Полная версия
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
О его судьбе пан Юлиуш ничего не знал. Знал только, что профессор Житковски не был почему то арестован вместе со всеми и куда-то немедленно пропал после событий. Поначалу вспоминал, часто, и надеялся на лучшее – что удалось быть может пану профессору бежать куда-нибудь из Польши, ибо в ней становилось не выжить… Потом, когда стали страшно и откровенно преследовать евреев, надежды не оставалось… Наверняка погиб пан профессор, так или иначе, либо же суждено ему погибнуть. Судьба профессора Стернбаха, настигшая того еще в «лучшие» так сказать времена, не оставляла думать другого. Оттого-то он и был так изумлен, потрясен и счастлив одновременно, когда увидел пана профессора возле ворот, не так уж прямо и изменившегося внешне… О судьбе пани Магдалены он знал чуть больше – слишком уж известным было какое-то время страшное, случившееся с ней событие, и долго ходили слухи. «Я ведь, голубушка, как и все, наверное, вас давно оплакал. Никто не знает из наших общих знакомых, что вы живы… Наверное, вы и живы еще именно потому, что ваша судьба окутана для окружающих тайной. Страшно с вами судьба обошлась, милая. Но я вижу, вы душой такая же, как и прежде. Знаете, пани Магдалена, ваша королевская красота всё равно никуда не ушла, останется с вами до конца, ведь она была лишь отблеском вашей души и сути, так все думали и говорили. И талант ваш, милая, дорогая моя, верьте – не погиб и не погибнет, обязательно найдет себе не один, так другой выход. Вы главное верьте, милая, я вдвое старше вас и знаю, что вера – не слепая и напрасная, а та, которая всё видит и всё равно остается – это главное. Я так счастлив видеть вас вновь именно с паном профессором! Вы были такой красивой парой и все так радовались, глядя на ваш, так неожиданно состоявшийся союз»… Воспоминания нахлынули на пана Юлиуша при этих словах в особенности, и разговору на некоторое время пришлось затихнуть, чтобы и он, и остальные, могли вернуть себе самообладание…
Они до самого последнего момента не были уверены, что рассказывать пану Юлиушу, а что нет… Магдалена настаивала на том, что надо рассказывать всё, как есть и как сложилась судьба. Будь что будет. Он до последнего сомневался в этом, но в конечном итоге – поступил именно так. Слова о том, что «укрывать еврея – смертельная опасность» пан Юлиуш прервал коротко. «Пан профессор» – сказал он, так неожиданно для возраста засверкав глазами, и потому опустив их – «прошу вас замолчать, дорогой. Мы – поляки. Мы – люди, и все ходим под богом. Я уже слишком стар, чтобы дрожать и из страха предавать старых друзей. А ведь я знаю вас почти всю вашу, жизнь, пан профессор». Это окончательно и убедило Войцеха, что пану Юлиушу Мигульчеку можно и должно рассказать всё. А там – как выйдет. Суждено им быть преданными и выданными, хоть и не верится – так пусть это произойдет здесь, их неискренность не будет тому виной. Они рассказали всё, каждый – со своей стороны и по своему. Он рассказал даже про картину, которую застал в амбаре… Про то, что у Магдалены даст бог, должен быть ребенок. Сказал – «даст бог, что она, ревущая, вот, от одних воспоминаний, больше никогда не подумает и не сделает никакой глупости». А сам в конце разговора, начал, сцепив зубы, лить слезы, особенно – вынужденный рассказывать потрясенному пану Юлиушу события их последнего вечера в Конске… Долгая речь их закончилась, повисло молчание. Войцех дал этому молчанию застыть, сколько нужно, сказал только напоследок – «вот, дорогой, наша судьба, какова она есть, и она теперь в ваших руках… И простите, дорогой мой, что мы подвергли вас, пожилого человека, тяжкому испытанию, познакомив вас со случившимся… навалив на вас и ответственность, и мучительные переживания… Если вы можете по опыту что-то подсказать, помочь уже одним этим или хотя бы чуть-чуть приютив нас и дав перевести дух – помогите, мы просим вас. Но клянусь вам всем святым, пан Юлиуш – если вы не можете или боитесь подвергать себя и ваших родственников опасности, то скажите и мы пойдем дальше, и поверьте, чтобы не случилось – вспомним о вас, дорогой, только с добром и благодарностью». Пан Юлиуш посмотрел на него спокойно и пристально своими, кажущимися из-за очков «рачьими» глазами, и после воцарилось долгое молчание.
Он, пан Юлиуш Мигульчек, шестидесяти трех лет, потомственный краковянин, много видывал и знал в жизни… в непростое время довелось ему взрослеть, на еще более непростое выпала зрелость, а уж кончается жизнь в пору, по истине страшную… Он знал многих и разных людей. Он знал искушенных лжецов, которые выглядели образцами моральности и борьбы за истину. Он знал яростных и записных патриотов, кричавших с пеной у рта о великой Речи Посполитой от Эльбы до Днепра, которые не сумели отстоять свою страну в наставших испытаниях и сидели тихо, счастливые одной возможности выживать и держаться, или вообще стали предателями и коллаборантами. Такими был полон Краков и это была одна из веских причин, по которым он не любил и не хотел часто туда ездить. Слишком больно, нестерпимо больно и горько было видеть всё это. Он, наконец, видывал и таких откровенных, в своей откровенности и честности ни черта, ни наказания не боящихся людей, как пан профессор Житковски, которого он помнил еще студентом. Такие говорят правду, какова бы она ни была, ревностно борются за это, выглядят часто предателями и смутьянами, и часто же и клеймятся так. И всё же – они-то как раз настоящие патриоты и есть, и кто сразу умеет разглядеть и понять это, как он, а кому для этого надо пройти через время и потрясения, отрезвеление и муки совести. Он знал пана профессора еще еврейским юношей, выгнанным из дома и отверженным, с трудом поступившим в Университет. Он был свидетелем всего пути пана профессора, с подчас весьма драматичными поворотами и кульбитами, которыми тот был полон. Пан Юлиуш помнил профессора Войцеха Житковски во все его блистательные, полные труда, творчества, сражений и дискуссий, уважения студентов и коллег, двенадцать лет после возвращения в «альма матер». За это время у пана Юлиуша была возможность с самых разных сторон, во множестве событий и поступков узнать этого человека, множество же раз взглянуть на него со стороны, в том числе и критически, словно проверяя справедливость отношения к нему. Он любил и уважал пана профессора, и верил тому. Даже если бы не было этой их неожиданной и фантастической встречи и он просто узнал о том, что профессор Житковски жив, и ему сказали бы, что тот стал предателем – он никогда в такое не поверил бы. И даже не зная подробностей, услышав подобное от уважаемых и заслуживающих доверия людей – всё равно не поверил бы. Мало ли, что говорят. В этой жизни бывает всякое и для того, чтобы так страшно судить о человеке, надо глядеть ему в глаза. Вот, он уже два дня глядит в глаза пану профессору и бедной девочке, всё так же, самоотверженно и без памяти в того влюбленной, и знает все подробности, даже самые малые. Кажется, что они оба, поверх всех, таких возможных и логичных в этой ситуации опасений, сознательно решили рассказать ему всё, даже самое страшное, словно исповедовались. И пан профессор в особенности не скрывает даже того, как умело научился лгать и выживать за эти годы. И честно оставили ему право последнего решения – верить или нет, и как поступить. И он верит, до конца и безоговорочно. Он слышал только правду и в услышанном – он конечно на их стороне. Да, ситуация у них и вправду страшная, врагу лютому не пожелаешь. Обложены со всех сторон и по разным причинам. А приговор, вынесенный пану профессору подпольем, пострашнее немцев-то будет!.. Где оно, это подполье? Что делает? Походи по Кракову, по улицам и подворотням, по центру и окраинам, ищи и спрашивай – не найдешь. Да, все знают – что-то есть, доходят слухи о каком-то движении, вот – и судьба пана профессора тому подтверждение, но дела, дела-то где? Что, еще не настал час дел, не пришло время? Доколе же? Да, они тут живут возле границы со Словакией и там, слухи доходят, подполье и партизаны начинают поднимать голову, и отсюда туда ходят люди, и что-то несут же с собой, наверное, не просто так ведь. Поговоришь там и сям аккуратно – поймешь. Движение то есть – дела где? Дел не видно и не слышно, а вот поиграть в «предателей Великой Польши» да в «чистку рядов» – это мы, конечно же, мастаки!.. Только последний подонок мог поступить иначе, чем пан профессор. Он бы такому руки не подал, а вот – виновен именно пан Войцех. Что же – такая судьба и такие времена… Но он, сколько дано ему, простому старику сил, постарается помочь детям. Верит им и сколько есть возможностей – попытается не дать их судьбе на растерзание… Они ведь ему и вправду – как дети… он ведь так стар уже, и знает пана профессора почти всю жизнь того…
– А помните ли вы, пан профессор, наш с вами разговор в тот страшный для всех, тягостный день, когда всё началось? Вы тогда были полны пафоса и оптимистичны, говорили непривычное для вас – что Польша выстоит, и даже если и потеряет свою свободу, то всё равно отвоюет. Ибо слишком многое за спиной. И что же теперь? Где всё это, пан профессор?.. И что вам теперь думается? Вы ведь были внутри, хоть сколько-нибудь, но всё же были, и видели своими глазами – так трагически для себя. И у тех, кто тогда выглядел самым записным «патриотом» и «радетелем блага родины», кто больше всего бил ладони, когда Родина вступала в сговор с преступниками и хапала что могла там и тут, «патриотизмом» называется ныне сидеть по углам, полагаться на кого-то, натирать оружие и ждать приказа – какие бы жуткие вещи не происходили перед глазами…
Он видит, как взгляд пана профессора становится таким же, каким он видел тот множество раз – серьезным, глубоким, искренним и убежденным, светящимся готовностью за что-то стоять.
– Пан Юлиуш… я действительно не ожидал, что тот шок, который мы все тогда пережили, окажется таким глубоким и затяжным… так парализует волю, решимость действовать… так возобладает над достоинством и стремлением к свободе, которое двигало поляками полтора века, стало сутью польского духа… Кто же мог предположить, что воля к свободе станет рвачеством и провинциальным империализмом… циничной и беспринципной слепотой, которая в конечном итоге послужит краху того, за что так отчаянно, трагически и долго боролись… Страшные времена настали и длятся, и не мне, голубчик, дорогой вы мой, объяснять вам, что даже если они и закончатся при нашей с вами жизни, то и вслед за ними придет нелегкое, быть может тоже трагическое… Сейчас трудно предугадать и хоть что-то увидеть, но ясно одно – мир уже никогда не будет прежним, каким мы его еще помним и желаем видеть. После ужасов гетто… после того, что делается в Аушвице, совсем недалеко отсюда, о чем знают наверное почти все и даже те, кто хотят изобразить из себя слепых… после всей этой многомиллионной бойни, какой еще не было, откровенного и адского превращения человека и жизни в «ничто», уже никогда ничего не будет по прежнему… И не дано видеть и знать сейчас, что будет, одно ясно – всё будет иначе, и кто знает, в лучшую ли сторону… Переживаемое ныне – самая страшная из известных катастрофа, которая губит в себе то, что копилось и взращивалось многие сотни, если не тысячи лет, точнее – лишь свидетельствует произошедший крах этого. И на руинах, в которые всё окружающее нас не так уж не скоро превратится – верьте, я еврей, и обречен чувствовать кожей, которые лишь олицетворят давно наставшие руины последних ценностей, либо произойдет какое-то возрождение и обновление, отрезвление и возвращение к забытым и утраченным истокам… либо… либо – поди знай, что еще ждет и грядет… То, что случилось – неотвратимо должно было случиться, всё к тому шло… Сила ненависти и отрицания уж слишком страшно и откровенно бурлила, обращалась в безумие то одних, то других идей, в покорность и готовность поступать «как все вокруг», умирать и убивать во имя самых очевидных химер. И вот, глядите – эти химеры и безумная вера в них торжествуют и до сих пор, посреди дышащего кровью ада, не наступает отрезвление, и их по прежнему пытаются воплотить! И ведь верят всерьез, безумцы проклятые, что у того, что покупается ценой превращения сотен тысяч и миллионов людей в пыль, в развеваемый по ветру прах, может быть какое-то будущее! Что уничтожая евреев – а за ними, надо думать, запланирована подобная участь и многим иным – можно что-то «навечно», как они кричат во всё горло, построить, и ждет какое-то будущее, но не самая страшная бездна… «Ничто» стало верой, пан Юлиуш, глядящим на полном серьёзе безумием, и это безумие конечно же ведет в бездну… Какое же будущее может быть там, где человек, неповторимая жизнь и судьба человека превращены в «ничто», утратили всякую мыслимую ценность? Там обезумевший во власти нигилизма мир может лишь изжить себя, привести себя к краху и катастрофе, и только оказавшись на собственных руинах, увы, возможно сумеет понять, что же произошло и что привело к этому. Там может ждать только бездна… и кажется мне, что до тех пор, пока всё наиболее страшно и невероятно не рухнет в эту бездну, не наступит ни отрезвления, ни возрождения и обновления. Безумие вошло в раж и с ним уже ничего нельзя сделать, оно не остановится, пока не уничтожит всё, что дано уничтожить, что вообще возможно уничтожить в его власти. Оно не остановится до тех пор, пока не повергнет в самую адскую бездну, не приведет к какой-то последней точке, за которой будет либо спастись, либо пропасть, погибнуть и быть уничтоженным всему. Отрезвление и осознание наступят, увы, только тогда, ибо тогда уже просто не будет выхода и понять, суметь и решиться увидеть истинные причины произошедшей катастрофы, нужно будет просто для того, чтобы спастись. Обничтоженность человека в мире, бунт человека против существования и судьбы, в которых он есть «ничто», ныне дают свои зримые, страшные плоды, отрицание куражится и торжествует, пляшет последний, гибельный танец, и безумие отрицания и нигилизма зашло слишком далеко. Тот мир, пан Юлиуш, в котором в большей или меньшей степени состоялись наши судьбы, пронизывало глубочайшее, трагическое противоречие, которое ныне доходит и обречено дойти до последней точки, изживает себя и изъеденный, пораженный им, до самых основ изувеченный им мир. Всё происходящее – катастрофа и может закончится только катастрофой еще большей, самой последней. И всё это было неизбежно и неотвратимо, заложено в идеях, в которые свято верили чуть ли не целый век, которыми пытались чертить горизонты и писать лозунги, вдохновляющие «всеобщее движение и развитие»… Ведь подлинная катастрофа произошла гораздо раньше – в торжестве идей, которые в ослеплении казались истинными и ведущими к благоденствию, а на деле были лишь тянущими к бездне иллюзиями, разрушающими и губящими наш мир изнутри, по самой сути его…
Войцех, произнося всё это, разошелся совсем как в былые времена, мысль горит внутри него, льется и несет, и отданный ей во власть, он продолжает:
– Мы были обречены полететь в бездну, так или иначе чувствовали и понимали это, ощущали, что катастрофа приближается – кто по простому, по житейски и обывательски, а кто-то более глубоко, ясно и страшно… Вот, поглядите – мир уже превратился в кровавый ад, а те химеры, которые сделали его таким, кажется стали еще более властными и ни в них самих, ни в необходимости уничтожать во имя них, не возникает и тени сомнения… Разве это не говорит со всей безжалостной ясностью о сути того, что происходит? Что за всем адом событий стоит торжество отрицания и ненависти к жизни, которое долго вызревало в изуродованной, абсурдной, нигилистичной сути окружающего нас мира, и конец которого, увы, еще очень далек, ибо еще не всё возможное оно смело на своем пути? Что ад разверзшихся событий лишь воплотил собой тот ад, которым давно по сути стали мир, судьба и душа человека в нем? Я, не удивляйтесь, при всех обстоятельствах моей жизни много думал и писал об этом в последнее время, я после покажу вам, дорогой… Я не пророк, пан Юлиуш, но уверяю вас – пока создававшееся многие столетия не ляжет в руинах и не превратится в пепел, отрезвления не наступит, увы, и не станет понятно, что подлинная катастрофа случилась гораздо раньше, а пляска смерти, отрицания и фактического уничтожения лишь неизбежно воплотила это. Катастрофа началась намного раньше, чем мы с вами пришли в мир – в овладевших им, изуродовавших его суть и облик, судьбу и место человека в нем идеях. И потому – ад так по настоящему губящих нас и всё вокруг событий был неизбежен… Мы все чувствовали это в той или иной степени, просто старались малодушно прятать мысли и тревоги где-то далеко в себе… Всегда хочется верить в лучшее и наслаждаться тем, что еще дано… Вот и мы с Магдой – не знаем, что ждет завтра, но счастливы каждому дню, и этому спокойному и теплому душой вечеру, и искреннему разговору с вами, дорогой, какого уже давно не было… В одно я, пан Юлиуш, как и тогда, свято и искренне верю – наша с вами Родина, наша Польша, через чтобы не пришлось пройти ей, выживет и выстоит, сохранит себя и свой дух, сохранит волю к свободе и рано или поздно – но завоюет ту и добудет, пройдя через очередные испытания судьбы и многое выучив в них. И вновь рано или поздно станет местом, в котором человек сможет быть человеком, обладать достоинством и свободой… А уж сколько пройдет времени… это, голубчик, невозможно знать ныне… мы ведь с вами навряд ли знаем, что будет и ждет нас даже завтра. Я весь перед вами, пан Юлиуш… Вы знали меня всю жизнь, вы знаете теперь и мое страшное, жуткое настоящее, которое мне же самому иногда кажется сном, поверьте… И тем не менее – я искренне верю в то, что сказал. Знаете, дорогой… вот я сейчас под польским небом превратился в загнанного зверя, которому нет пристанища и которого не должно быть, и бедная моя девочка – со мной вместе… просто потому, что влюбилась в меня когда-то, дуреха, не захотела во имя будущего и спасения забыть, отказаться… Профессор Житковски при этих словах не выдерживает, прижимает к себе Магду, делает паузу… А я, безумный, только сейчас понимаю, как люблю Польшу и как связан с ней… Вот я – еврей и значит, где-то космополит, да и те идеи, за которые я свято ратовал, вы помните, подразумевают общечеловечность в ощущении и осознании людьми себя… Вообще, вы знаете – слово «патриотизм» для меня всегда было как красная тряпка, ибо я слишком хорошо понимал и видел, что за ним стоит… А вот же…
Все помолчали, задумчивые и растревоженные в самом главном и животрепещущем, а после пан Юлиуш произнес:
– Думается мне, пан профессор, что не завтра, ибо поздно уже, и я, старик, не успею как следует отдохнуть, а послезавтра, поеду я в Краков… Пан профессор – если у нас с вами есть какой-то шанс разрешить эту ситуацию или хотя бы увидеть возможный выход из нее, то мы должны положиться на ум и опыт пана ректора. Да, именно так. Поверьте – я знаю пана Лер-Сплавински уже и в самых страшных обстоятельствах, в которых его не видели и не знали вы, и не сомневаюсь, что он в данном случае – тот единственный человек, на которого можно положиться. И если кто-то, дорогой пан профессор, способен помочь вам с пани Магдаленой, то только он… с высоты его опыта и возможностей, поверьте, всё может предстать иначе. Только ему я расскажу вашу с пани Магдаленой историю, расскажу всю целиком, как она мне увиделась и запомнилась, здесь уж вам придется довериться мне. Я считаю – не может быть такого, чтобы пан ректор не поверил вам, не проникся до глубины души и не захотел вам помочь, как это будет в его возможностях и силах! Поверьте – его страшно мучает происходящее вокруг и обреченность по большей части, увы, бездействовать, и возможность помочь одному из самых любимых и уважаемых коллег, будет для него счастьем! А он, поверьте, именно так и относился к вам и только так воспримет пусть и не легкие, но всё же радостные новости о вас! Чтобы там ни было, пан профессор, вы ведь живы!.. Будь вы тогда арестованы со всеми, оставайся вы в Кракове – вас бы уже не было на свете… И одно то, что вы живы, пусть даже много трагического и страшного произошло с вами – это великое чудо…
Так это и было тогда решено. И три дня назад пан Юлиуш действительно поехал в Краков и вернулся оттуда только на следующий день. Ушел отдыхать, а глубоким вечером, за плотно закрытыми шторами, сидел с «паном и пани Жижетски», «ищущими покоя представителями старинного рода», делился новостями и впечатлениями, и главным – встречей и разговором с ректором Лер-Сплавински. Впрочем, на это главное беседа вышла не сразу. Магдалена и Войцех не видели Кракова три года и не успев сделать этого в первых разговорах с паном Юлиушем, по возвращению того из Кракова и сами не заметили, как накинулись на него с расспросами. Что, как? Они буквально глотали рассказываемое паном Юлиушем, их интересовало практически всё, даже самое обычное и простое – как выглядят улицы, многое ли изменилось в облике города и его главных мест, в образе и порядке жизни? Не разрушено ли не дай бог что-то по каким-нибудь причинам? Казалось – они жадно впитывали каждую, даже малую подробность, которая немедленно оживала в их воображении, и вместе с потоком таких подробностей, самых разных, оживал в том и любимый город, с которым оба были связаны судьбой, жизнью и истоками, лучшим и наиболее дорогим из пережитого. Их глаза загорались от капель информации, они словно были там – возле древних стен, под громадой Вавеля, под любимыми обоими ясенями на окаймляющих Старый Город аллеях, на булыжнике и мостовых улиц, с которыми срослась их жизнь. Что-то подобное они испытывали несколько дней перед этим на станции Величка, по дороге в Закопане… Краков был совсем рядом и буря чувств и воспоминаний нахлынула, грозила унести уже тогда. Но тогда они бежали и спасались, каждая секунда их жизни висела на волоске, было не до того и они сумели взять себя в руки и пересилить чувства, сосредоточиться на главном. А вот теперь, пусть в мизерной, но всё же безопасности, внутри общения и событий, которые в любом случае возвращают, с головой окунают в прошлую жизнь, неразрывно сплетенный с ней город целиком захватил их обоих, ожил в воображении. И с трудом сдержанный чуть прежде поток чувств, взволнованных и жадных вопросов, в этот раз целиком поглотил и понес их, и нес довольно долго. Как там здания Университета? Что в них? Госпитали… А много раненых в Кракове? Войцех хорошо знал эту сторону жизни во время войны и под оккупацией, ибо Сродместье было полно госпиталей и раненых, и приблизительно представлял, что Краков, пусть и меньше, чем Варшава, но всё же набит ранеными, ставшими неотъемлемой частью его облика. А вот Магдалене, два года просидевшей взаперти в монастыре, было сложно вообразить это, и она жадно выспрашивала подробности. Собственно – о том, как выглядят Польша и жизнь поляков в самый разгар оккупации и кровавой мясорубки, она знала только из того немного, что успела увидеть по пути их бегства из Варшавы в Конске, а после – из Конске в Закопане. Одно дело – новости, которые приносятся из-за стен монастыря, куда ее за всё время выпустили несколько раз и то очень недалеко, или слышатся из подпольного вещания Радио Польске, а совсем другое – жизнь и действительность, предстающие глазам, сообщающие подчас гораздо больше, чем самые подробные новости и слухи. И хоть во время последнего бегства они повидали чуть больше, этого конечно было недостаточно… А как вообще?.. Люди выходят по вечерам на улицы, или уже давно не ощущают город своим, унижены и затравлены страхом, и норовят, от греха подальше, с работы – скорее в дом? Он то знал ответ, ибо прожил в Варшаве почти два года, видел жизнь и центра, и окраин, и был уверен, что жизнь людей в Кракове и любом другом большом польском городе навряд ли чем-то отличается, а в Кракове, столице генерал-губернаторства, с заботой о безопасности наводнивших город немцев – так наверное даже и хуже. А Магдалене было важно спросить, услышать слова человека, который хоть и не часто, но видит город своими глазами, ощутить в его ответе реальную жизнь… Был ли пан Юлиуш возле гетто, или за важностью приведших его в город дел, у него не было возможностей и сил? Бывал ли там раньше? Как там вообще – страшно?.. Что об этом говорят?.. Странно, подумал Войцех, что только сейчас он вывел разговор на эту тему… ведь она связана с ним животрепещуще… Там, в гетто за Вислой, наверное находится сейчас его семья, если только судьба и бог еще сохранили ей жизнь и от нее хоть что-то осталось… Он, Войцех, конечно хорошо знал подробности жизни и судеб людей в гетто – об этом знала и говорила вся Варшава, тем более, что в самом гетто было подполье, которое регулярно передавало довольно подробные сообщения. И тем более, что раз в два дня он торговал буквально метрах в двухстах от стен гетто, северо-восточного угла того – когда стоял с телегой в Новом Мясте, на углу Самборской и Рыбацкой, и плелся туда и обратно практически в видимости стен. И такая частая и непосредственная близость этому месту, постоянные разговоры людей, поневоле слышимые, позволяли составить страшную, безжалостно правдивую картину, ощутить дыхание того, что там происходит. Войцех с трудом представлял, как выглядит близкое к Висле Подгуже, превращенное в гетто, мог лишь попытаться сделать это, исходя из опыта, из того, что видел в Варшаве… Тихий прежде райончик, превратившийся, наверное, в набитый людьми, окутанный их муками муравейник… Он редко бывал в том районе, чаще лишь видел тот с другого берега Вислы, и последний раз, помнилось ему, это было как раз в знаменательный день 17 сентября, когда Советская Россия вторглась в Польшу с Востока, а он, под наплывом переживаний и тревог, впервые за многие годы решился поискать встречи с отцом… Да, тот день и глаза отца в здании «Еврейского комитета», полные нисколько не ослабевшей с годами, кажется даже еще более яростной и непримиримой ненависти, врезались ему в память, останутся в ней до конца. Возможно, он потом еще пару раз проходил по Подгужской, по восточной набережной Вислы, скользя взглядом по бедному району на другом берегу, а дальше – было уже не до того… Начался учебный год, в несколько мгновений он остался без квартиры, случились тот роковой, так поменявший его судьбу вечер 6 ноября и поспешное бегство из Кракова… И хоть он много слышал о краковском гетто за эти годы, представить себе, как оно выглядит, мог лишь в общих чертах. А вот представить, что происходит там, как обращаются там с людьми, мог более чем хорошо, ибо знал, доподлинно и наверняка, что творилось в еврейском гетто Варшавы… Вообще – было невероятным, что он более года торговал и ползал с телегой по центру Варшавы, до верху набитом немцами, в содрогающей близости от гетто, в котором в это самое время гибли от голода и расправ десятки тысяч таких же, как он, изо дня в день проходил мимо многих постов с патрульными, и умудрился не вызвать подозрения и не попасться… Он не видел реальных картин жизни в варшавском гетто, но очень много доподлинно слышал и представлял себе. Он не знал, были ли среди связных, которым он передавал и у которых иногда принимал сообщения, еврейские подпольщики из гетто… Вряд ли – никто не стал бы подвергать его работу такому откровенному и напрасному риску, она была нужна для гораздо более важного. Он попал в Варшаву как раз в то время, когда немцы начали создавать гетто… Его поселили в Охоте, довольно далеко от места основных событий, но он помнит колонны людей, со своей поклажей тянущихся с разных сторон к отведенному им закутку. Очень многие из них наверное тогда мечтали бы о счастье быть задействованными в подполье, ибо невзирая на весь риск, это всё же была возможность спастись, избежать уготованной участи. Уже к лету 41-го по всей Варшаве ползли слухи о страшном голоде в гетто. О таком голоде, который не просто заставляет людей иссыхать и страдать, утрачивать достоинство и человеческий вид, а каждый день безжалостно уничтожает их многими сотнями. До конца 41-го, пока за нахождение вне пределов гетто без разрешения не стала грозить смерть на месте, ему часто попадались на глаза люди с бело-голубой повязкой на рукаве, отчаянно пытающиеся что-то продать, раздобыть какую-нибудь еду для себя и близких… Их лица говорили о их жизни и положении гораздо больше слов и слухов. Конечно – они не подходили к его телеге, он видел их в основном проходящими вдалеке, мимо… Очень часто содрогался, видя их, ибо еще с краковских времен должен был носить такую же точно повязку и быть там же, где они, делить с ними одну участь, и понимал, что от этого его отделяет лишь прихоть случая. Впрочем – реши случай поиграть с ним, и его ждали бы пытки и смерть… это утешало совесть… и в минуты даже самого сильного страха, казалось ему участью лучшей… Теперь же, посреди разговора, в котором перед глазами как живой вставал Краков, Войцех вдруг кожей ощутил и представил, что та же самая страшная доля конечно настигла и евреев краковского гетто, и его семью – вместе со всеми… Пан Юлиуш не мог сказать многого… Он знал то же, в конечном итоге, что и все. Что евреев массово депортировали все годы, продолжали делать это в том числе и тогда, когда цветущее до войны еврейское население превратилось в кучу обездоленных, затравленных, измученных голодом и унижением страдальцев, запертых в маленьком закутке гетто, не знающих, какая судьба их ждет завтра. Что в начале июня много крови лилось на улицах гетто и чуть ли не половина его жителей была вывезена… Пан Юлиуш не смог договорить – всем было понятно, куда и на что, и не было сил произносить это адское, не укладывающееся в мысли и самое больное воображение… Тем более, что речь шла уже о возможной судьбе близких, родных, множества общих знакомых… Войцех вспоминал всё виденное и слышанное и понимал, что шансы для его семьи оставаться до сих пор в живых были мизерны и скорее всего – уже случившиеся события стали для его родных судьбой… Впрочем – через какое-то время разговор утих, а после – сам собой вышел на главное для них в данный момент…