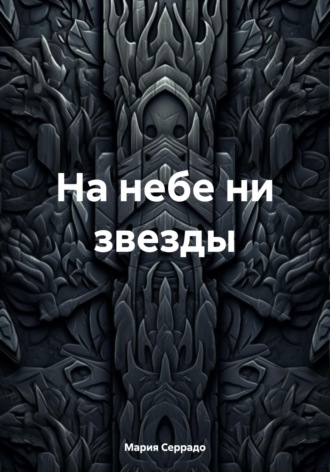
Полная версия
На небе ни звезды
Этот издевательский хохот окончательно вывел Александра из себя, доказав его абсолютную беспомощность и бесполезность попыток как-то подействовать на этого человека. Все разбивалось о каменную стену несгибаемого упрямства и презрения ко всему похожему на искреннее участие с его стороны. И это никогда не кончится.
А хотел ли он, чтобы это заканчивалось? Он часто думал об этом и не мог дать себе однозначный ответ. С ним происходило ровно то же, что и со всеми: страшная сила привычки поглощала его и заставляла хотеть продолжения этого мучительного состояния из страха перед тем, что будет, если все резко изменится. Он не знал, как будет существовать, если в один момент взять и окончательно разделить их жизни. Это исковерканное, неправильное и до предела затянутое вокруг его шеи единство причиняло ему боль почти физическую, оплетало его колючей проволокой, и одна часть его существа усиленно пыталась высвободиться и, наконец, прекратить это, а другая панически боялась освобождения, так как не представляла себе другую жизнь.
Он посмотрел на Виду, надеясь на то, что, как только он взглянет в ее глаза, источающие безрассудный гнев, у него возьмутся силы покончить со всем раз и навсегда. Каждый раз он на это надеялся. Надежда умирает последней.
Когда он заставил себя повернуться, Виды уже не было на том месте, где он думал ее увидеть: она ушла в другую часть комнаты, отделенную от основного пространства тонкой перегородкой. В тот короткий миг, когда он попытался вспомнить, что было за перегородкой, ссохшиеся воспоминания посыпались из ящиков задвинутых архивов, и, ударяясь о стенки его дрожащего разума, расцвели яркими красками прошлого: та же комната, только не темная и удушливая, а светлая, более просторная, не заставленная этими уродливыми шкафами, без разбросанных по полу книг и раздражающего запаха лекарств. Разница меньше двух лет.
В ту же секунду Вида вышла из-за перегородки. Она была невероятно спокойна. Ее сосредоточенный взгляд говорил о том, что ей, пусть с трудом, но удалось взять себя в руки; она смотрела на него без осуждения, без ненависти – даже с какой-то горечью, усталостью, похожей на раскаяние. Еще бы чуть-чуть, и это был бы тот взгляд, за который он был готов простить ей все. Но это был не он – чего-то не хватало, и Александр чувствовал это, как бы она не пыталась изобразить то, что он хотел видеть.
–Я не хочу скандала. Сейчас мы помиримся, – четко и с паузами произнесла она и протянула ему руку, левую, и он это заметил. Вида была правшой и всегда протягивала правую руку. Но тогда что-то было иначе.
Но какая разница? Он отогнал эту бесполезную мысль. Помириться – раньше это казалось ему невозможным, совершенно неприменимым к реальной жизни, а теперь перспектива примирения представилась ему такой близкой, почти осязаемой – он мог протянуть руку и закончить все без боли взаимных обид. Неужели это возможно? Нет, глупость. Все-таки возможно. Бред. Поверить ей? Бред! Поверить ей? Да. Да!
Он сделал глубокий вдох и подал ей руку, и Вида со всей силы сжала его кисть. Неожиданные болевые ощущения на пару секунд отвлекли его внимание. В эти секунды все и случилось: боковым зрением он заметил, как поднялась ее правая рука, в то время как левая удерживала его кисть, и в ней стальным блеском сверкнуло что-то маленькое; потом режущая боль заставила его посмотреть на свою руку, и тогда он увидел, как широкая красная линия прошла ровно от локтя до запястья, прямо по вене. В следующее мгновение Вида отпустила его, и он схватился свободной рукой за рану, но, уже падая на деревянный пол, понял, что не может ничем себе помочь. Он видел, как кровь струилась сквозь его пальцы, но не мог ничего сказать. Голова тяжелела, и спутанные мысли наполняли ее – много всего сразу, но он ничего из этого не мог разобрать. Он видел, как она положила свой изящный нож, подаренный ей на восемнадцатилетие, на столик и начала ходить по комнате, аккуратно обходя его корчащееся на полу тело. Он даже слышал, что она говорила, воспринимал ее спокойную равномерную речь.
–Они же не прямо сейчас придут… – Она открыла тяжелый шкаф. – Мне нужно взять с собой книги. Мне там можно будет читать? Нет, я буду не в состоянии. Ну, если так… Что же еще делать? – Она вздохнула и села на кровать. – Я их здесь подожду, ты не против? – Вида взяла откуда-то свое старое шитье и стала делать стежок за стежком, и звук проходящей сквозь канву нитки казался ему громовыми раскатами. – Умеет шить – этого достаточно. В образовании нет необходимости.
Александр попытался позвать на помощь, но из его горла вырвался сдавленный хрип. Больше ничего нельзя было сделать. Боль не ощущалась. Теперь всем, что он видел, было сплошное черное полотно с изредка пересекающими его красными линиями, постепенно превращающимися в пятна, которые в свою очередь становились похожи на картинки. Вида вышивала, напевая мелодию из детского мультфильма. На первом этаже выкуривал третью пачку их отец. В паре кварталов к западу Генри Филипп изучал справочник по неврологии – включал дополнительный свет, когда перед глазами все плыло от количества таблиц и схем; Валери Астор искала исторический канал, помешивая молочный коктейль. Все эти сценки, как фотокарточки, сменялись у него перед глазами, двигаясь по кругу, и постепенно теряли яркость. Ему сильно захотелось спать, и сон резко поглотил его.
А, может быть, он ни с одним не угадал?
Часть 2
Глава 6
Снова дома
Ноябрь приближается, и всё чувствует на себе его дыхание: порывистое и холодное, то сдержанное, то агрессивное, пробирающее до костей и несущее песок в глаза.
Когда наступает поздняя осень, всегда хочется либо вернуть лето с ранним рассветом, солнцем, цветущей природой и ощущением чистой гармонии, разлитым по воздуху, либо вновь любоваться феерическим листопадом раннего сентября, идти по земле, на которой будто расстелено пестрое цыганское платье. Но время идет своим чередом, потому что цепочка не может быть разорвана. Даже если повернуть его вспять и заставить двигаться в обратном направлении, ничто не сможет измениться, потому что не имеет значения, в какую сторону крутится колесо обозрения, и нет никакой разницы, в каком порядке сменяются месяцы, смысл останется тем же. Каждый долгий месяц нанизывается на другой, дополняя неизменную цепочку из двенадцати звеньев, – цепочку, которая с каждым новым звеном ржавеет.
Все чаще идет дождь, поливая крыши, асфальт и лишенную жизни листву, которую потом разносит по дорогам ветер, постепенно превращая ее в истрепанный ковер, который через какое-то время превратится в черную гниль и смешается с грязью. Слышно, как тяжелые капли бьют по нераспустившимся цветам, ломают их нежные стебли и разбивают бутоны; потом ручьи дождевой воды смешиваются с бесцветным соком полуживых растений и медленно подтекают под пороги домов одним общим потоком.
Изредка можно услышать негромкий, но пронзительный крик стаи улетающих птиц, их затихающий прощальный плач, отражающийся в лужах на асфальте. Независимо от того, любимым или ненавистным было гнездо, его больно покидать. Даже если впереди ждет тепло, больно оставлять холодный мир, частью которого ты уже успел стать. Тяжело покидать место, к которому привык, особенно осознавая, что кто-то останется, и их жизнь продолжит течь в том же ритме, создавая иллюзию надежного постоянства, а тебе придется что-то менять. Но никогда не знаешь, будут ли перемены к лучшему, никогда не знаешь, сможешь ли вернуться назад.
Тучи, готовые рассыпать по земле снег, сгущаются, даже утром не дают увидеть вспышку огня в небе. Новая порция холода, преддверие долгих месяцев без солнечного света. Но даже самые холодные зимние дни не сравнить с ветреными неделями октября, когда каждый день наблюдаешь смерть природы, потерю гармонии. И как ни пытаешься смеяться в такие минуты, понимаешь, что улыбка не будет искренней. Хочется заснуть, заснуть так надолго, чтобы проснуться в теплый весенний день и услышать, как свежие капли ударяются о твердую землю, возрождая в ней жизнь, увидеть лучи света, без препятствий проходящие сквозь белый тюль, вдохнуть воздух, пропитанный бессознательной радостью. Но это будет еще очень, очень нескоро.
Октябрьской ночью в провинциальном городе быстро гаснут огни. Дома окутывает вязкий туман, ветер блуждает по безлюдным улицам, ищет одиноких путников, чтобы просвистеть сквозь их сухие кости.
(Конец страницы)
–Ну и дерьмо… – Валери закрыла тетрадь и бросила ее на стол.
–Ну как, понравилось? – спросил у нее отец, кладя в раковину бокалы.
–Да, вполне так. Думаю, у нее большое будущее.
–Завтра же передам твои слова. Представь, как она обрадуется!
–Да, да… – Она потерла руками виски, в очередной раз пытаясь понять, почему она должна читать ванильный бред, написанный дочерью его коллеги. Анита – то еще имечко. С каких это пор она заделалась литературным критиком? Ноль смысла – фраза, сопровождавшая Валери везде и во всем.
Какая весна? Какая еще бессознательная радость? Она уже успела понять, что здесь никакой весны нет. Если только на словах. Есть зима. А что дальше? Дальше – ни хрена.
–Я пойду. Спокойной ночи, – сказал Альберт, забирая тетрадь.
–Спокойной. – Валери посмотрела на зашторенное окно и различила сквозь плотную ткань очертания фонаря. Ее отец закрыл дверь своей спальни. Он засыпает почти мгновенно. Удивительная способность. Ей показалось, что где-то хлопнула дверь.
Жилище Асторов практически не изменилось с лета и стойко выдерживало порывы ветра и снегопады, хотя как-то раз Альберт в шутку сказал, что дом вот-вот развалится, как непрочная конструкция из карт. Даже он внутренне чувствовал, насколько шатким было их положение.
Для Валери прошедшее лето было настоящим испытанием, сильно поколебавшим ее веру в себя и в свои возможности. Три солнечных месяца в ее сознании превратились в годы, окутанные мраком ночи – мраком абсолютного бездействия и умственной деградации. Когда она вышла на улицу на следующий день после злополучных скачек, Валери будто ступила в пропасть: перед ней развернулась бездонная яма сменяющих друг друга дней, пустых и отвратительно идентичных.
Многие их соседи готовились к отъезду. Кого-то ожидало незабываемое лето в кругу друзей где-нибудь возле теплого моря, поездка по красивейшим городам Содружества или на худой конец долговременный визит в столицу с остановкой в хорошей гостинице, посещением модных магазинов, театральных премьер, вечерними прогулками по мощеным аллеям с горящими всю ночь фонарями. Осознание того, что у них будет возможность хотя бы на время вырваться из этого скучного и мертвого города, на время перестать слышать шум этого холодного ветра, медленно сводящий с ума, уже делало довольными. Валери издалека смотрела на счастливцев, затаскивавших в багажник чемоданы, стискивала в руках кожаную сумку и про себя называла их идиотами, в тайне завидуя им.
Альберт Астор быстро простил ей ту ссору или, по крайней мере, сделал вид, что простил. Он никогда не умел долго таить обиды, мстить людям своим холодным отношением, просто делать кому-то больно, но она никогда не ценила в нем этого редкого качества. Оно меркло на фоне всего, что она хотела в нем видеть и не находила, из-за чего ей каждый раз становилось мерзко и тяжело на душе – как одно разочарование, повторяющееся снова и снова. Разумеется, он первым пошел на примирение, и к концу июня их отношения стали прежними.
В начале июля она осознала, что, кроме отца, в городе у нее нет ни одного человека, с которым можно было бы говорить. Вида и Александр уехали из города, как только вышли из больницы. Никто точно не знал, что случилось, как их угораздило туда попасть. Ходили разные сплетни: они попали в аварию, они схватили какую-то тропическую инфекцию, они все подстроили, чтобы сбежать из города втайне от всех… Это был полнейший бред, но некому было рассказать ей правду: Генри в первых числах июля уехал в Пейтон-сквер, в университетский городок.
За несколько месяцев, проведенных в Калле, ей так и не удалось наладить дружеские отношения ни с одной из одноклассниц, ни с девушками из других групп, ни даже с соседями. Хотя брат ее школьной знакомой Лео Тэмз-Моран еще в июне пригласил ее на некое подобие свидания. Валери отказалась, так как этот участник городского кружка по сбору макулатуры ни на один процент не был ей интересен.
Люди никогда не тянулись к ней, и она не шла им навстречу. Никогда не считая нужным делать первый шаг в общении, она ждала, что его сделает кто-либо другой, но этот абстрактный «другой» бездействовал, и поэтому даже самые простые ситуации общения не складывались.
К середине июля отец совсем ушел в работу и практически перестал обращать на Валери внимание: на кону был доход, и было не до милых семейных бесед. Валери не интересовалась его соглашениями – она не изменила своего решения и отошла от дел. Альберт Астор две недели был сам не свой: запирался в кабинете и часами проводил с кем-то переговоры по телефону, причем его голос иногда возвышался до крика, да и без этого в нем постоянно сквозили нервозные нотки; с Валери он почти не разговаривал, нанял горничную и тут же ее рассчитал за то, что она не вытерла пыль с малого собрания сочинений Бальзака, стоявшего на его личной книжной полке. И он больше не читал своих любимых Диккенса и Золя, а перешел на старую французскую литературу – вплоть до XVIII века – что-то про куртизанок и перезаложенные семейные реликвии. Сначала Валери удивила резкая перемена его настроения, но потом ей снова стало все равно, как он себя ведет. Общение между ними временно прекратилось.
К августу ситуация нормализовалась: вероятно, переговоры прошли успешно, но точно Валери не знала – она не спрашивала. У нее полностью исчез интерес к проблеме, которая называлась «банкротство», и ее уже не заботил вопрос о том, как они будут жить дальше, а точнее, на что. Она предоставила отцу решать все самостоятельно, тем самым повесив на него всю ответственность за последствия предпринимаемых шагов. На этот раз ему повезло, и какие-то его махинации имели успех, и семья обзавелась капиталом, который предусматривал содержание домработницы, хорошее питание и покупку средних по цене спиртных напитков, без которых Альберт Астор своей жизни не представлял.
Валери никогда не говорила с отцом о деньгах, покупках и новостях. Вида, Александр или Генри тоже никогда не были предметом разговора, но Валери думала о них каждый день – они все-таки были теми немногими людьми, которых она здесь знала. Благодаря им в ее жизни что-то происходило, а теперь Валери была уверена, что они забыли ее – окончательно и бесповоротно. У них была своя жизнь, никто из них и думать не думал о какой-то Валери Астор. Ха! Кто вспомнит о ней, когда в мире есть столько всего интересного? Но все это интересное не для нее, совсем не для нее.
Ее внезапно стала напрягать проблема отсутствия нормального общения. Ей не хватало человека, который смог бы развеять съедающую ее скуку, вытащить ее из серой безысходности быта, быть ее постоянным спутником и собеседником. И каждый раз, когда Валери предавалась мечтам и начинала моделировать образ абстрактного существа рядом с ней, ее реальное одиночество безжалостно поглощало эти тусклые наброски воображения. И она была слишком взрослой, чтобы придумывать себе воображаемого друга. Но еще не слишком старой, чтобы придумать воображаемого врага.
Чтение уже ее не развлекало: Валери не прикасалась к художественной литературе, хранившейся в библиотеке, от отцовских классиков же ее просто воротило; остросюжетные приключенческие романы, увлекательные детективные сюжеты не вызывали у нее интереса, романтическая любовная проза (вечный ширпотреб), которой зачитывались знакомые ей девушки, провоцировала сильнейшее отвращение, и, вместо того чтобы увлеченно и восторженно следить за насыщенной событиями жизнью книжных героев, Валери со злостью закрывала книгу и швыряла ее на пол. Через несколько дней, проходя мимо, она поднимала ее и засовывала подальше, в глубину книжных полок, чтобы она как-нибудь случайно не попалась ей на глаза. Во второй половине августа она решила почитать учебники к следующему году и купила у соседки (она была на год старше) почти весь набор предметов. Но и эта идея себя не оправдала – мозги у Валери сворачивались в трубочку каждый раз, когда она приступала к изучению какой-либо дисциплины, и она бросала работу, толком не начав.
В особенно жаркие дни, если отца не было дома, она закрывала все окна и то включала кондиционер на полную мощность, то вырубала его. Таким образом, в комнатах становилось холодно, как у северного моря, скованного ледниками, а когда кондиционер выключался, воздух в доме превращался в удушливый пар. Валери наблюдала за тем, как от таких перепадов температуры вянут цветы на подоконнике. Через неделю она их выбросила.
Раньше ее выгоняли на улицу обычные дела, бытовые заботы, так что после появления горничной Валери могла неделю не выходить из дома. Зарывшись в одеяла, она лежала до полудня и каждый день просила завтрак в постель. Анжелика приносила ей неумело слепленные бутерброды с плавленым сыром, вареные яйца и сок, от которого у Валери слезились глаза, но Альберт Астор серьезно вбил горничной в голову, что его дочери не хватает витамина С (ему обязательно нужно было зациклиться на какой-нибудь глупости, чтобы жить). Потом она с неохотой вставала, спускалась вниз, снова ложилась – на диван в гостиной – и проводила остаток дня перед телевизором; иногда ловила радио, но зажигательные мелодии не могли заставить ее двигаться, и она засыпала даже под новинки рок-н-ролла. Для нее стало абсолютно нормальным видеть тусклый сон, в который из не менее тусклой реальности прорывался голос солиста, ревущий «Ты украла мое сердце, детка. Ты его мне не вернешь». О, детка. Да, я знаю, кто снится тебе по ночам.
Валери слышала, как отец возвращался домой, но притворялась крепко спящей, чтобы не здороваться с ним и не слышать самый отвратительный вопрос – как дела?
Когда приближалась ночь, Валери, молчаливо пялясь в потолок, воскрешала в памяти события мая-июня: перед глазами снова и снова вставали «Веранда», которую она с тех пор ни разу не посетила, отполированный корпус машины Александра, роскошь особняка Гейнсборо, его огромные окна, выходящие на цветущий сад, лоск широких гостиных и плетеная мебель на террасе, горечь слюны во рту, когда ее откачивали после трипа в пять часов утра, рвота в туалете на первом этаже коттеджа… Дома Валери разливала алкоголь стаканами, но не чувствовала вкуса вина, которое предлагала Вида на вечеринке, и после отъезда последней из Калле «фирменными» в городе были только круассаны от «Дофи́».
Отношение Валери к событиям двухмесячной давности во многом изменилось: та их составляющая, которая раньше настораживала и приводила в замешательство, стала теперь по-особому ее привлекать. Ей хотелось снова пережить нечто подобное. Несколько раз она даже собиралась уйти ночью из дома и поискать приключений на свою голову, но ни один из походов не состоялся – Валери просто ложилась спать и просыпалась к полудню с больной головой.
В конце лета Альберт, заметно повеселевший, пытаясь возместить ей почти месяц без нормального общения, стал проявлять к Валери повышенный интерес и заботу: постоянно вертелся вокруг нее, спрашивал, не хочет ли она чего-либо, рассказывал ей смешные истории, покупал ее любимую еду. Быстро сделав вывод, что ее ничего из этого не интересует, он начал поить ее витаминами и водить в кино, а когда увидел, что и это не действовало, решил просить помощи у врача. Валери резко запротестовала, и Альберт отказался от этой идеи: он был доволен тем, что в первый раз за несколько недель увидел, что его дочь на что-то реагирует эмоционально. Значит, все не так плохо – само пройдет, рассосется.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


