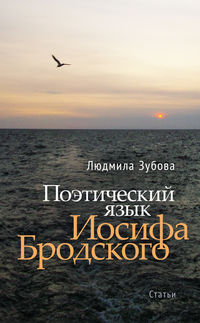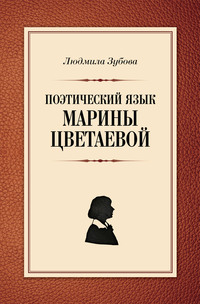Полная версия
Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020
В другом тексте слова тихо, душно и тошно тоже грамматически двойственны в позиции анжамбемана:
Быт заедало. Тикатьпереставал быт,и становилось тихона цыпочки копыт,подслушивая в отдушину.Но бил из скважины ключ,и становилось душнона корточки, и коклюшхрипел из петли вязанья,а в двери, где только мог,меж тумбочкой и Рязаньюврезался дверной замок,и становилось тошнонавыворот, за порог Владимир Строчков. «Баллада о проходном дворе» 32.В сочетаниях становилось тихо и становилось душно это безличные предикативы (слова категории состояния), а в сочетаниях становилось <…> на цыпочки, становилось <…> на корточки – существительные.
Форма становилось проявляет себя при безличных предикативах тихо, душно как безличный глагол, а при существительном – как личный.
Следующий пример показывает совмещение краткого прилагательного с наречием образа действия:
А на пне ветлуги старойя сижу с моей кифарой,и на пенье-ё певучевсяка тварь слетает тучей.И пока звучит струна,я даю им имена. Александр Левин. «Орфей» 33.Компаратив прилагательного в пределах строки преобразуется в компаратив наречия:
душа —бомж, а бомж, он все-таки карлсон<…>И чердак его все никчемней,все дырявей крыша, все ширещели в окнах, ветер все зверчезадувает в них – эй, съезжай! Надя Делаланд. «Не забыть бы вспомнить сказать…» 34.Мария Ватутина превращает прилагательное в существительное орфографически и акцентологически:
В усыпальнице чугунной заказной,Под лампадами, вмененными казной,Под стеклом, под целовальным, под парчой,Обрамленные молитвой горячой,Словно всё еще под Тихвинской в строю,Два монаха спят, убитые в бою. Мария Ватутина. «Старое Симоново» 35.Существительное-неологизм лишнями у Гали-Даны Зингер словообразовательно соотнесено со словами лишнее, лишишься, ли́шенье, а фонетически (рифменно) – со словоформой вишнями:
каперсник хватает за рукав, тянет за подол:тетя! тетя!связист ежевикаоплетает колючей проволокойшкольный двор.LOVE процарапано на лавочкечему там еще быть, казалось бы,а там еще много всякого процарапано,и это уже лишнее.но его не лишишься.и занозы. занозы – самое главное, поют в красном сердцечерного сердца на 78 оборотах,заедая красно-черными лишнямипод клешней патефона памяти.лишнями назову терновые ягоды.терновник – ли́шенье. Гали-Дана Зингер. «неказист и смиренен» 36.У Светы Литвак в нарочито аграмматичном тексте с сочетаниями на шлёпанец босой <…> на шлёпанце босым <…> со шлёпанцем босом последнее из них содержит прилагательное с окончанием существительного:
затравленная Олька на шлёпанец босойпример из математики из десять вычесть нольна швето отвечает ей У́та и Аны́цени часы работы упорною больнойдороже, чем из десять, тебе не вычесть нольна десять длинных зубьев кто быстро устаётна длинной рукояти насаживает нольно маловероятно, что это совпадётпоэтому ответа тебе не видно, Оль!затравленная Олька на шлёпанце босымплетётся неучёная, пример ей не решёнвпусти меня, я – десять, – такой ей слышен стонна это отвечает ей Ута и Аныя верю, тем не менее, что всё наоборотне десять умирает, а ноль его умрётзатравленная Олька со шлёпанцем босомсмотрела виновато на Ута и Аныпошла и разменяла десятку на рублиза два рубля – корзина, за три рубля – штаныи пять рублей заставила взять Ута и Аныне говори как прежде про десять и про нольответ хоть и неправилен, но адекватен он Света Литвак. «затравленная Олька на шлёпанец босой…» 37.Сергей Бирюков помещает слово лопата в такой контекст, в котором это существительное в параллелизме со словом мохната тоже может читаться как краткое прилагательное:
середина снега,,ветка мохнататень лопата Сергей Бирюков. «Капли № 2» 38.У современных поэтов нередко встречаются контексты, в которых нейтрализуются различия между глаголами прошедшего времени, краткими прилагательными и наречиями, что легко объясняется происхождением этих форм глагола из перфективного причастия. Разнообразные примеры такого словоупотребления приведены в книге: (Зубова 2000: 244–256). Здесь ограничусь тремя примерами, не вошедшими в книгу:
Вином кокетливым распахивая грудья начинал Весну. Была опасна поступь.Заметней тень и говорливей роспись,когда явился долгожданный призраки Сон застыл, тяжел, гремуч, как ртуть… Петр Чейгин. «Природное явление Любовь…» / «Сольфеджио» 39 ; Яблоку некуда падать,яблоко стоя заснуло,в яблоке том червячок,в белой пушистой пижамке,в яблоке домик прекрасный,солнышко алое светит,некуда, некуда падать,стоя заснуло, устало. Давид Паташинский. «Яблоку некуда падать…» 40 ; Тихий из стены выходит Эдип,с озарённой арены он смотрит ввысь,как плывёт по небу вещунья-сфинкс,смертный пот его еще не прошиб.Будущий из стены выходит царь,чище плоти яблока его мозг,как зерно проросший, ещё не промозглмир, – перстами его нашарь. Владимир Гандельсман. «Тихий из стены выходит Эдип…» 41.У Петра Чейгина потенциальная адъективность формы прошедшего времени застыл проявляется и активизируется в перечислительном ряду с полноценными прилагательными. Подобие поддерживается и совпадением конечного согласного звука в словах застыл и тяжел, у Давида Паташинского форма устало проявляет себя как возможное наречие образа действия в параллелизме с деепричастием стоя.
В тексте Владимира Гандельсмана адъективность формы промозгл поддерживается употребительным полным прилагательным промозглый, а от глагола промозгнуть в норме образуются малоупотребительные формы промозг и промозгнул. Суффикс бывшего перфективного причастия -л после согласных, например в таких словах, как мог, промок, пёк, свойствен древнерусскому языку (моглъ, промоклъ, пеклъ).
Поскольку глаголы прошедшего времени могут довольно легко становиться прилагательными, а прилагательные существительными, возможна и непосредственная субстантивация глаголов, как, например, у Сергея Петрова, Иосифа Бродского, Александра Левина42:
Не я, не ты, не он, а просто было,как вдоль судьбы шагающее быдло.Хоть бы брылы развесившее рыло!Нет, просто было, и оно обрыдло.Давно уже ушли до ветру жданки,все данные собрали да и в печь!И Было вонькое хоронят по гражданке,И Былу не дадут подонки в землю лечь. И поют подонки, голосочки тонки, Семки, Тоньки, Фомки, милые потомки: Ходи изба, ходи печь! Былу нету места лечь. (А следовательно, требуется сжечь, и вместе с рукописями!)В гробу везут чудовищное Было,помнившееся над единым и одним.И чья-то речь стучит-бубнит над ним,как будто сей звонарь колотит в било. Сергей Петров. «Надгробное самословие. Фуга» 43 ; «И он ему сказал»<…>«Один сказал другой сказал струит»<…>«И он сказал». «Но раз сказал – предмет,то так же относиться должно к он’у».<…>«Где? В он-ему-сказал’е или в он’е».<…>«Лишь в промежутках он-ему-сказал’а».<…>сказал’ом, наподобие инцеста».<…>И Он Сказал носился между туч<…>«О как из существительных глаголет!» Иосиф Бродский «Горбунов и Горчаков» 44 ; Больше жизни и ярче брызниполюбил твоих серых глазутолил твоих тёплых устутонул лебединого телащекотал непослушных ресницпробежал незаметных часовшелестел заоконной листвытише мыши и выше крышиулетел моей головы Александр Левин. «Больше жизни и ярче брызни…» 45.В следующем тексте слово было может быть понято и как глагол, и как краткое прилагательное, и как существительное:
человеческое телоне расходится как мылов напомаженной водеоно никогда не бывает былооно всегда сейчас и где Мария Степанова. «человеческое тело…» / «Война зверей и животных» 46.А в тексте Николая Голя слово были как существительное и как глагол вполне могут меняться местами в восприятии читателя:
Высокое искусство романтизмане жаловало низменных примет.Какие были, черт возьми их, были!Какой вскипал и разгорался пыл!…Все знают – обокрали и побили.Романтик говорит, что – прокутил. Николай Голь. «Романтизм» 47.Синкретичное имя как результат обратного словообразования
Многие поэты извлекают синкретическое имя или непосредственно существительное из совокупности современного прилагательного и древнего имени, застывшего в идиомах, наречиях, безличных предикативах. В стихах появляются разные падежные формы существительных пусто (← попусту), поздно (← допоздна), светло и светла (← засветло), темно (← затемно), давно (← издавна), сухо (← досуха, насухо, посуху) и т. п.:
Всё – блажь ночей, причуда их, загадка.До слабого рассветного позднатворится, при мерцании огарка,печальное признание письма. Белла Ахмадулина. «Глубокий обморок» 48 ; подарю тебе солнце и звездыи старый сундукгде хранится прекрасное поздно и золотое вдруг Давид Паташинский. «мое дорогое» 49 ; Заветный дом – светло замроженоОт крыши тень – крылом. Стучу в светлоперепелом – там ждут меня давно —Ноэтоневозметоневозмо!..................На дверь и стены зырит как в трюмо —и там – я сам – портрет и натюрмо Генрих Сапгир. «Бутырская тюрьма в мороз» / «Генрих Буфарёв. Терцихи» 50 ; Бумага стерпит и не то. Позор забудется под утро.Заснет, согнувшись у стола, печальный кукольник забав.Сложилось в землю шапито. Луна, забытая, как кукла,плеснет хрустального светла, дорогу солнцу угадав. Давид Паташинский. «Бумага стерпит, люди – нет. Еды осталось на неделю…» 51 ; Лишь ты вздохнешь украдкойС чужого высокаВ ответ на чуждый стон. Сергей Вольф. «Остаточная грусть…» 52.В подобных, достаточно многочисленных случаях обратного словообразования (редеривации) невозможно и не нужно искать единственную мотивирующую основу неологизма, воспроизводящего древнее синкретичное имя. Авторское преобразование формы не просто происходит на фоне всей парадигмы, хотя бы и дефектной, но и восполняет эту парадигму. Поэты частично достраивают разрушенные парадигмы, осколки которых сохранились только в наречиях:
– Нельзя разрушать искусство,душе пустотой грозя!– Тогда покажите пустои дайте мне что нельзя! Михаил Яснов. «Памяти Олега Григорьева» 53 ; Сад стоит ногами на кровати – веки стиснув, руки – на перильца,Одеялко на потлевшей вате в тесную решетку утекло.Никуда не дернуться дитяте обмершего града-погорельца,Никому не отольется в злате вечное повапленное тло. Олег Юрьев. «Песня» 54 ; Костер сгорел дотла, и тлохранило ровное тепло.Сквозь тонкий куполок теплароса осенняя текла. Михаил Дидусенко. «Костер сгорел дотла, и тло…» 55 ; всё из каменного пара, всё из ртутного стекла…нерушимое упало, пылью музыка всплыла, всяиз дышащего тела, из эфирных кристаллид – всясвернулась и истлела, только музыка стоит, всяиз тучного металла, всяиз выпуклого тла……содрогнулась и упала, только музыка: ла ла Олег Юрьев. «всё из каменного пара, всё из ртутного стекла…» 56 ; Синеет тьма над городом моим,спокоен вечер, небо звездно,ушел домой усталый элоимнастало поздно. Давид Паташинский. «Вели меня поднять над мостовой…» 57 ; Из губы прокушенной сочитсярозоватым мартовским светломалый рыбий глаз растенья-птицы,вдвое увеличенный стеклом Валентин Бобрецов. «Белый голубь свежести не первой…» 58 ; На высоком моральном холмемелкотравчатый выткан узор:тут гвоздичка, там папороть нежный,здесь торшер окружает светлóмисторически-алые мальвы Линор Горалик. «На высоком моральном холме…» 59 ; Солнечные капли часов,звездные секунды светла,черные, оранжевые,догорят дотла. Давид Паташинский. «Сладкое вино тростника…» 60 ; Пока пишу я, оживаю, меня танцует Саломея,ее светла сторожевая, еще, еще как я умею,но вот сегодня не могу, как кровь на утреннем снегу,как солнце в мясе переплета бескнижных, страшных облаков,как глаза выпитая сота, как перекрестие полета,как судорожно звал кого-то из комнаты для стариков. Давид Паташинский. «Пока пишу я, оживаю, меня танцует Саломея…» 61 ; Три кресла, стол, диван за ловлею рубинаучастливо следят. И слышится в темне:вдруг вымыслом своим, и только, ты любима?довольно ли с тебя? не страшно ли тебе? Белла Ахмадулина. «Дворец» 62 ; Отчего ты только створочка,а не целое окно,отчего ты только шторочка,а не целое темно? Игорь Булатовский. «Скворушка» 63 ; В пустоте жильяя привык к давну,и не те же ль ядни за хвост тяну? Сергей Петров. «В пустоте жилья…» 64 ; В отношении бедности духаТот поэт, что взирает с высотНа непаханность чудного сухаЭто, прямо сказать, – идиот. Константин Рябинов. «Рассказ» 65.На прочтение безличного предикатива как краткого прилагательного может влиять порядок слов:
Там будто все время идет дождьили снег. И время все темно.И ты там никуда не идешь,а все смотришь время в окно Игорь Булатовский. «Там будто все время идет дождь…» 66.При обычном порядке слов во фразе всё время темно тоже, конечно, можно понимать слово темно как определение к слову время, но инерция восприятия сочетания всё время как обстоятельства, синонимичного наречию всегда (а именно такую функцию оно имеет в первой строке приведенного фрагмента), все же диктует, что темно – безличный предикатив. Инверсия время всё темно существенно меняет восприятие.
В ряде случаев возникает вопрос: почему поэтам недостаточно тех признаковых существительных, которые имеются в общеупотребительном языке – Ахмадулиной не подошло нормативное слово темнота, Яснову и Бобышеву — пустота, Рябинову – сухость, Волохонскому – желтизна? Вероятно, причина здесь обнаруживается не только в производности (исторической вторичности) нормативных слов, но и в их словарной определенности, в самом факте фиксированного абстрактного значения, а также в том, что словарные существительные частично утратили живую связь с прилагательными. На эту мысль наводит словоформа светлом из стихов Бобрецова: автору понадобилось заменить исторически первичное непроизводное слово свет суффиксальным, содержащим элемент прилагательного. То есть поэтам понадобилось именно синкретичное обозначение предмета и признака.
Наиболее выразительны примеры синкретизма в таких контекстах, в которых нельзя однозначно определить часть речи.
Например, у Всеволода Некрасова:
За окном зимаЗеленая мглаСколько ты зима всего намелаНамела накрутила невпроворотВ комнате теплоВ окне стеклоОкно не окноА прямо кино —Ничего не понятно Всеволод Некрасов. «Ночью электричеству не спится…» 67.Строки В комнате тепло / В окне стекло позволяют видеть в слове тепло и безличный предикатив, и существительное (в параллелизме со словом стекло, если его воспринимать как существительное). Но слово стекло читается и как безличный глагол. Примечательно, что в этом тексте появляется сентенция Ничего не понятно.
У Владимира Строчкова в строке где темно в углу – на фоне отчетливых существительных, образованных транспозицией безличных предикативов:
Ночью время тихоетюкает в стекло.Сколько там натикало,сколько натекло,горстку ли накрапало,налило с ведро,чтобы там на краткоенабралось светло.Тьма густеет, тянется,вязнет на полу,даже днем останется,где темно в углу,по полу, по стеночкекак там не тяни,тенькая застенчиво,стянется в тени —и темнит, и копитсялужицей темна,сохнуть не торопитсятёмная стена;а светло летучее,веселящий газ,с первой темной тучеювытекает враз.А пока по капелькев тонкое окно,в дом бессрочной каторгойцедится темно,и, пугаясь тиканья,съёжилось тепло.Ночи время дикоетычется в стекло. Владимир Строчков. «Ночью время тихое…» 68.У Игоря Булатовского в строке и цветно у нас темно слова цветно и темно могут читаться и как существительные-субъекты, и как краткие прилагательные-предикаты:
Хлоп – и сложены давнобабочкины маслобойки,и цветно у нас темнов тонком воздухе прослойки.Кто там глубже ни вздохнёт,все чешуйки перепишет, —останется лишь тот,кто последних передышит. Игорь Булатовский. «Ква?» 69.Наличие в современном языке наречий типа досуха, затемно, попусту не является обязательным условием для преобразования наречия или безличного предикатива в существительное:
С близка глядя на животное,Вдруг чувствую восторг(Будто кончился срок) —Грива искрящейся кошкиПохожа на Нью-Йорк. Елена Шварц. «Волосоведéние Vision» 70 ; Агапе без эроса – экое скучно…Наверное, это не для человека.Безбожно-безножно, ненужно-недужноты стал мне духовной любовью-калекой Марина Матвеева. «Love sapiens» 71 ; …Но к вечеру в кастрюле тесто Аби замешивала. Как потом всю ночь в теплице кухни под крышкой начиналось тесно!.. А волосинки на руках, что сабли – вспыхивали, тухли. Санджар Янышев. «Аглая» 72.Авторские полные прилагательные, образованные от существительных
Не менее интересным явлением воссоздания именного синкретизма является процесс, имеющий противоположную направленность. Если предыдущие примеры показывали разные пути и результаты ретроспективной субстантивации (деадъективации и деадвербиализации), то следующая группа примеров демонстрирует преобразование не признаковых, а предметных существительных в прилагательные. При этом трансформация осуществляется прибавлением к существительным адъективных флексий, но не суффиксов прилагательных:
Звериный зверь идет, бежитИ птица птицая летитИ камень каменный лежитСтоячий воздух все стоит Дмитрий Александрович Пригов. «Звериный зверь идет, бежит…» 73 ; Уходит на запад кудаблин-тудаблин,спокоен, взволнован, упрям и расслаблен.<…>Он слёзы глотает, он бодро смеётся,как птицая птица, душа его мнётся Александр Левин. «Уходит на запад кудаблин-тудаблин…» 74 ; Вот Вам. Вы одни. Вы куклая. Вы просыпаетесь сквозь сито. Я Вас собираюсь есть. Я хлеб. Ян Невструев. «Море лежало широко…» 75 ; Чудесно – в гроб меня улечь!Твоя мечта, о том и речь,должна цвести, ронять кирпич,когда иду я челку стричь.Ax, ты мой зайчик, друг поэтый,сто лет живи с мечтою этой,не мрачен будь и не болей, —с такой мечтою жить светлей,налей мне кофе с мышьяком,с мечтой о чем-нибудь таком… Юнна Мориц. «Серенада» 76 ; Он падлой женщиной рожденв чертоге уксуса и брома.Имелась в тюфяке солома.Имелся семикратный слон. Александр Левин. «Новая история» 77 ; Ужасна месть слепой природыКакой-то осьминогий спрутУже разводит огородыТам где сверкал зубов редут Анри Волохонский. «Эгей» 78 ; Увозил бы в лес бианок,беатричей самых разных,и катал бы их, гондолых,распевая кватроченту Андрей Воркунов. «Увозил бы в лес бианок…» 79 ; Куколка ты моя, куколь, чучелко, человечико,неприличико, величинка, толикое околичие,буква «зю» моя, зюзелица, символичико,недотыкомка-жуколица, ногомногое многотычие,стой на слове своем, многоярустно наступайна горлó буты́лое, бóтлое собственно песне,на язык-миногу. Светлый сказочный расстебайиспечешь и язык проглотишь. Хоть тресни,насухую стой на слове своем, пускай свое место знает,пусть хоть сдохнет, но помнит, кто в доме его хозяин. Владимир Строчков. «Куколка ты моя, куколь, чучелко, человечико…» 80 ; о, глаз, разглазься до очейлицо – вломись в себя до ликапрорвись до дьявола, о богсебя листая додо крика черт обезкаликихкалеких черт Владимир Климов. «О, глаз, разглазься до очей…» 81 ; Удобряй свой мартиролог, мальчик:пусть растет развесистым и клюквым,чтобы, знаешь, эдак сесть в тенёчкесреди тех, кто сраму не имеет,чтобы эдак ягодкою кислойзакусить того, кем закусилосьпополам с каким-то серым хреномпод холодным небом Вустерлица. Линор Горалик. «Удобряй свой мартиролог, мальчик…» 82 ; Часторастущий, тыщий, трущий глазпрохожему осенний лес, —вот клёкот на его сквозной каркаслетит с небес,вот некий профиль в нём полудивясьполуисчез. Владимир Гандельсман. «В полях инстинкта, искренних, как щит…» 83 ; Все кошки кошие, все кошки хорошие,а это мёртвая кошка, эта вот кошка мёртвая,она говорит спасибо, лежит красиво. Екатерина Боярских. «Мёртвая кошка» 84 ; Жираф-гумилефф из Африки заглянет в лицо лазурное, в ночные зрачки подвижные, в двоящийся трепет век, и скажет «привет» приветливо, с во рту полуголой веткою, пятнистый, как все жирафые, улыбчивый человек. Надя Делаланд. «Взлохмаченную и сонную, прошедшую мимо зеркала…» 85 ; Это ряское рябое,почти болотца,стало мне дорогоеводы лицо. Ирина Машинская. «Заводь» 86 ; Когда мы были как привив…Мы были как прививки оспыИ кожиц наших некрасивпейзаж шероховат и рыхлкак апельсин в презервативсвалилось солнце в мглую осень.Испуг погас, застыв как гипс.Мы стали то ли писком, то литерпеньем. Неминуем смысл. Алина Витухновская. «Скрипит костями черный город…» 87.В игровом тексте Ольги Арефьевой прилагательные из существительных получаются при обмене слов слогами:
Собачка колбасатая,Вернее, полосатая,А с ней пятниска кисая(ну вот – наоборот!)Обедали мясисками,Вернее, колбасисками,И невозможно высказать,Как было вкусно им!Кормил их дедый седушка(опять я что-то путаю!),Зелёнка травенелася,И пахло чесноком.На лизыке растаялиКуски собачьей радости…Но тут мясиски кончились —И сказочке конец! Ольга Арефьева. «Сказка про мясиски» 88.Окончание прилагательного добавляется даже к неопределенному местоимению нечто, к архаическому союзному слову иже:
Вечером нечего,Речка нейдёт в ведро.Вечево во облацех,нечтое вечеро. Олег Вулф. «Путник» 89 ; Не белые и не рыжие,в крепких ладошках, ижие,сжимающие апачикитак, что белеют пальчики.апачики раздающие,бьющие, хоть не бьющие,коляны, колоны, клоуны,на досочках намалеваны,линялые распальцовщики,несбывшиеся дрессировщики. Игорь Булатовский. «Афиша» 90.Следующий пример буквально воспроизводит механизм образования полного прилагательного (причастия), хотя окончание -я здесь не артиклевого происхождения, как в древности, а сначала является результатом ритмического акцентирования слова, а затем то же звучание дублируется личным местоимением:
Карамелизированный мир!Тайные конфеты-карамели.Мой пресладкий-сладкий-сладкий пирВ радостной конфетной карусели!Карамелизированна-я – Я! —Сладкая-пресладкая конфета —Я – в обёртке – золотиста-я – Я,Как в лучах полуденного света!И возможно, я – уже не я…Исчезаю с карамельным стоном…Там, в Конфетной вазе Бытия,Я откликнусь карамельным звоном! Людмила Осокина. «Карамелизированный мир…» 91.Авторские формы сравнительной и превосходной степени, образованные от разных частей речи
Именной синкретизм проявляется и в том, что сравнительная степень образуется от существительных. А. А. Потебня приводил примеры образования компаративов непосредственно от существительных: бережее (от берег), скотее (от скот), зверее (от зверь) и объяснял это тем, что в древнерусском языке «существительное, будучи названием определенной субстанции, было в то же время качественнее, чем ныне» (Потебня 1968: 37).