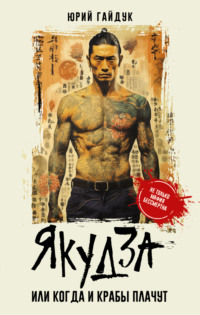Полная версия
Алмазный фонд Политбюро
– Аскольд Владимирович.
– Да, конечно, Аскольд Владимирович, – улыбнулась вдова, – а вы-то с каким вопросом пришли?
– По поручению Горького, – соврал Самарин. – Но, видимо, не судьба.
– Кого, кого?.. – удивлению вдовы, казалось, не было конца.
– Горького, Алексея Максимовича, – как о чем-то само собой разумеющемся пояснил Самарин. – Но в данном случае я его представляю не как писателя Максима Горького, а как председателя Оценочно-антикварной комиссии, которая была создана по Декрету, подписанному лично товарищем Лениным.
Вдова недоверчиво смотрела на незнакомца.
– И что, у вас действительно есть документ, подтверждающий все то, что вы сказали?
– Иначе бы я не пришел к вам, – пожал плечами Самарин и достал из кармана мандат, подписанный Горьким. – Вот, пожалуйста.
Все так же недоверчиво вдова Менделя изучила мандат, подтверждающий права «товарища Самарина» «на проведение следственных и оперативных работ в правовых рамках Оценочно-антикварной комиссии», и уже с откровенным любопытством в глазах уставилась на гостя.
– Чего ж мы тогда на пороге стоим? Проходите, пожалуйста. Может, и я смогу вам чем-нибудь помочь. – И уже закрывая дверь на засов, представилась: – Ванда, распространенное польское имя, хотя мама еврейка, в Варшаве живет.
– А меня Аскольдом нарекли. Истинно славянское, но весьма редкое имя.
И они, как бы сбрасывая последний барьер взаимной настороженности, засмеялись, поднимаясь по красивой дубовой лестнице на второй этаж.
Комнаты второго этажа, как и думал Самарин, были отданы в свое время прислуге, но уже год, как в доме куковала тишина, и супруги Мендель теснились в трех комнатах, из которых по причине строжайшей экономии дров одна была закрыта на ключ, а две другие отданы под спальню и гостиную, в которой еще при жизни владельца Торгового дома засиживались гости. Сейчас же, как призналась Самарину вдова, гости в доме стали величайшей редкостью, и она оставила себе только спальню с кухней, которая постепенно превратилась и в столовую.
«Всё, как и положено быть», – подвел черту Самарин и, попросив разрешения снять пальто, разделся в прихожей.
Когда прошел в просторную, залитую февральским солнцем комнату, где вдова успела навести хоть какой-то порядок, сбросив в шкаф свои вещи, невольно порадовался тому жилому духу, что держался в этом доме. Здесь, так же, как и в его квартире, стояла вместительная буржуйка из легированной стали, однако, в отличие от его печурки, эта была обложена огнеупорным кирпичом, который и сохранял тепло. Неподалеку от буржуйки возвышалась поленница березовых дров, закрытая от посторонних глаз японской ширмой с огромными красными цветками по шелковому полю. Подобную роскошь – сделанную на заказ буржуйку и заготовленные на зиму березовые дрова – мог себе позволить только очень богатый человек, каковым и оставался до последнего момента Моисей Мендель.
Но что более всего поразило Самарина в комнате, которую Ванда называла спальней, так это мольберт напротив окна и несколько десятков картин маслом, которыми были заставлены стулья, диваны и пуфы. Пейзажи весеннего и летнего Петербурга, натюрморты и великое множество карандашных набросков самых разных по своей сословной принадлежности людей, глаза которых встречали и провожали тебя из всех углов одновременно.
Явно насладившись тем впечатлением, которое произвели на гостя картины, и словно забыв о том, зачем в ее доме появился этот человек, Ванда спросила, как о чем-то само собой разумеющемся:
– Понравилось?
– Очень!
– Ну, насчет «очень» это вы сильно подсластили, но в общем-то я и сама чувствую, что кое-что неплохо получилось.
– Да нет, – вполне искренне возразил Самарин, – мне действительно очень понравилось. И что, всё это – вы?
– Да, – скромно призналась Ванда.
– Что ж, поздравляю. Когда будет персональная выставка, непременно пригласите.
– Приглашу, если, конечно, удастся отсюда вырваться, – вздохнула она, – впрочем, пройдемте на кухню, там и кофе попьем, и поговорим о том деле, которое привело вас в этот дом.
Подобной послереволюционной роскоши Самарин еще не видел, по крайней мере в домах тех его редких коллег, малочисленных друзей и знакомых, которые еще оставались в Петрограде. Еще одна буржуйка в углу просторной кухни и огромная, аккуратно сложенная поленница колотых березовых дров – богатство по меркам февраля девятнадцатого года неимоверное.
Видимо поняв состояние гостя, Ванда попыталась реабилитироваться:
– Спасибо Моисею, это всё его заботы. И печи, которые ему на каком-то заводе сделали, и дрова, которых еще на две зимы хватит. Хотел более-менее по-человечески пережить это страшное время, но… видно, судьба такая была уготована, – и улыбнулась кривой, вымученной улыбкой. – Все последнее время какой-то смурной ходил, словно в воду опущенный, на жизнь жаловался, и кто же мог знать, что и он советской власти понадобится? Впрочем, я ему всегда говорила, что такие оценщики, как он, с его-то опытом работы на улице не валяются, тем более сейчас.
Рассказывая о своем муже, она достала из резного буфета фарфоровые чашечки, спросила, как о чем-то само собой разумеющемся:
– Кофе?
– Пожалуй, – не стал отрицать Самарин, подумав в то же время о том, что кофе после шестидесятиградусной самогонки – это уже явный перебор, однако, и отказать себе в этом удовольствии не мог.
– А я без чашечки кофе уже и жизни себе не представляю, – призналась Ванда, – с детства приобщилась. Под нашими окнами кофейня была, маленькая такая, уютная, вот я и бегала туда по утрам. Насколько себя помню, и в детстве бегала, и когда в художественной школе училась, и в более поздние годы, когда отцу помогать стала.
– Помогать отцу? – удивился Самарин. – Он что, тоже художник?
– Да как вам сказать? Если огранщика камней считать художником, а это, пожалуй, так и есть, то вы правы – художник. Но только художник по камням. Алмазы, рубины, сапфиры… Какие только камни не прошли через его руки.
Видимо вспомнив отца, она улыбнулась мягкой улыбкой и с необъяснимой тоской в голосе произнесла:
– А руки… если бы вы видели его руки! Это было само совершенство, природой предназначенное для работы с драгоценными камнями.
Поставила на буржуйку две турки с молотым кофе и, не дожидаясь, когда закипит вода, пригласила Самарина к столу.
– Вы не против, если мы помянем Моисея? Хороший человек был, добрый, да и любил меня так, как только может любить зрелый мужчина. – Достала из буфета початую бутылку французского конька, два бокала, поставила все это на стол и с долей ироничного сарказма в голосе произнесла: – Ну, чего ж вы ждете? Ухаживайте за бедной вдовой.
Над столом завис дурманящий коньячный дух, и Самарин, уже начиная забывать, что говорят в подобных случаях, только вздохнул и негромко произнес самое примитивное из того, что он смог вспомнить:
– Что ж, пусть земля ему будет пухом.
И медленно, глоток за глотком выцедил терпкую, обволакивающую нутро жидкость.
Следом за ним выпила свой коньяк и Ванда. Поставила бокал на стол, однако тут же спохватилась и, словно ее подгонял кто-то невидимый, плеснула в бокалы еще по двадцать грамм коньяка.
– Давайте выпьем еще по чуть-чуть, и не подумайте, что я пьяньчужка какая-то. Просто мне все это время очень плохо было, порой очень страшно, и вы первый, с кем я вот так… просто… Давайте выпьем.
Самарин впервые видел, чтобы человек пьянел буквально с нескольких капель, и поэтому ее слова, обращенные к нему, воспринял как пьяный лепет:
– Простите меня, ради бога, но… но вы мне сразу понравились, вы внушаете доверие, и поэтому я впустила вас в дом. Поймите меня правильно и не осуждайте.
Явно стушевавшийся от этих слов, но более всего от близости красивой женщины, Самарин не знал, как себя вести. В голову жаркой волной ударила кровь, и он, чтобы только не выглядеть полным идиотом, выдавил из себя:
– Вы меня тоже поймите правильно и не осуждайте, но вы именно та женщина, которая может принести счастье в любой дом, и я вполне понимаю вашего мужа, который дарил вам свою любовь.
– Спасибо, – улыбнулась Ванда и глоток за глотком выцедила коньяк.
Наблюдавший за ней Самарин подумал было, что сейчас ее развезет окончательно, но, оказывается, она и трезвела столь же моментально, как и пьянела. Не прошло и пяти минут, как Ванда уже стояла у буржуйки и, помешивая в турке появившуюся пенку, доводила кофе до нужной кондиции. Кухня наполнилась дурманящим запахом кофе, и Ванда негромко произнесла, словно доверяла гостю очень важный секрет:
– Не поверишь, но хороший кофе и глоток коньяка – это тот самый допинг, который необходим художнику.
Он вслушивался в то, что она говорит, и не мог понять, что же заставило екнуть сердце и отчего в голову опять ударила кровь. Наконец до него дошло: она уже не обращалась к нему на «вы», а говорила «ты».
– А ты где училась рисунку? – бросил он пробный камень.
– В Варшаве, – даже не отреагировала Ванда, – сначала в художественной школе, а потом в мастерской пана Золотницкого. Семь лет положила на это, оттого и замуж поздно вышла. Спросишь, жалею ли я об этом? Нет, не жалею. Да и можно ли завидовать тем дурехам, которые сразу же после гимназии замуж повыскакивали? Пеленки, семейный быт… от такого однообразия и взвыть можно.
Она разлила кофе по чашечкам и как бы невзначай спросила:
– А вы, простите, давно женаты?
– Мне показалось, что мы уже на «ты» перешли, – урезонил Ванду Самарин, – ну, а насчет моей женитьбы… Не поверишь, но до сих пор в холостяках хожу.
– Что так? – искренне удивилась она.
– Сначала учеба в университете, потом работа следователем, и так чин за чином в Московском окружном суде.
– Так ты что, москвич?
– Коренной.
– А в Петрограде как оказался?
– Командировали на время, но получилось так, что уже два года как здесь живу. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
– Вот это правильно сказано, – согласилась с ним Ванда и тут же: – Ну, а невеста, надеюсь, есть?
– К сожалению, нет, – и он развел руками.
Судя по всему, подобное холостяцкое состояние Самарина Ванду вполне устраивало, и она уже более заинтересованно спросила:
– Так ты, значит, юрист?
– Можно сказать и так. В прошлом – следователь по особо важным делам.
– А сейчас работаешь в этой самой комиссии, которую возглавляет Горький?
– Да. И был командирован Алексеем Максимовичем, чтобы уговорить твоего мужа принять участие в работе комиссии.
– А я бы могла заменить Моисея?
– Думаю, да. Но более конкретный ответ может дать только сам Горький. И, естественно, после разговора с тобой. Кстати, о чем он наверняка спросит, так это о том, почему вы с мужем не эмигрировали за границу? Насколько я догадываюсь, у вас все возможности для этого были.
– Были, – кивком головы подтвердила Ванда, – да все уплыли. А почему сразу в тот же Париж не уехали, когда вся эта заварушка в семнадцатом началась?.. Не знаю. Сама порой задаю себе этот вопрос и не могу найти разумного ответа. Хотя, признаться, у Моисея появилось такое желание полгода назад, когда Карл Густавович с Россией распрощался.
«Карл Густавович с Россией распрощался…» – невольно вскинулся Самарин, зацепившись за эту фразу. Судя по всему, такое желание у Менделя появилось в тот самый момент, когда Фаберже пригласил его для оценки тех бриллиантов и ювелирных изделий, которые он затем сложил в дорожный саквояж…
Когда Самарин шел в этот дом, он даже представить себе не мог, что вдова Менделя упомянет в разговоре Карла Фаберже, оттого и вынужден был изобразить на своем лице удивление.
– Карл Густавович… это тот самый Фаберже, который…
– Да, тот самый, – подтвердила Ванда, – придворный ювелир императора всероссийского, поставщик Высочайшего двора. – Эти слова она произнесла с необыкновенной гордостью, после чего замолчала и уже чуть тише, на совершенно иной ноте закончила: – Они с Менделем большими друзьями были.
«С Менделем…».
Ванда впервые назвала покойного мужа не по имени, и Самарин поймал себя на мысли, что ему приятно это слышать.
«Мендель… Видимо, не так уж и привязана она была к своему муженьку. И все ее теплые слова о нем… ну да, просто дань уважения покойному».
В голову опять ударила жаркая волна, однако он вовремя вспомнил, ради чего пришел в этот дом, и, стараясь хотя бы внешне не афишировать свой интерес к «связке» Карл Фаберже – Мендель, произнес:
– А Фаберже, если я не ошибаюсь, эмигрировал?
– В августе прошлого года.
– А вы почему остались?
– Говорю же тебе, не знаю. Хотя самым разумным было бы еще в семнадцатом году уехать в Париж. Тем более с деньгами и возможностями Менделя.
И опять она назвала мужа не по имени, а по фамилии, причем без особого почтения к его богатству и к заслугам.
– И что, он никогда не сожалел о том, что остался в Петрограде?
– Сожалел, и в то же время не хотел рисковать нажитым, дабы не остаться без своих миллионов. Ты даже не представляешь, какой шмон устраивали на границе отъезжающим, и вывезти из России что-то ценное было практически невозможно. Как говорится, поезд ушел, и решаться на отъезд надо было в семнадцатом году.
Она с силой потерла виски и вдруг рассмеялась истеричным смехом. Отсмеявшись, всхлипнула, тяжело вздохнув при этом, отерла ладошкой выступившую слезинку, подняла на Самарина неожиданно сухие глаза.
– Помнишь, как отсюда бежали все, кто только мог бежать?
– Сам подумывал об этом, – признался Самарин, – и сам не знаю, почему остался.
– А чего тут знать? Бежали те, которым было на что бежать.
– Да, но ведь…
– Именно об этом я и хочу сказать, – перебила его хозяйка дома. – Те, кому не было на что бежать, те просто продавали скупщикам или закладывали в ломбарды все самое ценное, что у них было, и уже с деньгами на руках бежали из России. Обогатиться можно было в считанные дни, был бы только начальный капитал, а у Менделя, к несчастью, был.
– То есть, ты хочешь сказать…
– Да, это тот самый случай, когда, как говорят в России, жадность фраера сгубила. Мендель до последнего момента скупал за бесценок такие вещи, ювелирку, бриллианты и камни, которые впору было на аукцион в Париже выставлять, и всё говорил мне, что скоро мы будем столь же богаты, как семья Ротшильдов. Понимаешь, он потерял чувство опасности, и это аукнулось нам сторицей. Власть окончательно перешла в руки большевиков, у нас изъяли все, что смогли изъять, и…
Словно вспомнив, что она излишне разоткровенничалась перед гостем, Ванда покосилась краем глаза на Самарина и замолчала, обрубив себя на полуслове.
– Ванда, – усовестил ее Самарин, – не надо меня считать подонком, тем более что я исконно русский дворянин и вряд ли смогу принять всё то, что творится сейчас в России. К тому же… вы очень красивая женщина и можете заставить любого и каждого стать перед вами на колени.
Она вскинула на него глаза, и вдруг ее лицо покрылось румянцем.
– Вы что… вы действительно говорите правду, или это просто комплимент?
– Какой, к черту, «комплимент»! Неужели вы не видите этого по мне?
Она долго, очень долго молчала, не отрывая пристального взгляда от лица Самарина, и вдруг попросила:
– Налейте еще коньяка.
Выпив, вновь замолчала, словно раздумывая, стоит ли посвящать гостя в тайну своей семьи, потом произнесла:
– В общем, у нас осталось то немногое, что удалось скрыть от большевиков, но вполне достаточное, чтобы открыть в Париже салон, и мы пытались изыскать надежный вариант отъезда из России.
– То есть такой вариант, чтобы при переходе границы была возможность сохранить то, что у вас осталось после экспроприации?
– Да, точно так. Мендель уже нашел нужных людей, которые готовы были помочь нам в этом деле, за приличное вознаграждение, естественно, как вдруг…
– А эти люди не из Петросовета, случаем? Или, может, из Петроградского чека? – перебил ее Самарин.
– Кажется, оттуда, но точно сказать не могу, – замялась Ванда и вдруг словно встрепенулась: – А ты-то откуда знаешь?
– Поверь, просто наугад спросил. Впрочем, откуда еще могла поступить подобная помощь?
– Да, пожалуй, ты прав, – согласилась Ванда. – Насколько я знаю Моисея, все переговоры он вел только с серьезными людьми и крупными чиновниками, до мелкой сошки он никогда не опускался, а тут тем более, такое дело…
Она замолчала, вновь потерла виски, видимо, пытаясь вспомнить что-то очень важное, но только обреченно взмахнула рукой, как бы расписываясь в своем бессилии.
– В общем, все, вроде бы, складывалось так, как нужно, Моисей даже задаток внес, обязуясь вторую половину денег отдать уже за границей, как вдруг еще один обыск, совершенно для нас неожиданный. Естественно, что в доме ничего не нашли, и тогда эти люди забрали с собой Моисея. Он, правда, грозился, что будет жаловаться на это самоуправство, будет писать самому товарищу Зиновьеву, но ему просто заткнули рот какой-то тряпкой и увезли с собой. Я плакала, умоляла оставить мужа в покое, потому что мы уже отдали новым властям все, что когда-то имели, но эти люди только смеялись на это, да еще самый главный из них, черноволосый такой, высокий, с маузером в кобуре, приговаривал: «Никогда не поверю, чтобы такой богатый жид остался без копейки денег. Вот вытрясу из его портов всё до последнего царского червонца, тогда и отпущу».
Ванда судорожно передернула плечами, словно ее бил озноб, и Самарин вынужден был спросить:
– И что, отпустили?
– На третий день. Правда, избитого и сильно отощавшего.
– Не помнишь, когда это случилось?
– Как же не помнить? В конце сентября, в те дни еще тепло было.
– И вы, насколько я догадываюсь, остались без последней заначки?
– Отчего же, – усмехнулась Ванда, – с чем были, с тем и остались. Из того, что нам удалось припрятать в надежном месте, Моисей ни одного камушка не сдал. Правда, не очень-то гордился этим и ходил будто в воду опущенный, а когда я допытывалась, с чего бы вдруг они его отпустили, если всё осталось при нас, он только отмалчивался да коньяком накачивался. Думаешь, откуда эта бутылка? Да всё из тех же запасов, которыми он весь чулан на втором этаже забил. Этот коньяк ему тогда на телеге привезли, ночью, и какой-то мужик их в дом стаскивал. Я, естественно, его и об этом спросила, зачем, мол, нам столько коньяка, и вот тогда-то он и психанул сильно. Не поверишь, глаза выкатил и заорал на весь дом: «Дался тебе этот коньяк! Отстань! И больше обо всем этом ни слова! Ни о моем аресте, ни о чем». Ну и я, само собой, не выдержала всех этих пыток и завопила в ответ: «А если они опять придут к нам с обыском и тебя опять уволокут неизвестно куда? Ты что же, думаешь, что я железная?». И вот тогда-то он мне и сказал, словно отрезал: «Обещаю тебе, больше они к нам не придут».
– С чего бы вдруг такая уверенность?
– Не знаю, честное слово, не знаю.
Это было более чем удивительно, столь же непонятно, и Самарин не мог не спросить:
– И что, действительно никто больше не напоминал о себе?
– Нет, и со временем даже как-то забываться всё стало. Видимо, коньяк помогал бороться со страхом. Мы вновь стали обсуждать варианты возможной эмиграции, как вдруг…
Ванда ткнулась лицом в ладони и зарыдала, не скрывая всхлипов.
Позволив ей выплакаться, Самарин погладил ее по плечу и, стараясь быть предельно ненавязчивым, спросил:
– Так что же все-таки случилось?
Всхлипнув последний раз, Ванда виновато улыбнулась и отерла ладошкой зависшие на щеках слезинки.
– Прости, но ничего поделать с собой не могу. Хоть и прошло с тех пор три месяца, но… – Она зябко повела плечиками и с тоской в голосе произнесла: – Хочешь спросить, как всё это произошло, я имею в виду убийство? Так вот, должна признаться, к своему стыду, что ничего толкового сказать не могу. Помню только, что в тот день, где-то после обеда, Моисей пошел в Смольный, чтобы встретиться там с кем-то из тех, кто пообещал ему безопасный переход границы, и когда возвращался домой…
И она вновь замолчала, пытаясь сдержать слезы. Только всхлипнула каким-то нутряным всхлипом. Самарин не торопил ее, мысленно анализируя все то, что он услышал от Ванды. А подумать было, о чем.
Наконец ей удалось справиться со слезами, и она подняла на гостя полные виноватой мольбы глаза.
– Прости за слабость, но до сих пор не могу прийти в себя. И я теперь понимаю Менделя, почему он свой страх коньяком заливал, сама в подобном состоянии нахожусь. Порой настолько становится страшно, и особенно ночью, когда кто-то под окнами останавливается, что шлепаешь в столовую и…
Она обреченно махнула рукой и замолчала, тупо уставившись на коньячную бутылку.
– Его что, убили неподалеку от дома?
– Да, на Лиговском проспекте, напротив какой-то подворотни, будто его там специально поджидали.
«И это не исключено», – подумал Самарин и, чтобы лишний раз удостовериться в информированности Кузьмы Обухова, спросил:
– Ножом ударили?
– Нет, кастетом по голове. Как мне сказали в милиции, этаким специальным кастетом, с шишечками на ударной части.
– Ограбили?
– Вычистили всё, что только можно было взять.
– То есть, бумажник, часы и всё то, что в карманах было?
– Да.
– А насчет одежды как, я имею в виду, в чем он в тот день из дома ушел?
– Так, в шубейке горностаевой и ушел. Он ее больше всего любил – теплая, легкая, он ее до сильных морозов носил. А это в середине ноября случилось, так что на улице хоть и ветрено было, но не морозно.
– Шубейку сняли?
– Нет, видимо, помешал кто-то.
«Ну да, – хмыкнул про себя Самарин, – карманы обшарить и часы с цепочкой вытащить – на это у них время было, а шубейку горностаевую прихватить, которая немалых денег стоит, здесь им, видите ли, помешали».
– Ну, а шапку забрали? Или в чем он там был?
– Шапку тоже не взяли. Ее мне уже потом вернули, когда я Моисея из ледника забирала.
– Шапка дорогая?
– Так он же ни в чем дешевом не ходил!
– М-да, – пробормотал Самарин и тут же задал еще один вопрос, пожалуй, самый главный: – И что, ни одного свидетеля?
Ванда отрицательно качнула головой.
– Ни од-но-го. По крайней мере мне в милиции так сказали.
– А еще что сказали?
– То, что бандиты обнаглели окончательно и столько народа от кастетов да ножей гибнет, что в милиции ничего конкретного мне пообещать не могут.
– Когда это случилось? Я имею в виду засветло или уже ближе к ночи?
Ванда задумалась и неуверенно произнесла:
– Точного времени я сказать не могу, но, пожалуй, когда уже смеркаться стало, он как раз к этому времени обещал вернуться.
«Выходит, еще засветло», – сам для себя уточнил Самарин, и это уточнение тоже наводило на определенные размышления.
– А что в милиции сказали насчет этого?
– Да ничего. Просто поставили перед фактом – и всё. Да еще сказали, чтобы труп забрала. – Она передернула плечиками, словно ее бил озноб, и негромко попросила: – Давай закончим об этом, тяжело и больно вспоминать. Да и какой смысл ворошить то, чего уже не вернешь?
Смысл восстановить малейшие нюансы убийства Менделя был, по крайней мере это необходимо было Самарину, однако он и сам чувствовал, насколько тяжело вспоминать об этом хозяйке дома, и согласно кивнул головой.
– Да, пожалуй, хватит об этом. Покажи-ка лучше свои рисунки. Говорят, ничто так не развеивает грустные мысли, как возможность побывать на вернисаже. Кстати, ты уже выставлялась?
– Только в Варшаве, да и то это была довольно скромная выставка, всего лишь тридцать картин.
– Ничего себе, «скромная», – хмыкнул Самарин, поднимаясь со стула. – В свое время я знавал художников, и, в общем-то, неплохих, которые ни о чем подобном даже мечтать не могли.
– И что, – моментально сориентировалась Ванда, – эти твои друзья-художники эмигрировали?
– Эмигрировали, – вынужден был признать Самарин, – еще в семнадцатом году.
– А ты… – спросила Ванда, – ты почему остался?
«Почему остался?».
Этот вопрос он и сам задавал себе и до сих пор не мог найти честного, объясняющего ответа. Однако надо было что-то отвечать, и он сказал, положив ладонь на сердце:
– Не знаю.
– Такого не может быть, каждому поступку есть свое объяснение. Почему?
– Повторяю тебе, не знаю, и еще раз – не знаю. Но если ты настаиваешь… видимо потому, что не могу представить себя вне России.
Ванда с удивлением уставилась на Самарина.
– Что? – насторожился он. – Я что-то не то сказал?
– Отчего же «не то»? Всё «то», – вздохнула она, – по крайней мере честно.
– А почему вздыхаешь?
Ванда долго, очень долго молчала, потом поднялась со стула, подошла к Самарину и, положив ему руки на плечи, поцеловала.
От нее пахло коньяком.
Не ожидавший ничего подобного, Самарин даже растерялся в первую секунду. В голову вновь бросилась жаркая кровь, и он почти выдавил из себя: