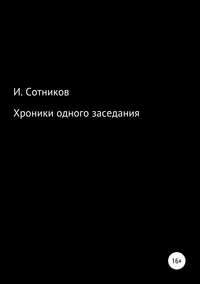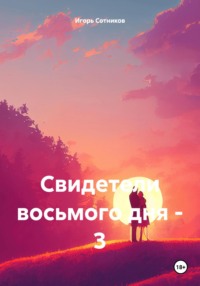Полная версия
Номенклатор. Книга первая
Но Публий, явно ожидая от мангона такого наиглупейшего поведения, ещё крепче за него взялся, и не только одними руками, а он принципиально так на него посмотрел и сквозь зубы процедил в его сторону предупреждение. – Прежде чем поступиться своим, данным во всеуслышание словом, пораскинь мозгами и посчитай в итоге, что тебе, человеку без гражданских прав по большому счёту и чьи моральные устои ставятся по большое опять же сомнение, всё это будет стоить, если ты захочешь со мной, римским гражданином, тягаться в суде.
И этого оказалось достаточно, что мангон отступился от своих претензий, посчитав самым для себя благоразумным, получить то, что ему дают сейчас, а не завтра. И он быстро перехватил ему адресуемое Кезоном, и скрылся в глубине прохода этой постройки с помостом для торгов.
– Мой прежний хозяин хоть и жмот из жмотов, но в тоже время он расточителен без меры. – Глядя вслед уходящему мангону, проговорил Этоʹт, вызвав в результате вопросы на лицах Публия и Кезона.
– Это я насчёт себя говорю. Продешевил он в этом деле безусловно. – Усмехнувшись, сказал Этоʹт. Что на этот раз вызывает смех у Публия и Кезона. Где Публий делает вполне вписывающее в концепцию заявления Этоʹта утверждение. – А ведь ты мне и в самом деле дорого обойдёшься.
– Это говорит лишь о том, что ты не беден и можешь позволить себе такие траты. – Заметил Этоʹт. И Публий не мог с ним не согласиться.
И на этом моменте зрительский интерес людей-зевак и не только, собравшихся тут и вокруг этого торгового места, где и возникли все эти перипетии торгов со спорными сюжетами вокруг них, а сейчас они затихли, и торговая жизнь начала следовать своим самым обычным, отмеренным чередом, сместился в сторону собственных заинтересованностей и проблем. Так Аверьяну Сентилию через щипок за заднее место было крепко напомнено Апетитией о его обещании. На что Аверьян ведёт себя неожиданно для Апетитии бесцеремонно и грубо, огрызнувшись в ответ: «Чего пристала, помню я».
И от такого, не имеющего объяснения ответа Аверьяна, Апетития в глазах темнеет и теряет дар речи и выразительности в лице, с которым она смотрит в спину Аверьяна, с хлопающими и наливающимися слезами глазами и начинает готовиться к эмоциональному взрыву, если Аверьян себе ещё только позволит третировать её и её желания на публике.
А Аверьян между тем, не из природной грубости и жестокости к матронам так осадил в себя Апетитию, чего, впрочем, она заслуживала по глубокому разумению Аверьяна, если он соберётся хорошо над этим вопросом подумать, а Аверьян был сейчас крайне занят. Его внимание привлёк последний выводимый на осмотр невольник, а именно критянин Критос. Насчёт которого у него возникли удивительные и закатившие его прямо-таки в безудержный смех мысли, правда пока что только про себя.
А если учитывать то, что Аверьян имел большую склонность едкой остротой разбавлять свою и жизнь окружающих его людей и плюс в нём наличествовало специфическое чувство юмора (о таких как он остроумных людях писалось одним величайшим умом, Сенекой: «Я не могу жалеть об этих людях, которые скорее готовы потерять голову, чем потерять удачную остроту»), то можно только догадываться, какую ловкую хитрость он задумал провернуть, воспользовавшись Критосом с острова Крита, о жителях которого сложился в умах людей такой обесценивающий и задевающий их достоинство штамп. Мол, все критяне лжецы.
И что удивительно, то этот слух, вылившийся в итоге в такое крепкое умственное людское убеждение или заблуждение, рождён был, кто бы мог подумать, философским умом большого учёного Эпименида, для которого слухи и молва хоть и были не проверенные практикой надуманности, которые не стоит принимать и в расчёт, – ну раз его обманул критянин, то зачем всех под одну гребёнку грести, даже если у тебя была обманным путём украдена гребёнка, – но как бы то ни было, он взял и придумал тот самый злосчастный парадокс: «Все критяне лжецы», поддерживающий на слуху это утверждение.
И вот Аверьян, любя больше всего на свете подшучивать над людьми ему близко знакомыми и особенно над теми, для кого чувство юмора совершенно неизвестная субстанция, – а кто в этих серьёзных людях ходил, то первое лицо кое приходит сейчас на ум, то это Апетития, постоянно замеченная за серьёзным отношением к себе и лицом, где она прежде чем начать серьёзный разговор с Аверьяном, всегда его строго предупреждает: «Я жду от тебя серьёзных решений, а надо мной подшучивать не смейте», – раз так серьёзно в лице сейчас подступился к этому Критосу, то у него в голове определённо сообразились интересные мысли по поводу использования Критоса в своих никому пока что не озвучиваемых целях.
А между тем, рядом с Критосом остановился не один только Аверьян со вздрагивающей в своём душевном беспокойстве Апетитией, а не успели они к нему подойти и обратиться с расспросами, как вдруг тут же объявился мангон с тошнотворной на всё лицо улыбкой и готовностью во всём быть полезным Аверьяну.
А Аверьян сам любит влиять на свой собственный ум и принимаемые им решения, и ему не нужны вот такие, как мангон посредники, и он и сам может на прямую обратиться к Критосу. Правда он не учёл настырность мангона, кто под руку ему уже начинает говорить. – Ты не смотри, что Критос с виду не столь выдающе и слегка затёрто жизнью выглядит. Он обладает неимоверной крепостью духа, и смельчак каких редко встретишь. Он, не убоявшись… – На этом месте мангон сбивается с прежней мысли, вдруг поняв, что та история, которую он хотел рассказать в качестве примера большой храбрости Критоса, не слишком будет к месту, когда она характеризует Критоса человеком не большой храбрости, а бестолковости и упёртости.
А Аверьян со своей стороны не стал дожидаться, когда мангон там про себя надумает, что ему соврать, чтобы он посчитал, что приобретение Критоса не такая уж и глупость, коей она видится буквально и невооружённым взглядом, а рассуждающе проговорил себе в нос: «Ну посмотрим, насколько ты смел», и обратился к Критосу с вопросом. – Скажи критянин, что ты перед собой видишь. – И пока Критос соображает, к чему, а точнее к кому относится этот вопрос Аверьяна, Аверьян отходит в сторону от него и перед ним оказывается лицом к лицу Апетития.
А вот такая резкая смена декораций или картин жизни перед собой, вызывает уже другие взгляды в лицах Критоса и Апетитии. Где последняя и успеть понять не успела, как она оказалась в таком неловком и смущающем её положении, лицом к лицу с человеком с компрометирующей, как минимум, её вкусовые качества наружностью. А уж затем всё остальное её за беспокоило, и что главное, так это отвратное и полное бесчинства поведение её супруга Аверьяна Септилия, бросившего её не просто на произвол своего злонамерения, а подвергнувшего её внутреннюю конституцию своему пересмотру, и не только со стороны этого типа напротив, но и у неё внутри всё начало напрашиваться в себе пересмотреть, когда на неё так в приоритете смотрят.
Но Апетития не успела так безвозвратно для себя зайти так далеко во взглядах на себя и на этого неряшливого и невразумительного человека напротив, в ком только глаза вызывают страстный интерес, желание в них смотреть и попытаться разгадать их загадку оживления в тебе таких удивительных мыслей, о существовании которых ты до этого момента и не предполагал, как со стороны Аверьяна, о себе, наконец-то, напомнившего и рядом, как оказывается, стоящего, звучит суровое обращение к Критосу: «Ну! Мы слушаем».
– Ваша матрона не столь обычна, как видится с первого взгляда. – Со многим себе позволением смотря на Апетитию, начинает говорить Критос. – Но что безусловно, так это то, что от неё глаз не отвести, так она прекрасна.
И если Апетития от этих слов Критоса вдруг почувствовала, что забыла где её ноги находятся, и у неё в голове поплыли разные рассеивающие её внимание по сторонам мысли, то Аверьяна все эти высказанности Критоса заставили в лице расстроиться и слегка насупиться.
– Ты, критянин, уж в своей смелости не отчаивайся, так заговариваясь. – С грозным предупреждением критянину о последствиях, которые немедленно наступят, если он будет так правдиво высказываться, говорит ему Аверьян. А так-то он завирается, как на этом настаивает ум Аверьяна и штампы о лживости Критоса, чьи слова и всё им сказанное, нужно понимать в обратном значении. Что, собственно, в нём и привлекло Аверьяна, решившего посредством Критоса, а точнее, вот такой обратной его понимаемости, – что он называет чёрным, есть белое, красивое, уродливым, а умное не весть каким, – повеселиться от души в дальнейшем, позвав в гости в первую очередь цензора Корнелия Варрона.
– Я ж дурень, что с меня возьмёшь. – Постучав себе по лбу пальцами руки, с дерзостью во взгляде сказал Критос.
– И то верно. Дурнем для тебя самое то считаться. – Закатывается в смехе Аверьян, вгоняя в глупое и ничего непонимающее из происходящего положение Апетитию и мангона, начавшего опять расстраиваться, чувствуя во всём сейчас происходящем для себя подвох. – Цену всё равно на него не скину, каким бы стократным дураком он не выставлял себя. – Решительно так подумал мангон. А как только он додумал: «А если меня он выставит дураком?», то земля начала уходить из-под его ног, уменьшая в край его устойчивость стояния.
Аверьян же отсмеявшись, с серьёзным лицом обращается к Критосу. – Так я жду от тебя ответа на свой вопрос, на который ты всё-таки не ответил.
– Она ждёт. Вот что я вижу. – Без промедления дал ответ Критос, бросив косой взгляд на Апетитию.
– А вот это ближе к истине. – Говорит Аверьян, переведя свой взгляд на Апетитию, которая теперь со всем своим вниманием на него смотрит и в правду ждёт от него для начала разъяснения того, что всё это значит и что сейчас происходит. Но на этот вопрос Аверьян не считает нужным отвечать, а вот что он считает сейчас первостепенным, то это напомнить Апетитии о том, для чего они сюда пришли, или может она уже передумала делать для себя покупку, выказывая себя непоследовательной и думающей только на эмоциях матроной.
– Всё так? – задался вопросом Аверьян. И, конечно, всё не так, и теперь все вопросы со стороны Апетитии и Аверьяна к мангону, кто, как ими видится, человек не самонадеянный, а с пониманием того, что матрону перед лицом её супруга нужно беспримерно уважать и указывать ей всякое почтение, в том числе делая послабления в деле понижения ценника на свой товар. – К тому же, – приводит убедительный аргумент Аверьян, – мы покупает у тебя ни одного Намидия, а оптом, плюсуя к нему Критоса, тем самым избавляя тебя от стольких проблем, кои на твою голову обязательно посыпаются, если ты оставишь у себя такого смутьяна.
А вот на чём в итоге они порешили, то это всё осталось за пределами ушей и спин, ушедших от этого места торгов Публия и Кезона, а также Этоʹта.
Глава 4
На пути к новой цели.
Гистрион и мим в одном лице Генезий и Цецина Порций в другом лице.
Аппендицит Полибий, документалист.
Цецина Порций, кандидат, и Аппий Визалий, сторона спора.
– Этоʹт, ты проявил нынче поистине большую изобретательность, проницательность и выдумку, чем завоевал в нас воодушевление разума, а к тебе чуть ли не доверие. И исходя из этого, вот что мне решилось. Веди нас туда, куда нас ведёт путь свершений. – Обратился вот так эпически к Этоʹту Публий, как только они миновали пределы рынка и остановились в тени деревьев небольшой рощицы, примыкающей к стенному ограждению рынка, чтобы перевести дух, вздохнув более свежего воздуха и решить вопрос, куда дальше путь держать.
Этоʹт в свою очередь серьёзно подходит к этому озвученному Публием предложению. А это значит в его случае, что он не будет спешить с ответом, а думающим лицом окинет взглядом стоящих перед ним людей, в чьём услужении и подчинении по своим стечениям обстоятельств и манёврам случая он с некоторых пор оказался, затем, судя по его неизменившемуся нисколько лицу, ничего в них для себя приметного не обнаружив, отвернётся от них в сторону от них и начнёт смущать их терпение и взгляды своим беззаботным и беспечным видом, глазом меряя прилежащую округу.
При виде чего Кезон, а в его глазах такое беспринципное и неблагодарное поведение Этоʹта видится, как ещё хуже, и он готов в любой момент не стерпеть всего этого, не дожидаясь объяснений Этоʹта этому своему, по мнению того же Кезона, непростительному поведению, кто непревзойдённый мастер объяснять необъяснимое и убеждать тебя в этом, уже было собрался цыкнуть и напомнить Этоʹту о том, о чём он делает такой вид, что забыл – на правду жизни, а не на её иллюзию, а именно на то, что он у них в долгу, а не они перед ним, а это значит, что они от него ожидают расплаты, а не наоборот, но тут Кезону в голову вдруг приходит удивительная мысль, где Этоʹт, прочитал все эти его неудовольствия в голове, да и подловил его на этом, обратившись к нему. – Вот ты, Кезон, и ожидаешь, как и настаивал на этом.
И Кезон застыл ещё крепче на месте, всё больше удивляясь умению Этоʹта так всё вывернуть и поставить его на место. Здесь Кезон хотел, но отчего-то не смог перенаправить своё неудовольствие в сторону Публия, кто прежде всего и него выступил инициатором решения, выкупить Этоʹта, чьё приобретение ему с самого начала не давало покоя и вызывало в нём тревожное чувство беспокойства – как есть, навлечёт он на нас неприятности. А сейчас Публий даёт столько воли Этоʹту, что Кезон начинает хмуриться в сторону Публия, ведущего себя так неразумно, хоть и объяснимо с его точки зрения, приобретателя собственности – хочет на деле проверить, всё ли в Этоʹте отвечает заявленному и самому надуманному и предположенному.
А между тем Этоʹт, вдоволь наглядевшись по сторонам, что ему было в новинку в своём новом качестве, без стягивающих ноги кандалов, вернулся обратно к ожидающим его ответа Кезону и Публию, да и не ограничился простым ответом, пустившись во вдумчивые рассуждения на ходу.
– Пойти в таверну, это первое, что напрашивается на язык, и внутри тебя вроде как всё поддерживает этот вариант выбора нами дальнейшего пути, но наши ноги туда и сами, без моего участия приведут. – Вполне здраво рассудил Этоʹт, с чем и не поспоришь. – Из-за чего, как я полагаю, вам хочется услышать от меня иного рода предложение, которое привело бы вас к другому насыщению. – И опять достойно мыслит Этоʹт. – Что ж, я готов этому поспособствовать. – Говорит он. – Но прежде, я должен задать вам один всего лишь вопрос, чтобы узнать путь вашего сердца. – Сказал Этоʹт и внимательно, в ожидании ответа посмотрел на Публия.
– Задавай. – Последовал ответ Публия.
– Тогда ответь. Кто тебе в моём лице нужен. – Не сводя своего взгляда с Публия, заговорил Этоʹт. – Человек во всём предсказуемый, кто и шага в сторону не сделает без на то твоего ведома и позволения, и оттого его путь будет отмерен и предначертан твоими пожеланиями – а это путь самый обыденный и житейский: следовать своим инстинктам, естеству и благополучию – для начала в таверну или термополию. И это путь раба, кем я сейчас невольно считаюсь. Или же тебя влечёт ко всему неизведанному и только твоим своенравием предполагаемому. Где перед тобой встанет даже не дорога в непознанное ни одним только умом, а это будет путь к этому неизведанному лицезрению жизни через ощупь сердца и стремление оседлать мечту. И если тебя к этому влечёт с той самой неосознанностью, подразумевающей твоё настоящее я, и это всё не даёт тебе быть спокойным, то тогда…– Этоʹт на этом месте замолкает, многозначительно смотря на Публия.
И Публий ответил этому направленному на него ожиданию Этоʹта. – Я готов над этим вопросом подумать Этоʹт, пока что мой именной раб, но с перспективой на другое будущее. – С понимающей улыбкой проговорил Публий. – Так куда нас приведёт второй путь? – спросил Публий.
– К книгам Сивилл, с их предсказаниями и пророчествами. Но только к настоящим, а не к тем подделкам, которые здесь продают на каждом шагу. – Проговорил Этоʹт. Чем вызвал потемнение в лице Кезона, тут же выступившего вперёд и грозно заявившего. – А тебе разве неизвестно, что грозит тому, кто даже вслух выразит не благочестие в их сторону. – И по Этоʹту не поймёшь, известно ли ему та опасность, которая не просто грозит, а она материализуется очень быстро для тех, кто решит обратить свой взор в сторону этих таинственных книг, кои приобрели для себя столь священное значение, и не является ли это его столь дерзкое предложение, грозящее Публию не одними только неприятностями, а такое дело ему грозит потерей своей головы без остатка, частью его плана по проверке Публия в им сделанном выборе второго пути. Где он не будет полагаться на житейское здравомыслие и рассудительность, а бросив им вызов, будет жить…скажем так, против бытового течения жизни.
А между тем, Этоʹту неуспевается дать ответ Кезону, как в разговор вмешивается Публий, задав вопрос. – И что это за книги? – Что вызывает неподдельное удивление у Этоʹта, как и у Кезона, не ожидавших от Публия услышать таких не знаний того, что все знают.
– Не знаешь!? – с удивлением спросил и посмотрел на Публия Этоʹт. И не дожидаясь от него ответа, пустился в разъяснение, с целью убрать эту досадную оплошность и прорехи в воспитании и образовании Публия. – Их история появления, как и должно для таких скрижалей истин, несущих могущество и власть для их обладателей, окутана мраком тайн, домыслов и мифического происхождения. – Сделал предисловие Этоʹт, интонацией своего голоса, с привлечением мимики лица, охудожествив его. Здесь он сделал кульминационную паузу для повышения внимания к себе и своему рассказу, и принялся рассказывать не всем, как сейчас выяснилось, известную легенду о появлении книг Сивилл.
– Некая старуха, явившись в Рим, предложила царю Тарквинию Гордому купить у неё эти книги за огромную цену, за 300 золотых филиппов. – Начал рассказывать Этоʹт. – Когда же царь отказался, старуха сожгла три из них. Затем она предложила ему купить оставшиеся шесть за ту же цену и, вновь получив отказ (царь посчитал её безумной), сожгла ещё три книги. Тогда царь по совету авгуров купил уцелевшие книги за первоначальную цену и назначил двух мужей (дуумвиров), поручив им охрану книг. – Этоʹт посмотрел на Публия и добавил. – Сейчас книги хранятся в каменном ящике под сводом храма Юпитера Капитолийского и считаются тайными. Для обращения к ним требуется специальное постановление сената. – На этом моменте возникла тяжёлая пауза, где никто не знал, как реагировать на этот рассказ Этоʹта, не совсем отчётливо и, может быть, не желая понимать того, к чему он вообще об этом рассказал и завёл рассказ об этих книгах, близость к которым ведёт к стольким опасностям для своей жизни.
А раз Этоʹт стал той причиной, приведшей всех их в такое сложное положение, то ему и браться за то, чтобы вывести всех из этой молчаливой ситуации. За что он и берётся, заговорив. Правда начал он не слишком успокаивающе. – Знание тайн, чем не власть над мирским миром и умами людей, – заговорил Этоʹт, – но они недоступны пока что нам по естественным и разумным причинам. Так что обратим свой взор к более для нас доступным, приземлённым предсказаниям. К оракулам Астрампсиха, легендарного египетского мага, записанные самим Пифагором и обеспечившие победы самому Александру Великому.
– Ну, с этим вопросом я бы поспорил. Но только не сейчас. А после ознакомления с этими пророчествами, как понимаю, на которые ты хочешь в случае чего сослаться и переложить вину за то, что меня надоумил со своим разумом поступаться и следовать своему предназначению. – Сказал Публий.
– Это вопрос спорный. – Ответил Этоʹт. – На ногах и на голодный желудок не решаемый.
– Значит всё-таки первый путь выбираем? – с иронией во взгляде спросил Публий.
– Долгий путь предполагает свои остановки и развороты. – Дал ответ Этоʹт.
– Что ж, если этого требует животный разум, а он плохого для себя не посоветует, то надо прислушаться к этому внутреннему голосу. – Сказал, усмехнувшись Публий. С чем, а именно с желанием направиться в сторону требований своего животного естества, он смотрит на Кезона, кто из них всех более сведущ в вопросах подкрепления питательных сил путника в Городе, и тот без лишних вопросов отвечает на этот вызов. – Пошли.
И на этом здесь всё, и они выдвинулись вслед за Кезоном, взявшим на себя право проводника. А так как путь был не близкий хотя бы по причине того, что, ни Публий, ни Этоʹт не знали куда Кезон их ведёт и приведёт, то Публий пока на их пути ничего не встретилось достойного его внимания, решил себя занять тем, что его, человека пытливого ума, заинтересовало ещё во время торгов с магоном, когда Этоʹт поставил его в тупик своим логическим рядом вопросов.
О чём он и спросил Этоʹта, следуя с ним рядом за Кезоном. – И чего всё-таки не скажешь о тебе? – А Этоʹт, будучи отвлечён на посторонние мысли и свои взгляды по сторонам, видимо сразу и не сообразил, о чём и к чему это спрашивает Публий, и он его понял буквально, а не так, как он хотел, в связи с тем прежним его разговором с мангоном.
– Чего не хочешь сказать, того и не скажешь. – С некоторым удивлением даёт ответ Этоʹт, с непониманием посмотрев на Публия. А такой его, самый простой ответ, совсем не подходил под разумение Публия, собиравшегося на основе этой цепочки вопросов вывести между ними свою логическую связь. А тут как вон всё как просто оказалось и Публий отмахнулся от Этоʹта рукой, обратив своё внимание на мимо проходящие места и на людей им встречающихся.
Где при виде архитектурных основ Города, его строений, как житейского плана, так и для общественного благоустройства и времяпровождения, того же Цирка, этой витрины публичной и праздной жизни римского гражданина, Публия распирало от гордости за Рим и заодно от величия духа римлян, что выразительно в нём выражалось через вытаращенные глаза и раскрытый рот. А вот когда ум и сердце Публия наполнилось эмоциями и новыми ощущениями от архитектурных видов Города, то он, всё же не забывая поглядывать по сторонам, на новые открытия и примечательности Города, спустился с небес на землю и обратил своё пристальное внимание на людей им встреченных, кто вполне мог и для этого есть вся вероятность, если они потомки легендарных граждан этого Города, стоять за теми великими людьми, кто уже в свою очередь стоял за теми мифическими и легендарными людьми, кто сперва и на самом деле стоял за всеми этими свершениями – заложением фундамента истины в постройку строений этого Города.
А как только Публий так приземлённо обратился к окружающему его миру, то тут-то он и вспомнил об Этоʹте, и для чего, собственно, он был вырван им из лап мангона. Тем более как раз сейчас выпал весьма удобный случай проверить Этоʹта на всё то, на что он способен и не обманулся ли сам Публий на его счёт, поддавшись на …А он и сам уже и не поймёт, что в Этоʹте так его привлекло и что заставило его не думать разумно о завтрашнем дне и пойти на такие большие траты для его настоящего положения при его покупке.
При этом Публий должно понимает, что Этоʹт не может знать всех людей здесь им на пути встречающихся, и они в большей своей массе относятся к тому самому исключению, в которое входят на лицо и по делам их Этоʹту люди неизвестные, и поэтому он подходит к делу проверки Этоʹта на сообразительность, вполне разумно и изобретательно. И он не на кого попало пальцем тычет или указывает, тут же задаваясь вопросом: «А это что за человек, Этоʹт? Как его величают или по крайней мере, чем он известен?», уже догадываясь, что ему на это ответит Этоʹт: «Этот человек сразу и без моей подсказки видно, что человек безнравственный и недостойный внимания такого честного мужа как ты, Публий», выжидает встречи с человеком наиболее непредсказуемым с виду и на свой счёт со стороны Этоʹта.
И вот они подошли к одному зданию, крайне замечательному с виду и своим внешним представлением непохожим на рядом стоящие постройки, ничем с виду не примечательными, – это здание вдоль стен было опоясано цепью фляг и связкой колбас, над входом висела вывеска «Гальский гусь», а на дверях была прибита таблица с меню, как потом при её прочтении выяснится, – от которого исходили не просто тревожащие ваши желудки и умы притягательные и живо описывающие их в своей голове запахи, а они собой затмевали весь ваш разум, и ваши ноги вдруг решали сами за себя думать и вести себя и вас под своды этого заведения, так манящего ваше воображение подающимися там блюдами. И Публий, чуть не поддавшись своим рефлексам и требованиям своего желудка, вдруг вознамерившегося взять на себя право решающего слова, заметив удивительного вида человека, решил о нём поинтересоваться у Этоʹта.
А этот удивительный человек, не просто стоял на входе в эту термополию, как уже можно было догадаться, а он как бы это сказать понятнее, не имея больших познаний в деле знаний терминологий, выразительно стоял, декларируя себя. И при том настойчиво и неуёмно – казалось, что он не мог найти в себе, тут под собой и рядом вообще спокойного места, вот он и не стоял на одном месте, переминаясь в ногах, импульсируя и эволюционируя лицом в дикость своего вида и понимания.