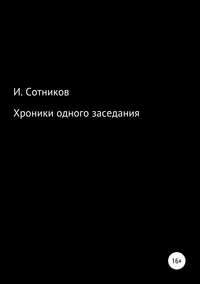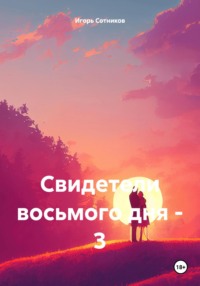Полная версия
Номенклатор. Книга первая
– Он в последнее время стал ленив и не добросовестен в деле выполнения своих обязанностей. – Говорит Апетития, в момент насупив в грозность лицо Аверьян, терпеть слышать уже не могущего такого рабского своеволия. И Аверьян уже готов взорваться в страшном гневе, с немедленной отдачей команды, покарать этого смутьяна и негодяя Метавра, кто смеет сметь так перечить своей госпоже, но он не успевает обрушить на голову смутьяна Метвара весь свой гнев, а всё потому, что Апетития озвучивает ему, чего она ещё хочет добиться покупкой Намидия.
– Пусть поборются за моё внимание и благосклонность, а я посмотрю на… – Но Апетития и сама на этом месте перебивается Аверьяном, кого в этот момент озарила догадка, которая требовала от него для себя немедленного выхода. – Кого из них отдать в гладиаторскую школу. – Дополнил своим заявлением недосказанность и желание Апетитии Аверьян, в чей голове и сердце было много места для столько всего разного, что он и бросался в разные стороны, ища чем себя занять при его больших и богатых возможностях. И он не только пробовал себя в деле поэтического искусства, что было только частью из того, куда он направлял свои таланты, но он также желал приобщиться к гладиаторским боям, через покупку гладиаторов и выставления их на бои.
И это его желание и перебороло в нём скептицизм насчёт разумности этой покупки по такой баснословной цене, за которую был выставлен на продажу Намидий. Но не сразу, а он ещё должен убедиться в верности слов торговца живым товаром, обязательно пожелающего его обмануть, хотя бы на несоответствии представленных на их взгляд характеристик раба и того, что он на самом деле в себе несёт и из себя представляет. Ну а среди этих торговцев живым товаром и человека правдивого слова никогда не встретишь, а среди них одни только лжецы и враги человека. – Если не обману хоть одного покупателя, то и спать спокойно не смогу от угрызения совести за своё недолжное следование основному правило торга: не обманешь, не продашь. – Вот так рассуждали все эти торговцы, мангоны.
А что насчёт утверждения, что среди них и правдивого человека не встретишь, то такой взгляд на себя ими аргументированно объясняется их жестоким на правду жизни ремеслом, где всякая человечность только вредит ему, и они её со временем теряют, принимая самый бесчеловечный облик и нрав. Что как раз и является побочным эффектом их прибыльного дела, но опустошительного для души занятия.
И вот Аверьян, нисколько не доверяющий увиденному, написанному и тем более сказанному в устах мангона, решает собственноручно убедиться в верности всего того, чем облагородил и живописал свой живой товар мангон. Для чего он подзывает мангона и озвучивает ему своё желание – поближе рассмотреть этого, как его там, а, Намидия.
– Давай, веди его сюда. – Говорит Аверьян. На что мангон хотел было возразить, что мол здесь общественные торги и что он таким образом ставит в невыгодное положение других покупателей, кто может быть уже нацелился на покупку Намидия, одно из лучших его предложений, а тут их чуть ли не отстраняют от торгов, уводя Намидия. И если бы он был уверен в том, что высокочтимый гражданин, – мангон бросил многозначительный взгляд на Аверьяна, – будет делать покупку Намидия, то он, конечно, и не посмотрел бы в сторону других покупателей, кто готов прицениться к Намидию, а так… – Веди, отброс, кому сказано! – рявкнул на мангона Аверьян, чем тот был приведён к дисциплинированности и послушности, отправившись за Намидием.
Пока же на Намидия обрушиваются угрозы и тычки в спину со стороны разъярённого и взбешённого мангона, пообещавшего тому такой весёлой жизни дальше, если он не будет сегодня куплен, что вся прежняя его жизнь в цепях ему покажется цветочками, Аверьян, выказавший себя столь самостоятельным на свои решения мужем, кому перечить себе дороже выйдет, получил для себя заслуженную награду со стороны Апетитии – взгляд неприличия для начала, питавшей особую страсть к мужественному поведению и поступкам Аверьяна. При виде которых она переставала себя чувствовать спокойно и начинала глубоко дышать прямо в ухо Аверьяну, кого она пыталась смутить ещё тем, что начала его щипать за одно мягкое место, на котором ему после ещё сидеть. Но Аверьян человек мужественный и он готов все эти крепкие щипки стерпеть, лишь бы Апетития была довольна и не слишком неразумна в своих требованиях к нему.
Но вот Намидий приведён к ним и Аверьян с видом человека кого не стоит обманывать хотя бы потому, что его не обманешь и плюс он неуправляем в своём бешенстве, если всё же кто-то его надумает обмануть, начинает свой осмотр Намидия, забыв, наверное, о том, что Апетития тут имеет первое право слова. И вот Апетития, затёртая Аверьяном за его спину, начинает нервничать и сердиться на Аверьяна за такое его поведение, что она и выказывает, надув в недовольстве свои губки и щёки с ямочками на них.
Но Аверьян нисколько не обращает внимания на Апетитию, принявшись ощупывать руками крепость рук Намидия, его плеч и всего остального, что он посчитал нужным. И когда он уже собирался заглянуть Намидию в рот, – давай живо раскрой рот и покажи мне зубы, – как в этот момент до него со стороны доносится хоть и тихий, но вполне членораздельный голос. – Дарёному рабу в зубы не заглядывают. – Что моментально сбивает Аверьяна со всякой мысли и он одёргивается от своего осмотра Намидия, переведя свой взгляд в ту сторону, откуда до него донёсся этот голос.
Ну а там, откуда до Аверьяна донёсся этот голос, стоял небольшого роста человек объёмного в животе и лице образа, кто незатейливым в своём простодушии взглядом своих удивительно живых глаз, с интересом и любопытством смотрел на него. А при виде такого занимательного на себя простодушия, Аверьян не сразу и сообразил, как себя в отношении такого вмешательства в свои дела вести.
И так бы Аверьян ещё некоторое время заблуждался насчёт того, как на всё это реагировать, если бы не вышедший вперёд мангон, поспешивший объяснить Аверьяну на кого ему не стоит нисколько обращать своего внимания. – Это мой раб Этоʹт, дурень из дурней. Что услышит, увидит или в голову ему придёт, то на чистом глазу, без зазрения совести, как есть и говорит. – Делает пояснение мангон.
– Это всё я вижу. – Говорит Аверьян. – Вот только я не вижу твоего усердия мангон в деле приведения в порядок и смирение своего расхрабрившегося сверх меры раба.
На что у мангона есть что ответить, в чём можно было, в общем, и не сомневаться.
– Всё бесполезно, – со вздохом говорит мангон, – не выбить ни в какую из него всю эту дурь, с коей он живёт в своей своевольной голове. – А у Аверьяна на этот счёт имеются вполне разумные и конструктивные предложения.
– А ты не пробовал щипцами или через колено прикусить ему язык. – Предлагает действенные меры Аверьян, не понаслышке знающий, сколько сложностей в твою жизнь приносит вот такой человек, со своим умом, мыслями и невоздержанными и всё примечающими взглядами, кои он не считает нужным при себе держать и вокруг себя с огромной скоростью распространяет.
– Слишком дорого он мне обошёлся, чтобы его лишать того единственного, за что он ценен. – С прискорбием за такое своё сложное положение, в которое он попал в результате своего попустительства при приобретении Этоʹта (обещали одно, а получил он совсем другое), пожаловался мангон на свою трудную судьбу работорговца. Кого никто и за человека не считает, и все так и норовят ущемить его гражданские права, коих и так нет в полной мере, и тогда можно ему дать по шее, отдавить ноги, и что главное, недоплатить за его товар.
И всю эту хитрость в мангоне отлично видит Аверьян, теперь точно убедившись в том, какой ловкач на хитрость мангон, решивший его тут обдурить насчёт этого своего раба, кто, конечно, не воздержан на свой язык сверх меры, дерзок во взгляде, но что-то подсказывает Аверьяну, что у него в голове не больше дурных мыслей и глупостей, нежели у мангона. И Аверьян, оттеснив собой в сторону мангона, обращается с вопросом к его рабу, Этоʹту.
– Вижу, что твоя ненасытность в деле пищеварения нисколько не пострадала в этом твоём подневольном положении. – Говорит Аверьян, кивая в сторону выдающегося вообще, а также вперёд, живота Этоʹта. – Из чего прямо напрашивается вывод, что твой хозяин заботлив к тебе в своём обращении. И что тебя тогда не устраивает, если ты столь не воздержан на язык.
– Ты, человек, не верно трактуешь то, что видишь. А не видишь ты что на самом деле есть потому, что смотришь на вещи поверхностно, не вникая в их суть – Говорит Этоʹт. – А суть такова, что я человек большого богатства, что и позволяет мне оставаться самим собой в любом положении. И это ценно не только само по себе, но и ценимо моим расчётливым хозяином. – Этоʹт многозначительно закатывает один глаз, как будто мигает, а вторым в этот момент он смотрит на магона. – Кто посредством меня желает обрести несомые мною богатства. – На этом моменте Этоʹт неожиданно наклоняется к Аверьяну и, глядя ему в глаза, задаётся вопросом. – Хочешь послушать историю обретения мною моего богатства? – И Аверьян, так подловленный Этоʹтом, ничего другого и ответить не может, как только согласно кивнуть в ответ.
И Этоʹт, поправив на своей голове шапку, начинает рассказывать свою историю:
«Один бедняк занемог и, чувствуя себя совсем дурно, дал обет богам принести им в жертву гекатомбу, ежели они его исцелят. Боги пожелали его испытать и тотчас послали ему облегчение. Встал он с постели, но так как настоящих быков у него не было, слепил он сотню быков из сала и сжёг на жертвеннике со словами: «Примите, о боги, мой обет!» Решили боги воздать ему обманом за обман и послали ему сон, а во сне указали пойти на берег моря – там он найдёт тысячу денариев. Человек обрадовался и бегом побежал на берег, но там сразу попался в руки разбойников, и они увезли его и продали в рабство: так и нашёл он свою тысячу денариев». – Этоʹт замолкает и с прежним не беспокойством и поразительным обыкновением в лице останавливается в обездвижении и смотрит на Аверьяна, ожидая от него… В общем, ничего.
А Аверьян, ещё находясь в процессе переваривания этого рассказа Этоʹта, звучащего как басня, и сказать ничего пока что не может. И тогда Этоʹт вновь берёт слово. – А что насчёт моего языка, то злоупотребление не отменяет употребления. Вот я его и употребляю по своему назначению.
Что приводит в сознательные чувства Аверьяна, и он, повернувшись к магону, спрашивает его. – Ты что-то о нём недосказал, если столько за него просишь, чуть ли не тысячу денариев? – И по мангону видно сразу, что он определённо что-то насчёт этого Этоʹта утаил или может недосказал, а вот что, то кроме всего им ранее сказанного и плюс того, что Этоʹт, собака, не воздержан на свой длинный язык, он и сам толком выразить не может.
И видя такое затруднение, в которое впал мангон, за кем никогда таких оплошностей в деле торга не замечалось, слово берёт опять Этоʹт. – А столько за меня он просит потому, что я слишком много для него значу, – говорит Этоʹт, – так как многое о его тёмных делишках знаю. Вот он так дорого меня и ценит, выставляя такой большой ценник, в сердцах не желая со мной расстаться. А так-то я ни к чему неприспособленный тунеядец и паразит на человеческом неразумении.
И тут в ход этой беседы и представления себя Этоʹтом, и так сверх меры взявшего на себя столько слов, вмешивается Публий, всё это время стоявший тут же рядом и наблюдавший за всем происходящим. – Значит, ты если не всё, то всё, что человеку востребовано знать знаешь? – задался вопросом Публий. Чем вызвал в свою сторону общее внимание.
– Вижу пытливый ум. – Говорит в ответ Этоʹт, продолжая себе позволять самоволие в глазах магона, наливающегося гневным видом. – У меня к тебе один лишь вопрос. Кто тебе в моём лице нужен?
– Тот, кто знает людей. И не только по именам. – Говорит Публий.
– Ты здесь попал в точку. Я как раз тот, кто тебе нужен. – Делает заявление Этоʹт. А вот такая быстрая находчивость и сообразительность Этоʹта, хоть и плюсуется ему, но Публием она видится, как плод влияния хитроумности в деле обмана мангона, в чьём обществе Этоʹт, скорей всего, долгое время находился и от него набрался всей этой находчивости в деле введение в заблуждение бесхитростного и верящего всему, что ему скажут человека. И подразумевая всё это за Этоʹтом, Публий делает заявление о том, что было бы не плохо на деле проверить умение Этоʹта различать людей между собой. А если более понятней и проще для начала, то есть ли у Этоʹта в наличие память, чтобы запомнить имена представленных для своего запоминания людей из числа… хотя бы невольников мангона, которые будут ему представлены в одной последовательности, а затем перемешаны в своей массе и уже в другой последовательности к нему подведены.
Сделав такое предложение в беседе с Этоʹтом, Публий, перебивший все прежние гражданские инициативы здесь находящихся людей, а в частности Аверьяна, кого теперь постигла участь Апетитии, он был отодвинут в тень спин, в ожидании решения смотрит на мангона, находящегося до сих пор в некоторой растерянности. И мангон сообразил, что он таким несознательным поведением может не только упустить выгоду, но и вызвать на свою голову гнев покупателей.
– Сейчас всё организуем. – Говорит мангон, и было собирается направить свой ход в сторону помоста, где расположились невольники, как в этот момент Этоʹт своим заявлением: «Я бы так не спешил», ставит всех тут в тупик непонимания того, что всё это значит.
А Этоʹт, уже недоступно для понимания благоразумия в человеке, чего он вообще добивается таким своим неразумным в самом лёгком случае поведением, и на грани сметного приговора, единственное, что его ждёт в том обычном случае, если он останется в руках мангона, всё не умолкает. – Разве разумно требовать от запертой в клетке птицы свободного полёта? – прищурив глаз, Этоʹт посмотрел через призму Публия на мангона.
И если Публий был потрясён дерзостью и одновременным умением Этоʹта, таким ловким, словоречивым образом указать на незаметные сразу обстоятельства его скованного положения – его ноги находились в тисках кандалов, то мангон на этот раз взорвался негодованием.
– Да я тебя! – вскрикнул мангон, замахнувшись рукой на Этоʹта. А тот и не думает как-нибудь в лице стыть от страха и вообще реагировать, оставаясь неизменчивым во всём себе. И Этоʹт только глазом моргнул в сторону размашистого движения рукой мангона, и продолжая смотреть на него бесцеремонно и беспечно, можно вот так назвать его взгляд на мангона, говорит ему. – Не торопись портить товар лицом и понижать его в цене.
И по застывшему в одном положении мангону, до кого видно дошёл этот посыл Этоʹта и на кого удивительнейшим, расслабляющим образом действуют слова несущие в себе ценообразование или её подробность, становится понятно, что он одумался и сообразил не вести себя так не воздержанно и уже со своей стороны беспечно.
– И то верно. – Говорит мангон, опуская свою замахнувшуюся было руку. – Но учти, – придвинувшись к Этоʹту, проговорил мангон, – если ты сегодня не возместишь мне убытки, несомые мной каждый момент своего нахождения у меня, то я приведу в исполнение то, что давно тебе обещал.
– Я же не враг себе. –Удивлённо пожимая плечами, говорит Этоʹт. И только мангон в лице успокаивается и запускает руку в свои одежды за ключами от кандалов, как Этоʹт его сражает своим новым словом. – Чего не скажешь о тебе.
– Чего не скажешь обо мне? – мгновенно реагирует мангон.
– Того, чего не скажешь о себе. – С тем же спокойствием отвечает Этоʹт. Но мангон на этом не успокаивается, и он по-новому спрашивает. – А чего не скажешь о себе? – И здесь многими умами, предпочитающими ординарно и штампами мыслить, ожидалось, что Этоʹт в своём ответе будет придерживаться всё той же логики и алгоритма, которому он следовал в своём ответе мангону – перебрасывать мяч на его поле ответа, но Этоʹт, как выясняется всеми сейчас, не такого, рядового склада ума человек, и он вместо ожидаемого ответа: «А того, чего скажешь о тебе», который ведёт в логический тупик, говорит совсем другое. – Чего ты не скажешь. – На чём и попадается мангон, сбиваясь с хода отмеренный прежними ответами мысли, и он зависает на этом мысленном пути, пытаясь разобраться в ответе Этоʹта. А тот не зря всё так завернул и Этоʹт берёт инициативу в свои руки.
– Так чего же ты всё-таки умалчиваешь перед нашими покупателями обо мне? – задаётся всеуслышание вопросом Этоʹт, таким образом перед всеми демонстрируя и выставляя своего хозяина за человека не просто неискреннего и готового в любой момент облапошить покупателя, сторговав ему залежалый, порченный и несоответствующий написанному на табличках товар, но он готов пойти на подлог, продав вам не просто невольника, находящегося в его собственности, а оспариваемого на право его собственности невольника (циничный век, циничные словесные расходы).
И вот такая постановка вопроса Этоʹтом, начинает волновать не только одного мангона, но и для людей, собравшихся тут вокруг этого происшествия или для кого-то забавного недоразумения, среди которых было больше зевак, нежели тех, кто пришёл сюда по делу, приобрести для себя кое-какой товар, всё это становится захватывающе интересно.
И тут Кезон проявляет на удивление большую прозорливость в понимании законов и права. Так он, глядя на мангона и выставленных на торг рабов, сказал. – Самая бесспорная собственность та, которую захватили у врага. – После чего добавил знаковую фразу. – Сколько врагов, столько рабов.
А вот мангон, на этот раз верно сообразив, что вступать в полемику и споры с этим Этоʹтом, у кого язык без костей, для себя дороже выйдет, тут же бьёт того в грудь кулаком, от удара которого Этоʹт валится спиной об оземь. Чего как раз и добивался мангон, теперь со спокойным лицом снимающего с него кандалы. Когда же кандалы сняты, мангон отдаёт команду одному из своих подручных людей, со зверским лицом и пропорциями своего грузного отчасти и могучего тела, чтобы он вывел из массы невольников первых семерых попавшихся и выстроил их здесь, на свободной площадке перед помостом.
Пока же подручный мангона выполняет своё поручение, мангон обращается к Публию, кто выступил с этим предложением по проверке памятливой учёности и умению Этоʹта сообразить, что от него требуется людям от кого он зависим. – Людей то я здесь поставлю, но как быть с тем, что он их всех и так знает.
– Я их представлю ему под другими именами, затем мы их уведём в сторону и будем в произвольном порядке выводить сюда, где он должен будет назвать каждого по его новому имени. – Сказал Публий. На что воображений не последовало, к тому же всё было готово для того, чтобы приступить к задуманной Публием проверке.
И Публий сперва бросил взгляд на Этоʹта, в ожидании на него смотрящего, затем направил свой шаг к выстроившимся в цепочку невольникам, где он прошёлся вдоль этого ряда, вглядываясь в лица невольников. А как только он прошёл от первого лица этого ряда до последнего, то он развернулся в обратный путь и, обратившись к Этоʹту: «Запоминай Этоʹт», называя имена при проходе мимо каждого невольника: «Гиппократ, Софокл, Архимед…», выдвинулся в обратный путь.
Когда же Публий закончил с этим ознакомительным делом для Этоʹта, невольники был уведены обратно, и после небольшой паузы, начали по одному выводиться в центр этой импровизированной сцены, перед помостом. И как теперь уже Публием и может быть Кезоном одними ожидалось, а многими другими и в частности мангоном, всё спорно виделось, Этоʹт прошёл без запинки правильно это испытание своей памяти, безошибочно назвав всех невольников под теми именами, под которыми они были представлены Публием.
И вот, в самом последнем случае, когда на свободную площадку был выведен непоседливого вида и такого же проворного качества человек, кому видимо всегда спешилось куда-то, и он оттого никогда ни в чём не поспевал, а раз так всё для него сложно складывалось, то он, сообразив очень для себя благоразумно, что раз он в любом случае всегда опаздывает и опоздает, как бы он не торопился, то будет наиболее для себя выгодным, быть флегматично к этой жизни настроенным, и теперь мир вокруг себя, надо не видеть и не смотреть, а только созерцать, то Публий на правильный ответ Этоʹта: «Спицион», счёл для себя необходимым, а может интересным, добавочно спросить Этоʹта. – И кто он?
Этоʹт в ответ посмотрел на Публия с тем же непростым взглядом разного рода подразумевания, и сделал шаг навстречу пониманию Публия, а если буквально, то к Спициону, кем был назван критянин Критос, как его знал Этоʹт. А это его знание всех этих людей, видимо, и позволило ему без особых сложностей справиться с этой поставленной перед ним задачей, чья сложность на самом деле заключалась в не в самой постановке вопроса, запомнить по новым именам людей ему представленных, а в способности Этоʹта сообразить, что эти имена для Публия значат, и в этой знаковой подробности с интонацией озвучить то или иное имя.
А вот почему Публия так заинтересовало именно это имя, то тут Этоʹт ещё не сумел разгадать Публия, в ком он, по тем его именным предпочтениям, кои он использовал при именовании людей, связанных с его родиной, Элладой, начал видеть близкого себе по умственному и духовному порядку человека. Хотя догадки всё же есть. Спицион для Публия личность незнакомая и неизвестная, и ему, смотрящему на эту личность со стороны, хочется сверить свой взгляд с его взглядом.
– Спицион, личность легендарная. – Уставившись в упор в Критоса, стоя в буквальной близи от него, проговорил Этоʹт. После чего он смотрит на Публия и говорит. – И этим нимало сказано.
А Публий со своей стороны понял, что хотел сказать Этоʹт, и он подступается к мангону со своим раздражением и неудовольствием при виде такой дерзости со стороны Этоʹта. – А твой раб груб, не воздержан на язык и своеволен. А это всё это перевешивает демонстрируемые им способности своей памяти. И сдаётся мне, что его разум мотивирует всё так хорошо запоминать в людях, не его склонность к благочестию, а его внутренняя пагубность характера, с его не любовью к людям, где он не просто людей запоминает, а своей злопамятивостью их запоминает, чтобы затем при случае им за всё припомнить. И боюсь, что этот твой раб мне в будущем будет дорого стоить. – Тяжко и как показалось одному только Кезону, наигранно вздохнул Публий. Здесь он выдержал небольшую паузу, во время которой его посетило раздумье, которое его и навело на одну мысль. И если эту мысль рассмотреть без предубеждения, а вначале подать убедительно для всех участников этого разговора, то она может показаться вполне себе сносной для того же мангона, в чью сторону смотрит Публий и для кого, собственно, она предназначена.
– А вот если бы он на начальной стадии, покупки, меньше для меня стоил, то тогда бы я, так уж и быть, согласился понести за него в будущем расходы. – Сделал вот такое предложение Публий, восхитив им не одного только Кезона, порадовавшегося за то, как Публий быстро учится и набирается ума.
Но в сделке участвует две стороны, и если одна полностью согласна со своим предложением, которое ей кажется верх совершенства и нечего тут больше думать, а его нужно немедленно принять, то вторая сторона потенциальной сделки смотрит на всё это дело иначе, с противоположных позиций, и она не безосновательно, судя хотя бы по себе, считает, что её оппонент, всего вероятней, хочет его надуть и в его только с виду хорошем предложении есть какой-то скрытый обман его.
И так всего вероятней, рассуждал мангон, раскладывая по своим полочкам предложение Публия и посматривая на Этоʹта, кто для него так и остался загадкой. И при этом несущей в себе непредсказуемость и опасность. Что чуть ли не требовало от него немедленно избавиться от Этоʹта при первой же возможности, как сейчас, – какую ещё опасность он на его голову своим язвительным языком наведёт, – но с другой стороны мангон не мог остаться внакладе при таких вложениях в свой товар. Отчего он и отталкивается в своём ответном заявлении.
– Благоразумное основание для торга. – Ответно говорит мангон, криво улыбаясь. – Но я не должен остаться в накладе. – Вполне резонно добавляет мангон.
– Тогда, ни тебе, ни мне, как самое достойное и разумное предложение, исходящее из наших переговоров. – В запале воодушевления заявляет Публий и, не давая мангону сообразить, что это значит и сколько в монетах это выходит, со словами: «По рукам», протягивает так упорно близко к нему свою руку, что у мангона нет никакой возможности не скрепить своей рукой этот договор. А иначе ведь можно и кулаком в лицо получить.
Ну а Публий, удовлетворённый такой сговорчивостью мангона и его умением правильно сообразить, что для него на данный момент более всего важнее и что отвечает его интересам, обращается к Кезону с просьбой. – Кезон, отчитай мангону пятьсот денариев.
Мангон же, только сейчас поняв, сколько ему будет стоить такое понимание этого ловкого на его обман покупателя, и что в итоге суммировано значила формула расчёта «ни мне, ни тебе» – 1000 денариев от первоначальной цены минус грабительская для него половина, изменился в лице в сторону жестокого недовольства, с намерением расторгнуть такую для себя грабительскую сделку – он начал вырывать свою руку из крепкого рукопожатия Публия.