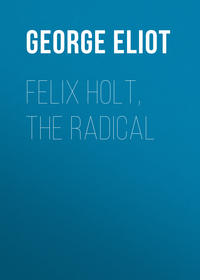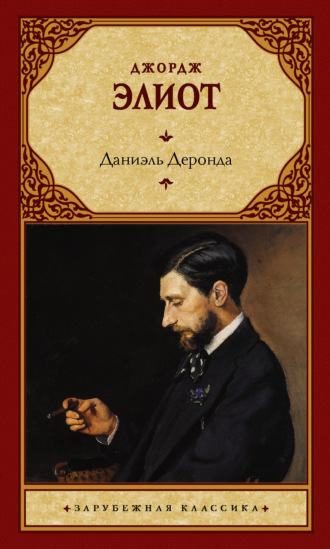
Полная версия
Даниэль Деронда
Глава V
Прием, оказанный Гвендолин соседями, вполне оправдал ожидания дяди. Везде, от Брэкеншо-Касла до поместья «Пихты» в Вончестере, где на широкую ногу жил банкир мистер Кволлон, красавицу приняли с нескрываемым восхищением. Даже те леди, у которых она не вызвала безусловного одобрения, обрадовались привилегии приглашать к себе новую интересную особу. Стоит ли напоминать, что часто принимающие гостей хозяйки должны составлять списки обедающих с той же осмотрительностью, с какой министры формируют свои кабинеты – исходя не только из личной симпатии. К тому же, чтобы заполучить Гвендолин в качестве гостьи, вовсе не требовалось приглашать кого-то неприятного – миссис Дэвилоу выступала в роли тихой, благопристойной дуэньи, а мистер Гаскойн с готовностью соглашался на любые предложения.
Среди тех домов, где Гвендолин не очень любили, однако с готовностью принимали, следует назвать Кветчем-Холл. Одним из первых светских раутов мисс Харлет стал большой обед у Эрроупойнтов, где произошло официальное представление ее местному обществу. Дело в том, что в тщательно подобранный по возрасту элитный круг из тридцати человек вошли представители почти всех достойных внимания семейств. Но ни одна молодая особа не могла сравниться с Гвендолин, когда та в белых одеждах, подобно видению, прошла по длинной анфиладе украшенных цветами и огнями комнат. Никогда прежде мисс Харлет не присутствовала на столь торжественных мероприятиях, но в эти минуты с восторгом ощущала, что произвела впечатление своим парадным выходом. Впервые увидевший красавицу наблюдатель мог предположить, что роскошные залы и множество лакеев вдоль стен – обычное явление ее жизни, в то время как кузина Анна, действительно хорошо знакомая с обстановкой, растерялась почти так же, как внезапно попавший в яркий луч света кролик.
– Кто это шествует рядом с Гаскойном? – поинтересовался архидиакон, отвлекаясь от обсуждения военных маневров, к которым, как истинный священнослужитель, питал естественную склонность.
А в противоположном конце комнаты его сын – подававший большие надежды молодой ученый, уже успевший прославиться новыми переводами греческих текстов, – почти в тот же момент воскликнул:
– Боже милостивый! Что это за античная богиня с великолепно поставленной головой и восхитительной фигурой?
Однако благодушно настроенному уму, желающему, чтобы все вокруг выглядели хорошо, было больно видеть, насколько Гвендолин превосходила и затмевала остальных. Даже красивая мисс Лоу, известная как дочь леди Лоу, внезапно показалась коренастой, неуклюжей и тучной, а мисс Эрроупойнт, к несчастью, также одетая в белое, сразу напомнила портрет дамы, в котором интерес представляло исключительно ее платье. Но если мисс Эрроупойнт пользовалась всеобщей симпатией за естественную простоту и легкость, с которой несла груз своего богатства и сглаживала странности в поведении матушки, то в привлекшем всеобщее восторженное внимание изысканном облике Гвендолин отмечалось нечто неуместное.
– Если внимательно рассмотреть лицо мисс Харлет, она вовсе не покажется красивой, – в разгар вечера заметила миссис Эрроупойнт в доверительной беседе с миссис Валкони. – Всего лишь обладает определенным стилем, на первый взгляд производящим неотразимое впечатление, но потом оказывается менее привлекательной.
Случилось так, что, вовсе того не желая, а стремясь к противоположному эффекту, Гвендолин оскорбила хозяйку дома – особу не вспыльчивую и не раздражительную, однако обладающую некоторой впечатлительностью. В натуре леди Кветчем, по мнению местных резонеров, просматривались некоторые особенности, неразрывно между собой связанные. Так, упоминалось, что она унаследовала огромное состояние, нажитое посредством не слишком благородного бизнеса в городе, и это обстоятельство в полной мере объясняло приземистую квадратную фигуру, резкий, похожий на крик попугая, голос и невероятно высокую прическу. Так как эти детали делали ее внешний вид нелепым, многие полагали вполне естественным, что эта леди имела и литературные наклонности. Однако даже при поверхностном сравнении легко доказать, что все эти качества существуют независимо друг от друга: дочери членов городского управления обладают прекрасной фигурой и правильными чертами лица; миловидные женщины порою наделены резкими или хриплыми голосами, а создание слабых литературных произведений свойственно людям с чрезвычайно разнообразными физическими особенностями, будь то мужчины или женщины.
Гвендолин, зорко отмечавшая в окружающих мельчайшую нелепость или странность, но расположенная к любому, кто способен сделать ее жизнь приятной, собиралась завоевать расположение миссис Эрроупойнт, проявив такой интерес и внимание, какого не проявляли остальные гости, однако самоуверенность чаще всего основана на воображаемой глупости собеседников. Точно так же обеспеченные люди разговаривают с бедняками льстивым тоном, а те, кто пребывает во цвете лет, нарочито повышают голос и упрощают речь в беседе со старшими, заведомо считая их глухими и бестолковыми.
При всем своем уме и стремлении казаться любезной Гвендолин не избежала подобной ошибки: не дав себе труда поразмыслить, заранее решила, что если миссис Эрроупойнт нелепа, то наверняка не отличается прозорливостью, а потому разыграла небольшую сценку, не подозревая, что без внимания не остались даже малейшие оттенки ее поведения.
– Говорят, вы любите читать, а также увлекаетесь музыкой, верховой ездой и стрельбой из лука, – начала беседу миссис Эрроупойнт, после обеда подойдя к Гвендолин в гостиной. – Кэтрин обрадуется такой разносторонней соседке.
Эти слова, произнесенные негромким мелодичным голосом, прозвучали бы самым благожелательным комплиментом, однако сказанные резким, непомерно громким тоном показались Гвендолин унизительно покровительственными, и она игриво ответила:
– Напротив, я считаю, что это мне необыкновенно повезло. Мисс Эрроупойнт сможет объяснить, что такое хорошая музыка. Я готова поступить к ней в ученицы. Слышала, что она хороший исполнитель.
– Кэтрин, несомненно, обладает прекрасными музыкальными способностями. Сейчас у нас живет первоклассный музыкант герр Клезмер; возможно, его произведения вам известны. Я вам его представлю. Полагаю, вы поете. Кэтрин играет на трех инструментах, но не поет. Надеюсь, вы порадуете нас своим искусством. Говорят, вы настоящая певица.
– О нет! «Мастерство ничтожно, однако стремление велико», как заметил Мефистофель.
– Ах, вы с легкостью цитируете Гёте! В наши дни молодые леди так глубоко образованны. Полагаю, вы уже прочитали все на свете.
– Нет, далеко не все. Буду рада, если посоветуете, что следует прочитать. Я просмотрела книги, хранящиеся в библиотеке Оффендина, но не нашла ничего интересного. Страницы слиплись и пахнут плесенью. Я хочу писать книги для собственного развлечения, как это делаете вы! До чего же, должно быть, приятно создавать сюжет по собственному вкусу, вместо того чтобы читать чужие сочинения! Книги домашнего изготовления, очевидно, кажутся особенно милыми.
Сатирический оттенок последних слов заставил миссис Эрроупойнт внимательно посмотреть на юную гостью, однако Гвендолин по-девичьи невинно воскликнула:
– Ради собственной книги я готова отдать все, что угодно!
– Так что же мешает вам писать? – ободряюще произнесла миссис Эрроупойнт. – Надо просто начать, как это сделала я. Перо, чернила и бумага найдутся в каждом доме. Я с удовольствием пришлю вам все мои сочинения.
– Спасибо. Буду очень рада прочитать ваши книги. Знакомство с автором должно помогать пониманию их замыслов: во всяком случае, легче определить, какие части смешны, а какие серьезны. Боюсь, часто я смеюсь не там, где нужно. – Здесь Гвендолин осознала опасность и поспешила добавить: – У Шекспира и других великих писателей никогда не поймешь, что сказано в шутку, а что всерьез. Но мне всегда хочется знать больше, чем написано в книгах.
– Если вас заинтересуют мои сочинения, могу предложить их в рукописном виде, – заявила миссис Эрроупойнт. – Думаю, что рано или поздно я опубликую эти вещи: друзья убеждают меня это сделать, а упрямиться нехорошо. Вот, например, моего «Тассо»[5] – можно было бы сделать в два раза толще.
– Я без ума от Тассо, – уместно вставила Гвендолин.
– Что же, если хотите, я вам дам рукопись. Как вам известно, о Тассо писали многие, но все эти измышления неверны. Что касается особенной природы его сумасшествия, чувств к Леоноре, истинной причины тюремного заключения, характера Леоноры, которая, на мой взгляд, была бессердечной женщиной, иначе вышла бы за него против воли брата, то в этих вопросах все ошибаются. Мое мнение отлично от мнения других авторов.
– До чего интересно! – восхитилась Гвендолин. – Мне нравится от всех отличаться. Я считаю, что соглашаться ужасно глупо. Вот что самое плохое в изложении собственного мнения: заставлять людей соглашаться.
Это высказывание пробудило задремавшее было легкое подозрение миссис Эрроупойнт, однако Гвендолин выглядела совершенно искренней и с невинным видом продолжала:
– Не знаю ни одного сочинения Тассо, кроме поэмы «Освобожденный Иерусалим», которую мы читали и учили наизусть в школе.
– О, его жизнь намного интереснее творчества. Я написала роман о ранних годах Тассо. Если вспомнить его отца Бернардо и прочие коллизии, то многое может показаться правдой.
– Воображение нередко правдивее фактов, – решительно заявила Гвендолин, хотя объяснить смысл красивой фразы вряд ли смогла бы. – Я буду рада узнать о Тассо буквально все, особенно о его безумии. Наверное, поэты всегда немного безумны.
– Совершенно верно. Как писал Кристофер Марло[6], «взгляд поэта неистово блуждает», а о нем самом кто-то сказал: «Владело им священное безумство, достойное великого поэта».
– Но ведь сумасшествие не всегда заметно? – невинно уточнила Гвендолин. – Скорее всего взгляды некоторых безумцев неистово блуждают только в одиночестве. Лишенные рассудка люди часто очень хитры.
По лицу миссис Эрроупойнт снова скользнула тень, однако появление в гостиной джентльменов предотвратило открытый конфликт с чересчур бойкой молодой леди, слишком далеко зашедшей в изображении наивности.
– Ах, а вот и сам герр Клезмер, – объявила хозяйка, представила музыканта гостье и удалилась.
Герр Клезмер наглядно воплощал счастливое сочетание германских, славянских и семитских черт: крупные благородные черты красивого лица, живописно растрепанные длинные каштановые волосы, живые карие глаза за стеклами золотых очков. По-английски он говорил почти без акцента, не хватало лишь свободы самовыражения, а острый, вселяющий тревогу ум в этот момент утратил опасность от глупого желания, которому подвержены даже гении, всеми силами угодить красавице.
Вскоре зазвучала музыка. Мисс Эрроупойнт и герр Клезмер исполнили на двух фортепиано пьесу, убедившую почтенную публику в чрезмерной ее продолжительности, а Гвендолин – в том, что тихая, сдержанная в общении мисс Эрроупойнт так великолепно владеет инструментом, что ее собственное музицирование кажется наивной детской забавой. Впрочем, даже сейчас Гвендолин не разочаровалась в достоинствах своей игры, часто заслуживающей похвалы. Затем все пожелали услышать пение Гвендолин; особенно настаивал мистер Эрроупойнт, что было вполне естественно для хозяина дома и истинного джентльмена, о котором все знали только то, что в свое время он удачно женился на богатой мисс Каттлер и получил возможность курить лучшие сигары. С естественной любезностью он подвел гостью к фортепиано. Герр Клезмер приветливо улыбнулся и, уступив ей место за инструментом, встал в нескольких футах, чтобы наблюдать за исполнением.
Гвендолин не нервничала: все, за что бралась, делала без дрожи, а пение всегда доставляло ей наслаждение. Она обладала довольно сильным сопрано и хорошим слухом, и ее пение неизменно нравилось неискушенным слушателям, так что мисс Харлет привыкла к аплодисментам. Во время пения она выглядела едва ли не лучше, чем обычно (редкое качество), а потому стоявший напротив герр Клезмер совершенно ее не смущал. Гвендолин исполнила заранее выбранное произведение – любимую арию Беллини, в которой чувствовала себя абсолютно свободно и уверенно.
– Очаровательно, – отозвался мистер Эрроупойнт, как только ария закончилась.
Похвала повторилась многократным эхом с той долей неискренности, которую можно встретить в светском обществе. И лишь герр Клезмер стоял неподвижно, словно статуя (если можно представить статую в очках) – во всяком случае, молчал, как статуя. Гвендолин попросили еще раз спеть, чтобы продлить всеобщее удовольствие, и отказываться она не стала, однако прежде приблизилась к герру Клезмеру и с виноватой улыбкой проговорила:
– Это будет слишком жестоко по отношению к великому музыканту. Жалкое любительское пение не может вам понравиться.
– Так и есть, но это ничего не меняет, – ответил герр Клезмер с внезапно проявившимися в словах, незаметными прежде типично немецкими резкими окончаниями. Очевидно, речь его зависела от перемены настроения – точно так же в минуту волнения или гнева ирландцы особенно явственно переходят на характерную провинциальную манеру речи. – Это ничего не меняет.Смотреть, как вы поете, всегда приятно.
Столь неожиданное проявление превосходства прозвучало грубо. Гвендолин густо покраснела, однако со свойственным ей самообладанием не выразила негодования. Мисс Эрроупойнт, стоявшая достаточно близко, чтобы услышать диалог (а также заметить, что герр Клезмер смотрит на мисс Харлет с более откровенным восхищением, чем допускает хороший вкус), тут же подошла и обратилась к Гвендолин с величайшим тактом и добротой:
– Только представьте, что мне приходится переносить от этого профессора! Он не терпит ничего, что мы, англичане, делаем в музыке. Остается одно: смириться с безжалостной критикой и жестокими суждениями. Подобное знание не доставляет радости, но унижение со стороны одного человека можно стерпеть, если все остальные восхищены.
– Буду чрезвычайно благодарна за возможность услышать худшее, – ответила Гвендолин, постепенно приходя в себя. – Осмелюсь признаться, что учили меня крайне плохо, да и таланта нет – одна лишь любовь к музыке.
Гвендолин сама удивилась последним своим словам, особенно если учесть, что такая мысль никогда прежде на ум ей не приходила.
– Да, правда: хорошего обучения незаметно, – спокойно подтвердил герр Клезмер. Женщин он любил, однако музыку любил больше. – Впрочем, нельзя утверждать, что дарование полностью отсутствует. Поете вы чисто и обладаете неплохими данными, вот только звуки извлекаете неправильно, да и музыка, которую исполняете, вас недостойна. Вокальная линия показывает низкую степень развития культуры – топчется на месте и выражает страсти и мысли людей с ограниченным кругозором. В каждой фразе такого пения слышна самодовольная глупость. Ни единого проблеска глубокого, таинственного чувства, ни единого конфликта, ни единого прорыва к высокому обобщению. Слушая подобную музыку, люди мельчают. Спойте что-нибудь более значительное. Тогда я пойму.
– О, только не сейчас. Когда-нибудь потом, – отказалась Гвендолин, чье сердце не выдержало широты горизонта, внезапно открывшегося перед ней.
Для молодой леди, стремившейся блистать повсюду и покорять всех, подобный опыт в самом начале карьеры мог оказаться катастрофическим. Однако Гвендолин не желала вести себя глупо, а мисс Эрроупойнт помогла выйти из затруднительного положения, уверенно подтвердив:
– Да, лучше когда-нибудь потом. После критики герра Клезмера требуется не меньше получаса, чтобы собраться с духом. Лучше попросим поиграть его самого: пусть покажет, что такое хорошая музыка.
В качестве достойного восхищения образца герр Клезмер исполнил собственное произведение под названием «Freudvoll, leidvoll, gedankenvoll»[7] – пространную фантазию, выражавшую не слишком очевидные музыкальные идеи. Исполнитель извлекал из фортепиано столько разнообразия и глубины страсти, сколько позволяет этот умеренно отзывчивый инструмент. Наделенные магической властью пальцы оживляли костяные клавиши и деревянные молоточки, заставляя струны отвечать то взволнованной и трепетной, то томительной речью. Несмотря на уязвленный эгоизм, Гвендолин почувствовала силу по-настоящему талантливой игры; скрытые от посторонних глаз слезы унижения постепенно сменились волнением, и на миг она сделалась отчаянно безразличной к собственной неудаче и была готова посмеяться над своим исполнением. Глаза заблестели, щеки слегка зарумянились, а с языка так и рвались саркастические замечания.
– Прошу вас снова спеть для нас, мисс Харлет, – обратился к Гвендолин молодой Клинток, сын архидиакона, которому выпала честь сопровождать ее к столу, едва герр Клезмер закончил выступление. – Подобная музыка словно создана специально для меня. Никогда ничего не понимал в этой безупречной игре. Похоже на банку с пиявками, где не видно ни начала, ни конца. А ваше пение готов слушать весь день.
– Да, мы будем рады услышать что-нибудь популярное. Еще одна песня в вашем исполнении позволит отдохнуть, – поддержала Клинтока миссис Эрроупойнт, с самыми любезными намерениями оказавшаяся рядом.
– А все потому, что вы стоите на низшей ступени культурного развития и обладаете ограниченным кругозором: мне только что об этом сказали, а также о том, насколько плох мой вкус, – и теперь я испытываю глубокие страдания. А страдания никогда не бывают приятными, – ответила Гвендолин, не обращая внимания на миссис Эрроупойнт и с сияющей улыбкой глядя на молодого Клинтока.
Любезную хозяйку задела проявленная грубость, однако она ограничилась простым замечанием:
– Что же, не будем настаивать на том, что неприятно.
Между тем гости разбились на мелкие группы и вели непринужденные беседы, и миссис Эрроупойнт, увидев, что ее внимание никому не требуется, с облегчением села в кресло.
– Рад, что вам понравилось наше общество, – заметил молодой Клинток, довольный возможностью побеседовать с Гвендолин.
– Чрезвычайно понравилось. Кажется, здесь всего понемногу и ничего в изобилии.
– Довольно двусмысленная похвала.
– Только не для меня. Люблю, когда всего в меру: например, немного абсурда – это очень забавно. Приятно видеть нескольких странных людей, а вот когда их много, становится скучно.
(Слушая этот диалог, миссис Эрроупойнт уловила в речи Гвендолин совершенно новую интонацию и вновь ощутила сомнение в ее интересе к безумию Тассо.)
– Считаю, что прежде всего здесь недостает крокета, – признался молодой Клинток. – Я редко приезжаю, но если бы проводил в доме отца больше времени, то обязательно вступил бы в крокетный клуб. Слышал, что вы уже присоединились к сообществу стрелков из лука. Поверьте, однако, что крокет – игра будущего. Жаль только, что она еще недостаточно воспета. Один из наших лучших студентов сочинил о крокете поэму в четырех песнях – такую же прекрасную, как произведения Поупа[8]. Я уговариваю его опубликовать шедевр. Поверьте, вам еще не доводилось читать ничего лучше.
– Завтра же начну учиться играть в крокет. Займусь им вместо пения.
– Нет-нет, ни в коем случае! Но крокетом все-таки займитесь. Если хотите, я пришлю поэму Дженнингса. У меня есть рукописная копия.
– Он ваш близкий друг?
– Достаточно близкий.
– Ну, если всего лишь «достаточно», то, пожалуй, не надо. А если все-таки пришлете, то обещайте не допрашивать и не требовать ответа, какая из частей понравилась мне больше остальных, потому что нелегко понять поэму, не прочитав, так же как понять проповедь, не услышав.
«Несомненно, эта девушка непроста и настроена саркастически, – подумала миссис Эрроупойнт. – Разговаривать с ней надо осторожно».
Тем не менее Гвендолин продолжала получать приглашения на обеды и ужины, во многом благодаря Кэтрин. Досадный инцидент у фортепиано пробудил сожаление в нежной душе мисс Эрроупойнт, которая, ввиду занятости матушки, ведала всеми приемами и визитами.
Глава VI
Надменная критика обрекла Гвендолин на новые страдания. Она никогда не призналась бы, что болезненно переживает очевидное музыкальное превосходство мисс Эрроупойнт, а потому не имеет возможности оспорить мнение герра Клезмера. И еще меньше она была готова признаться даже самой себе, что при каждой встрече с мисс Эрроупойнт в душе рождалось непривычное чувство зависти. Гвендолин завидовала вовсе не богатству, а тому обидному обстоятельству, что девушка, чью внешность вы не смогли бы описать иначе, как заурядная – средний рост, мелкие черты, невыразительные глаза и землистый цвет лица, – тем не менее обладала несомненным умственным превосходством и утонченным музыкальным вкусом. Эти качества не позволяли навязать ей чужое мнение и вызывали благоговейный трепет как перед недостижимым уровнем исполнения, так и перед независимостью суждений. Эта невзрачная с виду молодая леди двадцати четырех лет от роду, на которую вряд ли бы кто обратил внимание, не зовись она «мисс Эрроупойнт», по всей видимости, была убеждена, что умения мисс Харлет не превышают среднего уровня. И убеждение это оставалось скрытым от посторонних глаз, поскольку неизменно пряталось за безупречной любезностью манер.
Однако Гвендолин не любила задумываться о фактах, выставлявших ее в неблагоприятном свете. В отсутствие герра Клезмера (а он часто ездил в Лондон), вдохновленная нескрываемым восторгом, с которым ее пение было встречено в Брэкеншо-Касле, «Пихтах» и других домах округи, Гвендолин быстро восстановила пошатнувшееся было самообладание, ибо считала одобрение более заслуживающим доверия, чем порицание, и не страдала изнуряющим стремлением достичь не востребованного соседями, абстрактного совершенства. Возможно, было бы опрометчиво утверждать, что мисс Харлет обладала чем-то необыкновенным; необыкновенными были лишь грациозные движения и определенная дерзость, придававшая пикантность обыкновенному эгоистичному честолюбию, незаметному при нескладной внешности. Полагаю, что сами по себе эти качества не определяют внутреннего стремления к превосходству, а лишь влияют на способ, которым оно достигается, особенно если стремлением к превосходству обладает девушка, чье рвение к исключительности сопровождается безупречной родословной и унизительной нехваткой денег. В душе Гвендолин активно противилась ограничениям, обусловленным финансовым положением семьи, и с готовностью смотрела сквозь собственные обязательства, словно руководствовалась самыми смелыми теориями. Однако в действительности она вовсе не предавалась подобным размышлениям и при случае открестилась бы от любой преданной идее или практической реформе, безжалостно ее высмеивая. Ей доставляло удовольствие чувствовать себя особенной, однако кругозор ее соответствовал кругозору элегантных романов, героиня которых изливает в дневнике полную неясной силы, оригинальности и противоречий душу, в то время как жизнь ее спокойно течет в принятом светским обществом русле. А если вдруг случайно она забредает в болото, то вся драма заключается в том, что на ногах оказались атласные туфельки. Таковы строгие ограничения, наложенные природой и обществом на поиски ярких приключений ради того, чтобы душа, сгорающая от несовершенства мироздания и готовая бросить в костер саму жизнь, все-таки оставалась пленницей в сетях светских правил и не совершала исключительных поступков.
С опасностью столь банального исхода Гвендолин столкнулась уже в первую зиму жизни в Оффендине; не спасла даже новизна обстоятельств. Она ясно сознавала, что не желает вести такую же пресную жизнь, какую вели обычные молодые леди, однако не представляла, каким образом наладить иное существование и что предпринять ради достижения свободы. Оффендин оставался бы хорошим фоном, если бы вокруг что-нибудь происходило, однако соседи не соответствовали данному условию.
Помимо осознания силы собственной красоты визиты к соседям не доставляли радости, и, возвращаясь домой, Гвендолин заполняла пустые дни обычными, немудреными девичьими делами и затеями. Самым открытым утверждением собственной исключительности стал отказ от занятий с Эллис (на том основании, что невежество для девочки более естественно). Вместо уроков Гвендолин привлекла сестру, а также мисс Мерри и призванную прислуживать всем дамам горничную, к созданию различных театральных костюмов. Хотелось заранее подготовиться к возможным в неопределенном будущем шарадам и пьесам, которые она собиралась организовать силой собственной воли и изобретательности. Сама Гвендолин никогда не выступала на сцене, лишь в школе участвовала в живых картинах, однако не сомневалась, что способна играть хорошо. Побывав раз-другой в «Театр Франсэ» и услышав, как мама говорит о Рашель[9], Гвендолин, размышляя о своей будущей судьбе, порою задавалась вопросом: а не стать ли актрисой подобно Рашель, тем более что красотой она, безусловно, затмевала худую иудейку? Тем временем дождливые предрождественские дни прошли в приятных хлопотах. В греческих, восточных и других костюмах мисс Харлет позировала и произносила монологи перед домашней публикой. Для более громких аплодисментов позвали даже экономку, однако та повела себя недостойно, заметив, что молодая госпожа больше похожа на королеву в собственном платье, а не в этой мешковатой тряпке и с голыми руками. Второй раз ее не пригласили.