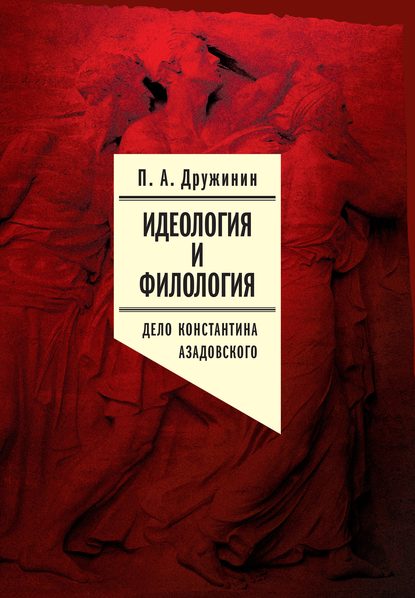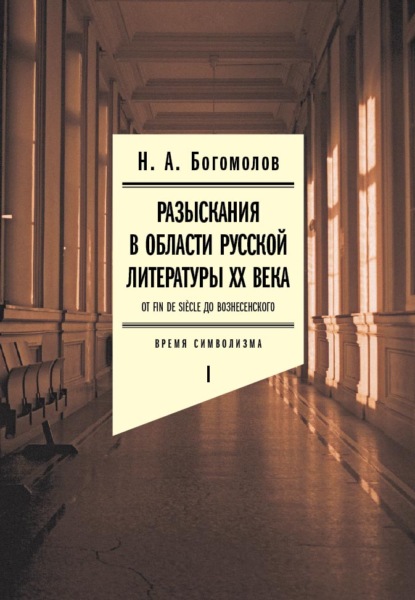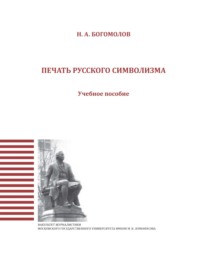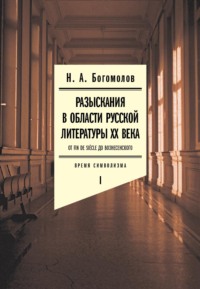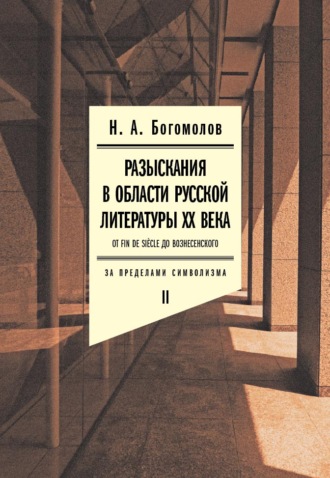
Полная версия
Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма
Понятно, что для внимательного читателя журнала, следившего за внутренней полемикой, становилось очевидно, что и стихи Мандельштама следует понимать не столько как осмысление извечных проблем, волновавших еще Чаадаева188, сколько как реплику в остром споре весны 1915 года. И этот контекст осмысления стихов должен быть ясен также и современным читателям.
Вероятно, такое «инструментальное» использование стихов Мандельштама и побудило их автора в дальнейшем отказаться от представления всех или, по крайней мере, большей части «римских» стихов в виде единого цикла. Помещенная в раскрываемый нами контекст публикация выглядела слишком сиюминутной, слишком привязанной к обстоятельствам дня, а потому оказалась скомпрометированной, и в дальнейшем Мандельштам, оставляя стихи в итоговых собраниях, подавал их разрозненно.
П е ч а т а е т с я п о: Русская публицистика и периодика эпохи первой мировой войны: Политика и поэтика: Исследования и материалы. М., 2013. С. 243–254. Первоначальный краткий вариант статьи был опубликован: Созидающая верность: К 90-летию А.А. Тахо-Годи / Спецвыпуск «Библиотеки А.Ф. Лосева». Вып. 16. М., 2012. С. 297–304. В итоге текст был увеличен примерно в два раза.
А. КРУЧЕНЫХ. «СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ»: ПОИСКИ КОНТЕКСТА
Самый первый сборник стихов Алексея Крученых «Старинная любовь» выдержал три издания. Первое, литографированное, появилось в августе 1912 г. и содержало только 8 стихотворений, причем три из них были опубликованы в первоначальных редакциях, значительно меньшего объема, чем окончательные189. Второе, также литографированное, составило вторую часть коллективного сборника Крученых и В. Хлебникова «Бух лесинный»190. В этом варианте пропало стихотворение «Он и старый и усталый…», но появились новые: «Никто не хочет бить собак…», «Раскричались девушки в пшеницу…», еще одно среди «Из писем Наташи к Герцену» – «Ни смерть ни небо не разлучит…» (оно стало вторым, отодвинув «Гремит музыка… зной веселый…» на третье место). Тексты стихотворений почти полностью совпадали с окончательными их редакциями. Наконец, последний вариант также появился в совместной с Хлебниковым книжке, на этот раз изданной типографским способом191. В этой книге открывавшее прежний сборник хлебниковское стихотворение стало завершающим, а начинали его три других, так что цикл Крученых оказался окольцован стихами Хлебникова. В нем самом вернулось стихотворение «Он и старый и усталый…» (только оно стало не вторым, а третьим по порядку, пропустив вперед «Всего милей ты в шляпке старой…»), тексты были слегка отредактированы и снабжены некоторым количеством явных опечаток. Не вторгаясь в давнюю полемику о смысле опечаток и описок в поэзии футуристов, заметим, что если в литографированной (то есть первоначально написанной от руки) книге читаем: «Ни смерть ни небо не разлучит» (рифма «замутит»), то вряд ли стоит повторять явную опечатку: «Ни смерть не небо не разлучат», или сохранять разрушающую стих форму: «На нем тяжело пальто», когда в литографированном тексте читаем очевидное: «На нем тяжелое пальто».
Как правило, стихи, вошедшие в этот цикл, вызывали скептические оценки писавших о Крученых. Так, В. Марков в предисловии к «Избранному» Крученых говорил: «…не-заумная поэзия Крученых должна быть исследована и, вместе с заумной, описана, распределена по периодам и с осторожностью классифицирована. С осторожностью, потому что даже в ранней так называемой пародийной поэзии Крученых (”Из писем Наташи к Герцену”) принципы кажутся столь же ускользающими, сколь они должны были бы быть у поэта, сознательно пишущего “плохие” стихи…»192 В основополагающей статье Н.И. Харджиева читаем: «…Крученых издал свой полупародийный лирический цикл “Старинная любовь”. Контраст противоположных стилевых планов ощущается в этом цикле настолько слабо, что позволяет воспринимать его и как традиционный жанр любовной лирики, и в аспекте авторской иронии. Сам автор в письме к Елене Гуро охарактеризовал “Старинную любовь” как книгу ”воздушной грусти”»193. С.Р. Красицкий нашел, что «воздействие именно Сологуба (интонации, мотивы, язык – столь характерное косноязычие) ощутимо в стихотворениях Крученых, вошедших в книги ”Старинная любовь” (М., [1912]) и “Бух лесиный” (СПб., [1913])»194.
Подробнее других точку зрения Харджиева развивала самарская исследовательница Т.В. Казарина: «…первый сборник его стихов, “Старинная любовь” (1912–1913), составлен из произведений, которые выглядят откровенными пародиями <…>195. Эти стихи “слишком плохи, чтобы быть плохими”, – их примитивизм нарочит, что обычно свидетельствует о пародийной установке автора (сам Крученых позже называл эту книжку ”измывательской” <…>196). Но предмет пародирования в данном случае неочевиден. Вряд ли это может быть какой-то конкретный автор: ни тема (характерная для всей поэзии Нового времени), ни нравоучительная интонация (она тоже была присуща слишком многим произведениям), ни погрешности против логики, здравого смысла, элементарных стилистических требований, благозвучия или правил правописания не указывают на определенного поэта, поэтическую школу или направление. <…> Поскольку претензии “пародиста” не конкретизированы, образ ”обвиняемого” предельно расплывается, превращаясь то ли в ”любовную лирику вообще”, то ли в ”поэзию как таковую”»197.
Однако Крученых в связи с книгой говорил о другом. В тех самых письмах к Елене Гуро, на которые ссылался Харджиев, он писал: «Возвращаясь к своей “Старинной любви” (в смысле давнишняя любовь, ”это моя старая любовь”) я нахожу, что рисунки к ней тоже должны быть сделаны с любовью (к миру). Не техника важна, не искусственность, а жизнь. И если рисунки соответствуют нежной музыке любви к жизни, то они прекрасны, нет – нет! У Вас в рисунках столько природной нежности, что грех, убийство не украсить ими книги о любви…»198
Отметим также точку зрения С.М. Сухопарова, попытавшегося найти промежуточный вариант истолкования цикла: «Старинная любовь» «продолжила примитивистскую традицию в его творчестве, обращение к которой, по всей видимости, не было случайным, а восходило к его ранней живописи, а точнее, – к шаржу с его установкой на остранение образа и иронию. Несомненно, что цикл “Старинная любовь” был данью и давнему пристальному интересу Крученых к теме любви, едва ли не основной в его дофутуристическом творчестве. Все же, ему не удалось удержаться в рамках задуманного, и ”Старинная любовь” больше воспринимается не в плане иронии, а, по замечанию самого автора, как книга ”воздушной грусти”»199.
Кажется, после такого обзора стоит прислушаться к мнению известного специалиста по истории русского футуризма С. Сигея: «Ни одно из этих <помимо “Старинной любви”, еще и “Пустынники”> произведений Крученых до сих пор “не прочитано”, вероятно, потому, что все еще считается “неприличным” применительно к произведениям футуристов задавать простые вопросы ”о чем?” и ”почему?”»200.
Как нам представляется, существует ряд возможностей трактовки данного цикла на фоне русской литературы, причем не только современной. На это указывает сам автор, включая в цикл «подцикл» из трех стихотворений под названием «Из писем Наташи к Герцену». Комментатор пишет по этому поводу: «…по-видимому, имеется в виду Наталья Александровна Герцен (Захарьина) (1817–1852), жена и двоюродная сестра А.И. Герцена»201. Не очень понятно здесь осторожное «по-видимому»: речь несомненно идет о письмах Н.А. Захарьиной к Герцену, написанных во время их разлуки еще до брака. Уже упоминания «твоих» зонтика и стакана довольно, чтобы установить это доподлинно. Можно даже вполне уверенно назвать издание, которым пользовался Крученых: Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной в семи томах. СПб., 1905. Т. VII, – туда вошли не только письма Герцена, но и письма его невесты.
Четвертое стихотворение цикла («Раскричались девушки в пшеницу…») ориентировано на поэтику народной лирической песни с явными историческими реалиями («Песью голову с метлой / волочит лихая рать»), второе («Он и старый и усталый…») построено по модели фетовского «У камина». Вероятно, можно отыскать параллели такого рода и к другим стихотворениям цикла, но для нас в данном случае это не принципиально. Более существенным представляется другое.
«Подцикл», о котором мы говорили, завершается четверостишием:
А я давно в кругу березСижу одна… овец стадаИ роем кротких снов и слезПоет свирель… поет звезда…Кажется, подтекст тут чрезвычайно ясен: это знаменитое блоковское стихотворение «Свирель запела на мосту…»:
Свирель поет: взошла звезда, Пастух, гони стада… –а «снами» Блок заканчивает свои стихи.
Процитируем несколько строф (начиная с первой) не озаглавленного стихотворения Крученых:
Я в небо мрачное гляжу,Зарница вспыхнет там порою,Иль капля брызнет на межу,Все облегает темнотою.Копья кусок торчит из пыли,Из крови липкие узоры,Похоронить нас позабыли –Пусть смерть пополнится позором…Из воли надежды столицыКурганы открытых костей,Уселися сонные птицы –Глаза опьяневших людей…………………………………..Зашелестело покрывалоИ сучьев сломанных кораВсе все ты зналаБыстра невидима стрелаКажется, тут несомненны перепевы блоковского «На поле Куликовом»: «Взошла и расточилась мгла», «…в полночь стали», «В темном поле были мы с Тобою», «Перед Доном темным и зловещим», «Сквозь кровь и пыль», «А над Русью тихие зарницы», «И, чертя круги, ночные птицы / Реяли вдали», «Наш путь – стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь». Но помимо этого – еще и значительно менее известное «вагнерианское» стихотворение «За холмом отзвенели упругие латы…», где появляются и смотрящий в ночное небо человек, и копье (неоднократно), и стрелы, и покрывало. «Межа» – одно из достаточно частых в ранней лирике Блока слов. Эта теснота блоковской лексики заставляет нас с особым вниманием прочитать четвертую строфу Крученых:
Кругом так сухо, лишь ОнаПокрыта щедрою росою, –Как и в былые временаНебес отмечена рукою!Кажется, что тут прописная буква в слове «Она» отчетливо свидетельствует о том, что перед нами, как и у Блока – Русь. И «щедрая роса», скорее всего, тоже из Блока: «Но достойней за тяжелым плугом / В свежих росах пóутру идти!» («Май жестокий с белыми ночами…»). Но только Крученых переводит дальнейшее развитие темы в откровенную пародию. Раз, по Блоку, Русь – «жена моя», то при внимательном отношении у нее можно отыскать и худую ногу, и нежную пятку («пяту»), и острое колено, – что происходит в пятой-седьмой строфах стихотворения Крученых; излюбленная символистской и околосимволистской мыслью платоновская пещера становится местом, где «взоры солнц… склонялися в навоз». А строчки: «И перья сломанного опахала / рабыни гордыя твои», скорее всего, развенчивают экзотику эротических баллад Брюсова, о которых, напомним, В.М. Жирмунский писал: «Еще более внешний эмблематический характер имеют такие предметы экзотической обстановки, как “лампады”, “опахала” и т.д.: “Лампад светильни прошипели…” (Р); “О, скорей гасите свечи!” (П); “Мы веер двигали павлиний…”, “Опять качали опахало…” (Ри)»202.
Все это пародийное снижение завершается строкой «Мне прошлых дней не возвратить», погружающей нас в мир эпигонского стихотворчества, где явно слышны Булахов (известный романс «Не пробуждай воспоминаний…»), Тургенев и К.Р., но в подтексте и масса других, скорее всего, автоматически самовоспроизводимых стихов такого типа, вплоть до современных, во вполне достаточном количестве имеющихся в русском интернете.
Казалось бы, это не удивительно, поскольку блоковские цитаты исследователи уже фиксировали в стихах Крученых. Так, интертекстуальную отсылку к поэзии Блока («Соловьиный сад») видят исследователи в его стихотворении «Германия во прахе», вошедшем во «Вселенскую войну»203, блоковское «Весны не будет и не надо» в слегка трансформированном виде попало в «Весну металлическую» Крученых204, и, вероятно, такой список можно продолжить. Однако нам представляется, что из русских символистов не только Блок становится объектом всесторонней игры Крученых.
Обратимся к первым двух стихотворениям книги. Вот то из них, которое, собственно, впервые представляло читателям нового поэта:205
Если хочешь быть несчаснымТы смотри во след прекрасным И фигуры замечай!Глаз не смей же добиватьсяИскры молньи там таятся Вспыхнешь поминай!За глаза красотки девыЖизнью жертвует всяк смело Как за райЕсли ж трусость есть влачитьсяЖалким жребием томиться Выбирай!Как трусишка, раб, колодник,Ей будь преданнейший сводник – И не лай!Схорони надежды рано,Чтоб забыла сердца раны – Помогай!Позволяй ей издеватьсяВидом гада забавляться – Не пугай!И тогда в года отрадыЖди от ней лакей награды – Выжидай!Поцелуй поймаешь жаркий,Поцелуй единый, жалкий – И рыдай!И Ее тогда, несчастный,Ты не смей уж звать прекрасной Не терзай!…Так стихотворение выглядело в самом первом издании книги (СЛ). Значительно изменный вариант текста находим в литографированной книге Крученых и Хлебникова 1913 года (БЛ-1). Прежде всего, в первом стихе в слове «хочеш» был восстановлен положенный мягкий знак (но слово «несчасным» так осталось в ненормативном написании206). Во-вторых, после ст. 21 читаем:
Не кусай до крови пальцыТвои когти пригодятся – Худший крайИли знаешь иной путьИль глаза твои не муть Голова сарай?Дверь открыта и просторнаТы сиди как сторож черный ВыглядайПосле ст. 27 шло трехстишие:
Ты от большего сгоришьПусть же будут вздох и тишь Не мешай.Отметим также, что слово «единый» в ст. 26 было подчеркнуто и изменены некоторые знаки препинания (появилось тире между «вспыхнешь» и «поминай» в ст. 6, убраны запятая в конце ст. 13, тире в конце ст. 14, 23 и 26, перестало выделяться запятыми слово «несчастный» в ст. 28 и, наконец, завершающий восклицательный знак с отточием стал нормативным – две точки, а не три).
Во втором издании той же книги (БЛ-2) стихотворение было набрано уже типографским шрифтом и несколько уменьшилось в размерах. После стиха 21 осталось только первое трехстишие. Помимо этого курсивом были набраны некоторые буквы («быть» в ст. 1, «фигуры» в ст. 3, «Глаз» в ст. 4, «там» в ст. 5, «рай» в ст. 9, «жребием» в ст. 11, «Выбирай» в ст. 12, «уж» в предпоследнем и «терзай» в последнем стихе, а также «Пусть» в добавленном трехстишии207. Существенно, что в третьем с конца стихе местоимение «ее» набрано со строчной буквы, а не с прописной, как в двух первых изданиях.
Почему именно это стихотворение представилось нам особенно примечательным? Прежде всего потому, что в русской поэзии существует по крайней мере одно, чрезвычайно напоминающее цитированное нами крученыховское. Вот оно:
ПРЯМО В РАЙЕсли хочешь жизни вечной,Неизменно-бесконечной –Жизни здешней, быстротечной Не желай.От нее не жди ответа,И от солнечного света,Человечьего привета – Убегай.И во имя благодатиНе жалей о сонном брате,Не жалей ему проклятий, Осуждай.Все закаты, все восходы,Все мгновения и годы,Всё – от рабства до свободы – Проклинай.Опусти смиренно вежды,Разорви свои одежды,Изгони свои надежды, Верь и знай –Плоть твоя – не Божье дело,На борьбу иди с ней смело,И неистовое тело Умерщвляй.Помни силу отреченья!Стой пред Богом без движенья,И в стояньи откровенья Ожидай.Мир земной – змеи опасней,Люди – дьяволов ужасней;Будь мертвее, будь безгласней И дерзай:Светлый полк небесной силы,Вестник смерти легкокрылыйУнесет твой дух унылый – Прямо в рай! 1901 208Да, конечно, полного подобия в двух стихотворениях нет. Если Гиппиус пользуется тройной женской рифмой, то Крученых ограничивается двойной, да к тому же в появившихся позднее строфах использует рифму мужскую. То ли по замыслу, то ли по недостаточному еще умению он сбивается в метре: вместо регулярного двухстопного хорея в укороченных строках он использует четырехстопный (ст. 3) и трехстопный (ст. 6 и в одной из вставок второй редакции). Но все-таки восемь трехстиший из десяти первой редакции ритмически аналогичны гиппиусовским четверостишиям, а из четырех добавленных – два являются точно такими же. Ну и, конечно, сквозная рифма на –ай (у Гиппиус она повторена 9 раз, у Крученых – 10, а во второй редакции и еще 4) и первые слова («Если хочешь…») делают сходство разительным.
В какой-то степени перекликаются и темы стихотворения, особенно если учесть, что Гиппиус относила свое к категории «иронических»209, а у Крученых исследователи почти единодушно чувствуют оттенок пародийности210. И в том, и в другом случае это развернутое рассуждение о должном поведении человека в экзистенциальной ситуации, только у Гиппиус это путь в вечную жизнь, а у Крученых – любовь к женщине. Но и в том и в другом случае риторическое построение организовано по принципу «от противного»: и обретение райской благодати, и подчинение женской красоте ведет не к блаженству, а к унылости211 или унижению.
Все было бы замечательно, и мы должны были бы говорить о том, что Крученых ставит свое стихотворение в некоторые отношения со стихотворением Гиппиус, если бы не одно обстоятельство: стихи Гиппиус были впервые опубликованы лишь в 1990 году212. Составляя для «Скорпиона» свое первое «Собрание стихов», поэтесса присылала В.Я. Брюсову разнообразные дополнения, и текст «Прямо в рай» сохранился среди его бумаг213. Именно это обстоятельство может быть объяснением загадки: известно, что Брюсов в различных собраниях читал как свои, так и чужие стихи, еще не бывавшие в печати214.
Следует отметить и еще одно обстоятельство: последнее трехстишие, особенно в первом его варианте, как кажется, отсылает нас к знаменитой книге символистских стихов: «Ее» с прописной буквы и «прекрасная» вызывают в памяти «Стихи о Прекрасной Даме» Блока215. Но даже и с этим уточнением само по себе одно это стихотворение вряд ли может полностью обрисовать замысел поэта, поскольку образует своего рода диптих со вторым (в первой редакции книги – третьим) стихотворением «Всего милей ты в шляпке старой…», которое мы полностью цитировать не будем, но прочертим логику его композиции.
Героиня стихотворения предстает «не модной картинкой и не богиней», а «просто славной Зинкой», про которую легко можно сказать: «Была давно моя». Она не тиранит взглядом (ср. второе трехстишие «Если хочешь быть несчасным…»), не оскорбляет, не требует, чтобы близость была заслужена позором мужчины (ср.: «трусишка, раб216, колодник», «лакей» в первом стихотворении). И эта простота оказывается куда более значимой в судьбе, чем надрыв и унижения. Знаменитая блоковская рифма «кольцо – лицо» из «О доблестях, о подвигах, о славе…» вряд ли случайно повторена в последней строфе у Крученых – формальное тождество оказывается сопряжено с полной переменой ситуации. Место мучительной страсти, преклонения, загадочности теперь занимают забота, дружество, откровенность. И этот момент отразится в предпоследней строфе уже разбиравшегося нами стихотворения «Я в небо мрачное гляжу…»:
ведь был же миг и вместеблуждали у рекиТы назвалась невестойкольцо дала с руки!Ср. во «Всего милей ты в шляпке старой…»: «на берегу вдвоем», «и вот – дала кольцо». После долгих по масштабу стихотворения издевательств над «блоковскими» мотивами, превращенными в эпигонское стихотворчество, возвращается собственный крученыховский идеал, противопоставляемый «вечной женственности», однако и он не спасает. Последние две строки стихотворения могут пониматься различно, но все же в них слышится явная трагедия: «Тебя презрев и все ж ревнуя / Я путь избрал чертей!»217.
И после этого, в следующем стихотворении разыгрывается мистериальное поклонение погибшей в битве (видимо, метафорической, но сама смерть явно не метафорическая), завершающееся опять трагическим поворотом:
Дать поцелуй последнийКоварством преданной моимИ унестись в надзвездьеСмердящим и нагим.Но последнее стихотворение всего цикла опять возвращает нас к блоковским темам, лексике и отчасти даже к интонациям. В нем герой – прокаженный, лежащий на одре в «берлоге» среди гноя и рвоты (то есть в известном смысле «смердящий и нагой»), к которому сходит дева в царственной одежде. Нам кажется очень показательным, что она приносит совершенно неуместный в такой ситуации ковыль. Кажется, единственная функция этого слова, зарифмованного с «пыль», – в том, чтобы явственно напомнить первое стихотворение из цикла Блока «На поле Куликовом». Вся же ситуация очень напоминает блоковское «В ночь, когда Мамай залег с ордою…»
Вместе с тем героиня – та же «простая Зинка» (только имя не названо), невеста в самом обычном смысле слова. Это отчетливо видно в ее обращении к герою, где опорные слова – повторение из «Я в небо мрачное гляжу…», только там они принадлежат герою, а не ей.
А последняя строфа «Оставив царские заботы…» (и тем самым всего цикла) чрезвычайно напоминает многое у Блока, в частности – знаменитое «Покраснели и гаснут ступени…».
Таким образом, цикл А. Крученых «Старинная любовь» оказывается устроенным нисколько не менее сложно, чем его «заумные» стихотворения». Это – помимо отсылок к действительно «старинным» текстам – постоянная полемика с русским символизмом, прежде всего с Блоком, полемика, в которой Крученых то соглашается с предшественниками, то решительно отвергает их мировоззрение. И вряд ли случайно последняя строфа этого цикла впоследствии откликнется в прославленном финале «Человека» Маяковского.
В п е р в ы е: From Medieval Russian Culture to Modernism: Studies in Honor of Ronald Vroon / Ed. By Lazar Fleishman, Aleksander Ospovat and Fedor Poljakov. Wien e.a., 2012. С. 249–264 / Русская культура в Европе. 8.
РАННИЕ СТИХИ ИГОРЯ ТЕРЕНТЬЕВА
Поэтическое наследие Игоря Терентьева невелико и по большей части хорошо известно. Основным собранием является издание 1988 года, впоследствии появилось несколько дополнений218. Публикуемые 8 ранних стихотворений до некоторой степени раскрывают перед нами генезис футуристической поэтики Терентьева, впервые проявившейся в рукописной книжке, использованной С.В. Кудрявцевым.
Печатаемые ниже стихи восходят ко временам общения Терентьева с решительным противником футуризма в его крайних проявлениях – В.Ф. Ходасевичем, а особенно – с его женой Анной Ивановной (1887–1964). Об их отношениях известно немногое. По мнению И.П. Андреевой, они познакомились в конце 1913 или начале 1914 г., когда Терентьев перевелся из Харьковского университета в Московский. Насчет 1913 данных у нас нет, но в начале 1914 года знакомство и общение фиксируют, с одной стороны, Ходасевич, с другой – Б. Садовской. 23 марта 1914 последний писал А.И. Ходасевич: «Вы знаете, что желание Ваше для меня закон, а потому стихи Т-ва я завтра же доставлю Измайлову с просьбой поместить в «Огоньке». Больше некуда»219. В «Огоньке» его стихи не появились, так же, как и в других предреволюционных изданиях. Но встречи продолжались. Ретроспективно комментируя стихотворение «В Петровском парке», Ходасевич писал: «Видел это весной 1914 г., на рассвете, возвращаясь с А<нной> И<вановной> и Игорем Терентьевым из ночного ресторана в Петр<овском> Парке»220. В ноябре 1915 года И.Н. Розанов записывает в дневнике о посещении Ходасевича, где выплывает имя Терентьева: «Влад<имир> Герасим<ович> Терентьев об автографах. Его брат Игорь – поэт. Пишет поэму. Прислал письмо с Кавказа»221.
Еще два упоминания находим в письмах Ходасевича уже пореволюционного времени. 1 января 1923 г. он пишет М.М. Карповичу, шурину поэта (он присутствовал и во время визита Розанова к Ходасевичу, о котором мы говорили выше): «Об Игоре слышал только то же, что и Вы написали мне. Жаль, у него есть дарование, а уж из “заумности” он вряд ли опять выкарабкается. Что это с ним случилось? Как легко стали вывихиваться души у нынешних людей!»222 Комментируя это письмо, И.П. Андреева приводит фрагмент его письма к А.И. Ходасевич от 10 июля 1924 года: «…поклонись Игорю, участие которого в Лефе мне огорчительно (не футуризм его)»223.
Обладая столь малым количеством материала, трудно строить гипотезы, однако все же позволим себе предположить, что общение с Терентьевым (еще далеко не «заумником») исходило из тех же предпосылок, что и отношения Анны Ивановны с Константином Большаковым. Ее личность представляется вполне загадочной. С одной стороны, традиционна ее репутация неглубокой, легко позволяющей себя любить, нежной и заботливой женщины, сменившей в жизни Ходасевича «царевну», в облике которой легко заметить если не совсем трагические, то во всяком случае тревожные оттенки224. Даже сам Ходасевич всячески стремился такой ее облик представить друзьям и знакомым225. Однако, как показывают недавно опубликованные документы, дело обстояло совсем не так однозначно. Тот же И.Н. Розанов, который общался с Анной Ивановной на протяжении долгого времени, еще при самом начале знакомства записывал разговор с нею: «Ел. Бекетова, т.е. А.И. Ходасевич. С ней я в конце вечера разговаривал. Она рассказывала о попытке самоубийства хозяина по эпикур<ейскому> способу (в ванне), затем о ряде попыток самоубийства ее самой. Первый раз 13 лет, когда узнала, в чем заключается брак, затем о своих истериках, о том, что предпочла бы умереть и сейчас, если бы не сын, Гаррик, о том, что Владя дал спокойствие ее тревожно мятущейся душе, но последние дни опять со дна души встает то тяжелое, неудовлетворенное… Вы бы меня поняли, если бы знали лучше мою жизнь»226.