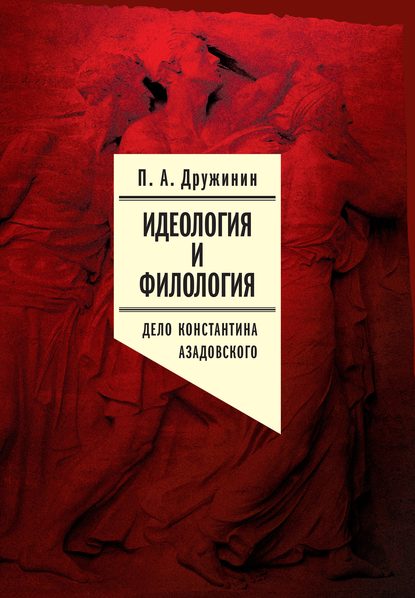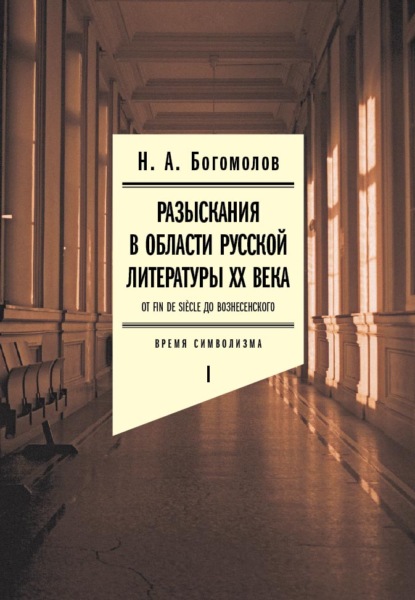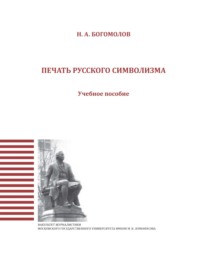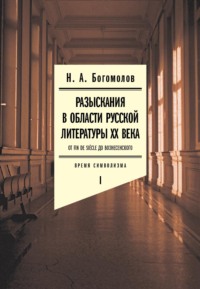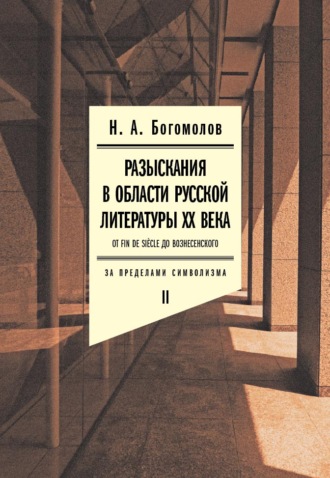
Полная версия
Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма
Мы будем стремиться обрисовать тот облик автора, который рисуется в его стихах и прозе, в связи с военными событиями, прошедшими через биографию. При этом мы будем обращаться не только к самому известному его произведению, связанному с этими событиями, – вышедшей отдельным изданием «Поэме событий», не только к стихам военного времени, собранным в книге «Солнце на излете», но и к прозе 1920–1930-х, о которой справедливо писала Т.Л. Никольская: «Стилистика <…> Большакова характерна для авангардистской прозы двадцатых годов»256.
Рассказ о воинской службе Большакова заставляет нас осознать то, что «Поэма событий», датированная ноябрем 1914 – январем 1915 года, также не имеет прямого отношения к переживаниям автора, связанным с собственным опытом, а лишь опосредованно отражает их. Тем самым поэзия выводится из актуального хронологического контекста, возвращаясь к исконной собственной задаче – преображению низкой действительности во всечеловеческие переживания. И формы этого преображения, как нам представляется, для Большакова были многообразны.
Прежде и очевиднее всего – это стремление создать поэтику, которая была бы объединяющей для самых разных изводов авангардного искусства. В романе «Маршал сто пятого дня» это, как кажется, представлено в столкновении двух его стихий – Северянина и Маяковского: «Духовная жизнь был сосредоточена – так казалось в те годы – в большой аудитории Политехнического музея. <…> Рослый мужчина с нечистой лошадиной физиономией старается поэффектнее голосом передернуть бедную мелодию строчки. <…> Это и есть “я – гений, Игорь Северянин”. <…> Высокий, с квадратными плечами, парень в желтой кофте непринужденно, как в кресле, развалился на стуле в лекторской, смотрит на Северянина. В глазах – спокойная ирония»257. Вроде бы отдаваемое Маяковскому преимущество отнюдь не лишает Северянина права первенства и обаятельности. Если прибавить к этому существенных не для героя романа, а для самого Большакова Пастернака и других центрифугистов, картина получится достаточно выразительная.
И дело здесь не только в сопряжении своего (или своего alter ego в данном отношении) творчества с личностями тех или иных представителей авангардного движения, но и в самой поэтике. Не нужно особенной проницательности, чтобы заметить параллели между наполеоновской темой Большакова и «Я и Наполеон» Маяковского, между его стихотворением «Сегодняшнее» с посвящением «Маме» и «Мама и убитый немцами вечер». Столь же очевидны сходства между стихом Маяковского и стихом Большакова, в свое время отмеченные не только субъективно воспринимавшим его Б. Пастернаком258, но и вполне объективировавшим свои суждения М.Л. Гаспаровым259. В то же время ориентация на поэтику Северянина постепенно отходит в прошлое – не исключено, что из-за той позиции, которую более прославленный поэт занял в начале войны. Характерно, что и «Солнце на излете» и «Поэму событий» вполне дружелюбно встречают и Пастернак, и Шершеневич260.
Но не только футуристическая ориентация имеется в виду стихами Большакова этого времени. И если посвящение октябрьского 1915 года стихотворения «Бельгии» В.Ф. Ходасевичу объясняется скорее всего дружескими отношениями, памятником которых осталась и рецензия Ходасевича на «Поэму событий», то посвящения М. Кузмину, Ю. Юркуну и В. Брюсову скорее намекают на возможности восприятия собственных стихов в общем контексте русской поэзии, начиная от вполне дилетантских стихов адресата «Поэмы событий» Ю. Эгерта, включенных в текст поэмы, через Надсона, помянутого рецензировавшим поэму К. Мочульским, через французских поэтов – к современному стиху.
Как кажется, на такую сверхзадачу прямо намекает сам автор, вводя собственные стихи в прозу более позднего времени. В рассказе «Девятнадцать – вчера» так используются строки из «Поэмы событий», в «Маршале сто пятого дня» – отмеченное Брюсовым, но не напечатанное в поэтическом контексте стихотворение из «Ангела всех скорбящих», еще одно стихотворение (видимо, из этой же книги) попало в «Сгоночь». В наибольшей степени это относится к «Девятнадцать – вчера», что уже было отмечено Т.Л. Никольской, но в ее работе лишь отчасти проанализирована функция лейтмотива, который играют шесть строк из пятой главы «Поэмы событий», начиная с эпиграфа и кончая практически самым завершением рассказа. Эти строки образуют своеобразный смысловой костяк всего рассказа, но автор явно претендует и на большее. Сперва они выступают объяснением смысла жизни Жданова, стоящего в центре рассказа:
«Из памяти не уходили застрявшие еще с утра какие-то стихи:
Залил бриллианты текучего глетчераДробящийся в гранях алмазный свет,Девятнадцать исполнилось лет вчера,А сегодня их уж<е> нет…Не правда, есть еще, не 19, все 23. Вот они. Близко! Здесь! Подступили. Память, смотри!»261 Затем, в его же разговоре с Еленой Михайловной, в которую он тайно влюблен, строки начинают обретать универсальный смысл: «Отошел от двери. Рассеянно взял со столика рядом тоненькую книжку в золотом переплете. Хрустит в руках восковая обертка. На ней – это не уходит от взора – в черной, траурной кайме четкая линейка надписи.
– Вы знаете это? – обращается он к своей даме. – Я не понял, не знаю, зачем все это, но вот эти строчки не выходят из памяти: “девятнадцать исполнилось лет вчера, а сегодня их уже нет”. Вам не кажется это странным? Ведь это и есть самое величайшее событие. Вы понимаете? “Сегодня их уже нет”. Значит, смерть всему и всего, если даже человек и живет еще. Ведь когда наступает смерть физическая, девятнадцать, двадцать, пятьдесят, сколько бы там ни было, все года уничтожаются одним взмахом»262. И еще через пару страниц: «”Девятнадцать исполнилось лет вчера, а сегодня их уже нет”.
– Это вам исполнилось девятнадцать?
– Нет, не мне. Никому. Или всем, с сегодняшнего дня ни у кого нет прошлого»263. И в конце они становятся совсем уж ключом, отпирающим все двери. Жданов, опасаясь быть опознанным как офицер, убивает молоденького патрульного и звонит Елене Михайловне, но наталкивается на ее мужа и диктует ему: «…могу я попросить вас передать Елене Михайловне следующее? <…> Так вот: в маленькой тоненькой книжечке в золоченом переплете, которая лежит у нее на столе, есть строчки: “Над смертью бесстрастные тонкие стебли, как лилии, памяти узкие руки…” Дальше я не помню. Может быть, нужно прочесть и дальше264. <…> Час тому назад я убил чьи-то для меня неизвестные девятнадцать лет. Да, да. Так и напишите: девятнадцать лет, час тому назад. Убил. Хорошо»265.
Трагедия убитого свободно присваивается убийцей именно потому, что строки универсальны. Нечто аналогичное по функции происходит и в финале «Сгоночи», когда герой «долго шарил под полой в кармане френча. Наконец вытащил. Маленькая, засаленная, измятая, как пряник, книжка. Давно уже в ней ничего не пишется, а вот цела.
Еще дольше, чем искал, листал серые, просалившиеся, с расплывавшимися следами химического карандаша страницы.
– Когда была пасха в восемнадцатом году? Это седьмого апреля – значит, восьмого? Нет, позже. Наверное – позже. Но почему же про заутреню? Заутреня приснилась? Могла ведь тогда присниться.
С трудом разбирал стершиеся строки собственного почерка. Но что-то еще помнил:
К празднику, к воскресшему на утро богу,Ночь, из лун и весенней чаши лейся.Этой ночью перешли дорогуЧерез лунные, блестевшие далеко рельсы.И назад в тумане и росе, как в пудре, никЧерез ночь лазурь не пробежавший вечер,И теплил от церкви по станице утренник.От заутрени затепленные свечи.Этой ночью лязгал штык порой о штык,Шашка тупо билась в голенище,И давно казалось, что привыкВидеть, звезд как гаснут огненные тысяч<и>.И назад – туман, сбегая но <так!> шоссе, –Чья-то тень и чья-то вот дороги <так!>,И проложен по трепещущей росеСлед воскресшего на утро бога.– Вот он, след-то. А какие смешные стихи, – и пудра, и утренник. И не смешно казалось. А все-таки что-то было, если заутрени снились в седле. Было, а теперь?»266
Пасхальное стихотворение оборачивается предвестием самоубийства через примерно две страницы. Смысл его, таким образом, становится прямо противоположным, но от этого нисколько не менее действенным. Да и упоминавшиеся уже стихи из «Маршала сто пятого дня» тоже появляются в один из решительных моментов романа, как будто бы расшифровывая кое-что из описания в «Сгоночи»: «Он вынул из кармана блокнот, химическим карандашом хотел начать письмо, но вышли стихи. <…> Когда прочел, в глазах стояли слезы»267.
Но связанные с войной стихи становятся не только составной частью прозы Большакова, они же предстают в качестве подтекста многих мотивов ее, как очевидных, так и малозаметных. Следует сказать, что стилистика Большакова-прозаика не только, по уже цитированному определению Т.Л. Никольской, «характерна для авангардистской прозы двадцатых годов»; дело тут не только в тех приемах, которые перечислены исследовательницей, но и в ряде других. Так, в одном из фрагментов «Сгоночи» текст подается в особом графическом оформлении. И если разбивка «лесенкой» более или менее обычна для того времени (ср., хотя бы «Россия кровью умытая» Артема Веселого), то игра шрифтами скорее всего была заимствована из типографских экспериментов Крученых, Зданевича и Терентьева. Правда, она мотивирована усталостью и головной болью персонажа: «Гудит и ноет в голове. <…> Яростно ломит голову. Дежурству еще час, а тоненькое тоненькое – не гуденье, а повизгиванье, – мучает, впутываясь. <…> Слухач стянул с головы обруч приемника. Очень хочется спать и ломит голову. Надоедает до последней степени»268, – но это не препятствует особому впечатлению от текста. Вполне авангардистским следует признать монтаж, ставший конструктивным принципом «Маршала сто пятого дня».
Но вместе с тем мы хотели бы обратить внимание и на некоторые смысловые узлы, перекочевывающие из одного произведения в другое. Одним из них становится гомоэротическая тема, неоднократно констатировавшаяся в связи с «Поэмой событий». Но и другие стихи, вошедшие в «Солнце на излете», также намекали на возможность такого истолкования своими посвящениями Кузмину и Юркуну. В рассказе «Девятнадцать – вчера» она просматривается sub specie сопоставления с прозой Кузмина. Дружба двух офицеров (из которых один англичанин) расшатывается вмешательством женщины, что ведет к крайне опрометчивым поступкам и в конце концов к преступлению, – все это легко было бы себе представить во множестве рассказов и даже романов Кузмина о современности. В «Маршале сто пятого дня» гомоэротическая тема подается как события, наблюдаемые героем романа, Глебом Елистовым, со стороны. Но существен явный лермонтовский антураж с определенной проекцией на юнкерские поэмы, а также прямое воздействие судьбы Брянчанинова на дальнейшую военную судьбу Глеба. Напомним, что вследствие гомосексуальной связи Брянчанинов кончает с собой во время дежурства Елистова по эскадрону, что ведет к аресту последнего, отчислению из училища (с некоторой проекцией на судьбу Грушницкого) и отправку в войска. Вроде бы личные проекции снимаются приключением Елистова с беженкой из Варшавы (ср. стихотворение «Польше») мадам Литкенштейн. Однако тесный контакт двух юнкеров, выразительное описание петроградской гомосексуальной среды, да и кое-какие намеки на аналогичный след в судьбе самого Елистова, заставляют прочно ассоциировать военное время с гомосексуальной активностью.
Следует также сказать и о том, что наполеоновская тема последнего романа, теснейшим образом связанная с переживаниями современной войны, восходит к уже ранее нами упоминавшемуся стихотворению «После…», тому самому, которое посвящено Юркуну. Оно вообще явственно проецируется на поэзию XIX века, начинаясь со строфы, в которой пушкинская аллюзия совершенно очевидна:
Сберут осколки в шкатулки памяти,Дням пролетевшим склонят знаменаИ на заросшей буквами, истлевшей грамотеНапишут кровью имена.А потом, еще через два четверостишия, читаем:
А гимн шрапнели в неба раны,Взрывая искры кровавой пены,Дыханью хмурому седого океанаО пленнике святой Елены.Характерная для Большакова аграмматичность выделяет эту строфу на фоне других и заставляет внимательного читателя увидеть, как она развернется на страницах последнего романа, где повествуется о последних месяцах жизни Наполеона на острове св. Елены. При этом, видимо, характерно, что основной повествователь, комиссар российского правительства при Наполеоне, граф де Бальмен с самого начала характеризуется весьма решительно: «Молодой де Бальмен, в сущности, не был приверженцем исключительно однополой любви. Но он был молод, красив и статен, <…> и Александр Антонович не огорчался, если какой-нибудь маститый и заслуженный сановник, пленившись его стройным станом или томным, как у девицы, ликом, начинал выказывать ему весьма недвусмысленно свое внимание. Однако никто бы не мог сказать положительно, что молодой де Бальмен бежит от нежного пола»269. К слову, вполне реальное разжалование де Бальмена из штаб-ротмистров в солдаты (по Большакову – из-за гомосексуального приключения) оказывается спроецировано на отчисление Елистова из училища.
Но, как нам представляется, при размышлении о возможности разворачивания стихов в прозу необходимо учитывать не только текст самого Большакова, но и повесть М. Алданова «Святая Елена, маленький остров», печатавшуюся в «Современных записках» в 1921 г., когда журнал был вполне доступен в советской России, и практически невероятно, чтобы Большаков этот текст не читал. Повесть Алданова основана на тех же самых донесениях де Бальмена, рассказывает о тех же самых событиях в его жизни, и даже беседы графа с его камердинером разительно похожи в двух текстах. Только у Алданова камердинера зовут Тришка, а у Большакова – Алексашка. Очень похоже на то, что свои стихи военных лет Большаков хотел бы представить не только как порождающие свои собственные будущие тексты, но и литературу совсем иного типа и уровня.
Исходя из этого, следует сказать, что поэтическое творчество Константина Большакова 1914–1918 годов им самим превращается в своеобразный миф, конституирующий если не все последующее творчество, то значительную и наиболее художественно ценную его часть.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПИСЬМА К.А. БОЛЬШАКОВА К А.И. ХОДАСЕВИЧАнна Ивановна Ходасевич (урожд. Чулкова, в первом браке Гренцион; 1887–1964) – вторая жена В.Ф. Ходасевича, оставившая воспоминания о нем (Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 386–410 / Публ. Л.В. Горнунга). Судя по этим письмам и намекам в других материалах, у нее был с Большаковым в 1916 году роман, повлекший за собой обмен письмами, которые мы здесь печатаем полностью, поскольку они являются в значительной мере уникальным свидетельством о жизни Большакова в это время. Приложенные к письмам стихи печатаются после самих писем. Все материалы хранятся: РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 57. Небольшой фрагмент из письма 5 был ранее опубликован (Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 465) с подробным комментарием, который мы учитываем в своем тексте.
1 8 марта 1916. ПетроградШлю привет милой Анне Ивановне и Владиславу Фелициановичу. Рвусь в Москву, но, кажется, дела еще задержат на несколько дней. Страшно соскучился по Вас.
Конст. Большаков.Открытка. Датируется по почтовому штемпелю.
2 Март 1916 (?), ПетроградШлю привет из милого сердцу моему Петрограда. Здесь сыро, скучно и противно. Сейчас выезжаю. Думаю найти солнце где-нибудь дальше.
Мой искренний привет Владе270 и всем знакомым москвичам. 13-го думаю быть в Москве.
К. Большаков.Открытка, карандашом. Почтовый штемпель неразборчив. Мы условно датируем письмо по возможной связи с п. 1.
3 18 апреля 1916. МоскваМилая Нюрочка, шлю Вам свой привет на этом проспекте. Получил от Вас письмо, из которого, впрочем, не явствует, что Вы получили мои оба. Книжку, детка, не посылаю, да и нет ее сейчас под руками, потому что все небольшое количество авторских разослал поэтам, а сходить купить лень271.
С воинской повинностью, к сожалению, все выяснится на той неделе окончательно. А пока скучаю в Москве, т.к. по причине своей несвободы должен был отклонить очень милое приглашенье одного гусара проехать к нему в именье, в Тульскую губ.
Жду Вас в Москву.
Так же дружески целую Вас.
Ваш К.Б.18/IV 916 г.
Красными чернилами на обороте рекламной листовки сборника стихов Большакова «Солнце на излете».
4 10 мая 1916. ХарьковМилых Анну Ивановну и Владислава Фелициановича приветствую и целую. Грущу с каждым днем больше и больше. Дорога не в смысле удобств, но товарищ<ей?> была отвратительна на редкость. Но, кажется, и я сам против воли становлюсь немного товарищем.
До свидания, увы, не скорого. Пишите.
Ваш К.Б.Харьков. 10 мая.
Открытка, химическим карандашом.
5 15 мая 1916. Чугуев Чугуевский лагерь.15 мая 1916 г.Милая Нюрочка,
я никогда не думал, что может быть так трудно написать письмо, письмо все равно кому, все равно с какими чувствами. Милая, я говорю как раз не про то, чего здесь у меня совершенно <нет>, т.е. свободного времени, а п<р>о то, что отчаянье, безграничное, всепоглощающее отчаяние выветрило во мне, кажется, все. Мне странно подумать, что на свете есть люди, которые могут писать стихи, читать их, одобрять или нет. Мне странно подумать, что можно еще на что-то надеяться, о чем-то мечтать. Впрочем, зачем я пишу тебе все это. Ты в Москве, ты счастлива, увлекаешься кем-то, кто-то тобой, – какое тебе теперь дело до меня, уже вычеркнутого из списков жизни нарядной и настоящей. Милая, я только хотел попросить тебя не не <так!> думать обо мне ничего нехорошего, не думать, что забыл тебя. У меня нет ни времени, ни покоя, чтобы писать. Каждое мое письмо домой – это только жалоба и вопль. А тебе, Нюрочка, мне стыдно и ни к чему писать так.
Напиши мне, солнышко, пожалуйста. Я буду так рад, так рад и благодарен. А пока прощай. Поцелуй Гаррика272 и Владю.
Целую
Твой Константин.Мой адрес: Чугуев, Харьковской губ. Военн. Училище. 6 рота, IV взвод, юнкеру Большакову.
P.S. Привет всем знакомым.
P.P.S. Извиняюсь за бумагу – другой нет.
Написано карандашом.
6 9 июня 1916. Москва 9/VI 916.Милая Нюра,
спасибо тебе за исполн<енное> поручение, – вчера я получил очень любезное письмо от Блока273, а потом, Нюрочка, и вообще спасибо, потому что ты хорошая девочка, я это знал всегда, но только не делал виду. Это так нужно, Нюра, – серьезно.
Себя я чувствую очень устало и скверно. Пока на свободе и пытаюсь чуточку работать. Нужны деньги, т.к. весь гонорар за «Солнце на Излете», кроме десяти рублей, я отдал той женщине, про которую тебе говорил274. Асеев негодяй исключительный275, и мне противно разговаривать о комиссии . Вот, кажется, и все московские новости, которые я могу тебе сообщить. Пиши мне, пожалуйста, потому что очень скучно. А от писем бывает приятнее.
Владе никак не соберусь написать. О тебе думаю.
Нежно целую.
Твой К.Б.P.S. Извиняюсь за плохую бумагу и чугуевский конверт.
7 12 июня 1916. Москва Москва 12 июня.Вчера, милая Анна Ивановна, я получил Ваше письмо и на той же скверной бумаге и в скверном конверте тороплюсь с ответом.
Это очень мило и очень трогательно, что Вы так близко интересуетесь моими делами. Спасибо Вам.
Еще раз спасибо за порученье. A propos: Вы получили мое первое письмо? – Ответа на него не было.
Мои мытарства еще ничем не окончились и пока, не будучи способным влюбляться в кого-либо, скучаю без всякого дела. Книга по милости этого слюнтяя Лисицкого задерживается, кажется, на неделю276.
Москву покидают один за другим все мои знакомые, тут душно, пыльно и вместе с тем пасмурно и иногда идут дожди. И кроме того невыносимо скучно. Я очень и очень завидую теперь Вам и Вашей свободе. Как хотелось бы теперь уехать из Москвы, тем более, что и наши скоро собираются.
Всего Вам хорошего.
Мой искренний привет.
Ваш КБ.Написано красными чернилами на розовой бумаге.
8 6 мая 1925. Москва 6.V.25 г.Милая Анна Ивановна,
только сегодня получил в руки В<аше> письмо и искренне тронулся, как В<ашим> желанием встретиться, так и вообще памятью обо мне. Ну, конечно, наши желания совпадают. Я тоже очень хочу повидать Вас, но как это сделать? Дело в том, что сейчас у меня живут моя мама и мой племянник-крошка, и, конечно, при посторонних свидетелях (– а Вы знаете московск<ие> вигвамы) невозможно даже дружески поболтать таким старым друзьям, как мы с Вами. Поэтому, Анна Ивановна, если Вы действительно хотите видеть меня (я-то хочу!), то давайте встретимся где-нибудь на нейтральной почве. Например, Вас не устроило бы в субботу (9.V) быть на Тверск<ом> бульваре между часом и двумя. Я буду Вас ждать в это время. Это, конечно, выглядит немного смешно и по-гимназически, но, ей-Богу, меня даже утешает, что старость не лишила меня окончательно таких мило-наивных выдумок.
Целую ручки,
Ваш Конст. Большаков.* * *О, не казните слишком строгоЧто не принес экспромта Вам, –Сегодня так грустна дорога,Что строчки нет для милых дам.Нет, ни мороз, ни такса дажеИль обезумевший лихач,Но, на меня взглянув, кто скажет,Что чей-то я утешил плач?А слезы утешать гусаровИ после нежные стихи,Равно, что в дым больших пожаровПо каплям лить мои277 духи.Января 5/916. Конст. Большаков.* * *278Ночь раскрыла зрачки и от трепета руки,Лучше слова и больше сказали люблю…О мой путь, путь изношенной мукиСнова тюль твой неясный ловлю….И на небе, как млечный от БогаДо ночной протянулся земли,В чье-то сердце извились дороги.В чьем-то сердце погасли вдали.* * *Нюре Голубое небо. Холоднее взоры.В сердце тихо вступает июль…Одевается вечером городВ затканный золотом тюль.И в конец уходящего лета,Изнемогшего в тяжкой земле,В далеком, далеком где-тоСтройнее тебя газели нет.Помню тебя, целовавшую руки,Робко глядевшую в холодные, зеленые глаза,И по серому небу грядущей скукиПолзла и близилась гроза.Холодные белые женщины,Натягивая лениво перчатки,И в глазах казался уменьшеннымТвой волнующий образ и сладкий.Но любить не могу, когда лето,Когда в сердце вступает тихо июль,И тебя я вижу, льнущую и неодетуюЧерез утренний и золотистый тюль.Твой К. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНСТАНТИН БОЛЬШАКОВ Ландскнехты 279Какая жуткая в своей неизведанности Россия?
Никогда не знать с вечера, к какому утру повернет лицо, каким завтра будет сегодня, не знать и не предвидеть, только по-тютчевски «только верить»280.
И разве не понятно, разве так уж нелепо, что о себе самой глотает страницы фонвизинских романов281, что на «песенки Вертинского» скоро нужно будет ввести карточную систему.
Правда же, это не только «беженцы».
Четыре года бойни, какой еще не выдумывала история, три года адской муштры, одним из сотни избегнутой военщины.
Три года казарменными плацами – улицы, и через два третий дом – казарма, тучами живого серого сукна, кажется, октябрьское небо застелило землю.
Переменились понятия: герой – это «оборонщик», «белобилетник», и счастливец – больной и немощный.
А вместе с тем как трудно расстаться.
«Ваша профессия?» – «Солдат». – «Ваше звание?» – «Бывший офицер». – «Но вы же не кадровый?» – «Нет, но я был офицером».
Мирный обыватель три года изнывал, протирая винтовкой плечо. Даже наказанье – часы под ее сенью. Еще бы, казалось, не ненавидеть. Но берегут, рискуя расстрелом, прячут стащенное откуда-то и когда-то ружьецо. А где можно, а кому можно, там и не расстаются, оттягивая себе плечи. Запрятывают в чемодан поломанный штычишко. Завидуют счастливцам, у которых есть хотя бы револьвер. И чтобы иметь его, идут туда, куда бы иначе ни за что не пошли.
Годами ходили пронумерованные, меченные петличками и погонами, и после декрета где-то украдкой нашивали буквы и ленточки.
О снятии шпор нужны специальные приказы; нужно преследовать «погононосцев», а ведь такие «консерваторы» и не только из офицеров.
Как пришлась по душе муштра и «красота» лубочной открытки. Какое великолепное ремесло! Даже страшно подумать, сколько было кадровых фельдфебелей и подпрапорщиков. Тем-то, понятно, некуда деться.
А вот еще. Это даже не обыватель.
Талантливый, молодой московский композитор. Очень тонкий человек, уже с именем. Но бывший юнкер бывшего привилегированного кавалерийского училища. Без погон, без кокарды, но в шпорах и обязательно в шпорах. Его арестовали в кафэ (не в г. Москве) за преувеличенно-вежливое испрашивание разрешения курить у такого же беспогонника полковника
Этого много, слишком много. Об этом не стоило бы и говорить, но… много чересчур. Кто-то ведь что-то делал. И к кому-то призывали. А разве взовешь к дружным кадрам «ландскнехтов»?
Ведь так понятно, кто эти «контры», там где есть ремесло: «военный».
Не нужно даже покупать. Услуги почти что бесплатно. И странно, что нет до сих пор еще печатных предложений их.
Разве скажешь: «оставьте», а если и скажешь, что из того.