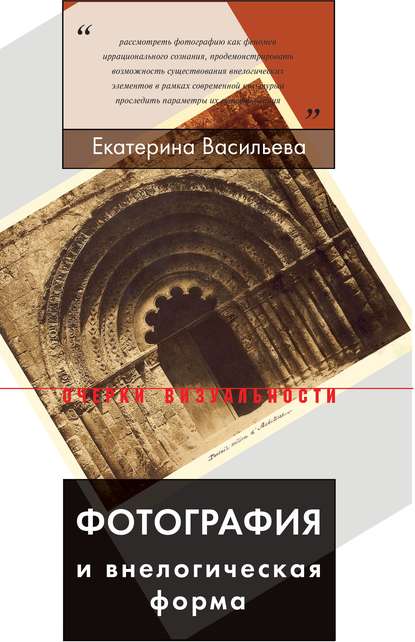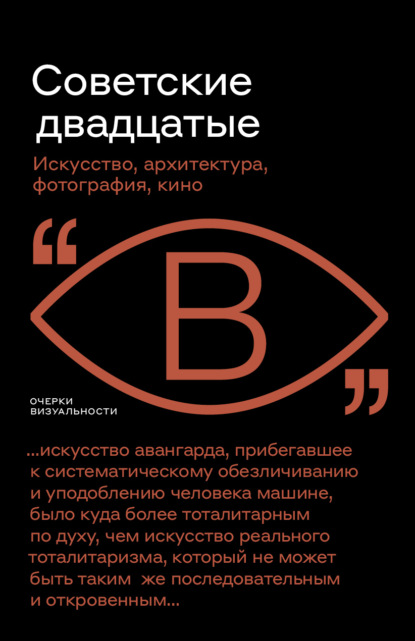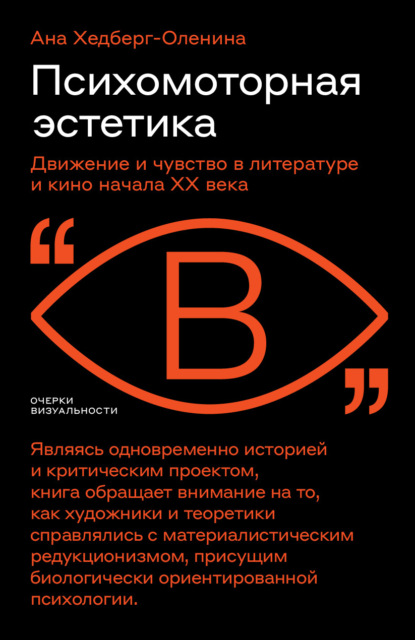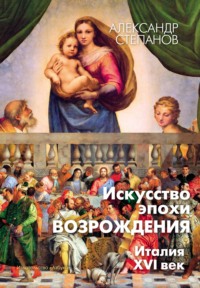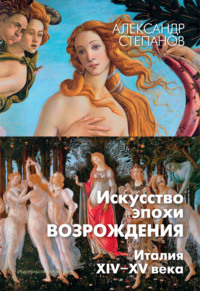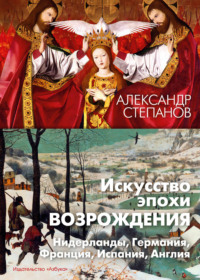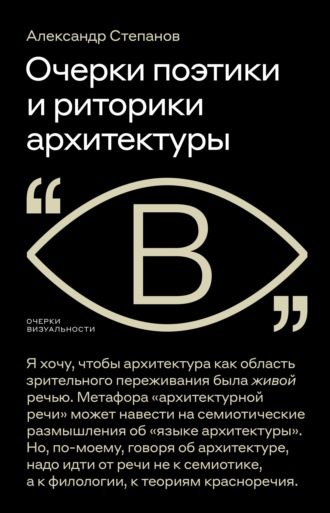
Полная версия
Очерки поэтики и риторики архитектуры
Составить представление о здании, заслоненном фасадом и оградой, можно, только войдя внутрь. В плане это эллипс, длинная ось которого, как ни странно, параллельна фасаду. При первом посещении внутри оказывается неожиданно просторно – наверно, потому, что оставшийся позади портал перестал подавлять здание церкви. Взгляд, скользнув по опорам, держащим эллиптический антаблемент и купол (форма которого образована вращением того же эллипса вокруг продольной оси)173, останавливается на главном алтаре. Престол вместе с запрестольным образом обрамлен эдикулой на двух парах коринфских колонн из красного с прожилками мрамора. Она кажется надвигающейся на вас, заполняющей поле зрения. Ради этого архитектурного blow up Бернини и растянул тело церкви поперек оси входа.
Вы не сможете отвести взор от алтаря, пока не проследите путь св. Андрея к Богу от изображающей его распятие алтарной картины, которую будто бы несут в бьющих откуда-то сверху золотых лучах золотые ангелы и херувимы, к его беломраморному изваянию над разрывом лучкового фронтона эдикулы. В центре купола, куда экстатически обращен взгляд святого, перспектива позолоченных ребер и шестигранных кессонов сходится к окулюсу, окруженному хороводом крошечных херувимов, парящих все выше и выше, истаивая в ослепительном свете, излучаемом голубем Святого Духа. Нижняя часть церкви темна, купол же прекрасно освещен большими окнами, устроенными между ребрами. Тьма переходит в свет, многоцветие мраморов – в золото.
Эллиптическое очертание интерьера снова наводит на сравнение с площадью Св. Петра, которую Бернини строил в те годы. Вход в церковь аналогичен промежутку между колоннадами Сан Пьетро, подкупольные опоры с пилястрами – как бы сами эти колоннады, а эдикула главного алтаря играет роль собора. Но смысл замкнутости здесь иной: церковь Сант Андреа предназначена не для прихожан, а для небольшой общины послушников и их наставников. Поэтому она устроена так, что из центральной точки можно видеть происходящее перед каждым из пяти престолов. И все-таки Бернини здесь, как и на площади Св. Петра, не полностью изолирует вошедших внутрь от внешнего мира: тамбур, апсида и ниши освещены дневным светом, проникающим через окна.
Опоры, за которыми находятся ниши, расставлены неравномерно. Интервалы широки при входе и напротив входа, узки по сторонам от входа и от апсиды. В прямоугольных нишах на поперечной оси устроены капеллы. Стены церкви тонки: их и вовсе могло бы не быть, потому что направленные к центру интерьера перегородки между нишами работают как контрфорсы, помогающие опорам держать купол. Но у посетителя создается впечатление, что ниши – это углубления в очень толстой стене. Возникает ложная аналогия с нишами Пантеона, поддерживаемая сведениями о том, что в эти годы Бернини занимался проектом его реставрации174.
Бернини считал церковь Сант Андреа своим высшим достижением в архитектуре. Однажды его сын Доменико зашел туда помолиться. Смотрит – сидит в сторонке отец и с довольным видом поглядывает по сторонам. «Что ты тут делаешь в такой тишине, один?» – спрашивает Доменико и слышит в ответ: «Только эта вещь, сынок, вызывает у меня удовлетворение, достигающее глубины сердца. Я часто сюда захожу, чтобы забыть все дела и утешиться, созерцая эту работу». Ни до, ни после Доменико не слышал от отца, чтобы тот был доволен каким-либо своим произведением, «ибо он считал, что всем им далеко до той Красоты, которая была доступна его уму»175.
Сан Карло алле Кваттро Фонтане
Во время этой встречи в двухстах шагах от церкви Сант Андреа, на перекрестке страда Пиа и страда Феличе, стояла в лесах другая церковь – Сан Карло алле Кваттро Фонтане, которая была заложена двадцатью четырьмя годами раньше, чем Сант Андреа, но все еще не была достроена. Ее автор, Франческо Борромини, покончил с собой в 1667 году. Рудольф Виттковер назвал ее «инкунабулой римского высокого барокко»176.
Участок на перекрестке, на углу которого находится фонтан «Тибр», по сей день принадлежит братству испанских босоногих тринитариев. На клочке земли сорок на сорок метров, выходящем на узкую улицу, они захотели иметь ни много ни мало церковь и монастырский корпус с клуатром. Ни один уважающий себя зодчий не взялся бы за такую трудную задачу, не потребовав очень высокого гонорара, а тринитарии были небогаты. По-видимому, не без интриги Бернини, который опасался соперничества Борромини в продолжавшемся после смерти Карло Мадерна обустройстве базилики Св. Петра, тринитарии обратились не к профессиональному архитектору, а к строителю, каковым формально считался Борромини. К своим тридцати пяти годам этот каменотес из Милана не построил еще ни одного здания по собственному проекту, а человек он был честолюбивый. Отцы-тринитарии легко с ним поладили: они предоставляют ему полную свободу действий, а он отказывается от гонорара. Подписав в 1634 году договор, Борромини с головой углубился в работу, забыв о Бернини, которого прежде громогласно обличал в присвоении своих инженерных идей. Трудность задачи возбуждала азарт ума, переполненного небывалыми архитектурными замыслами.
Сан Карлино (ласковое прозвище, данное этой церкви римлянами) была любимой постройкой Франческо. Однако из‐за нехватки денег церковь, которая уместилась бы на пятне, занимаемом одним из центральных пилонов базилики Сан Пьетро, строили с длительными перерывами. Фасад на страда Пиа закончили только в 1682 году – через полтора десятилетия после смерти мастера.
С узких улиц главный фасад Сан Карлино виден только в остром ракурсе. Обескураживает непринужденность, с какой Борромини вставил его между монастырским корпусом и колокольней. С таким же успехом можно было бы возвести его в чистом поле, приставить к любому другому зданию или к дикой скале, наподобие храмовых фасадов Петры. Кстати, скальные храмы Петры стали известны в Европе только в 1812 году, поэтому понятна ирония Зедльмайра по поводу поисков прототипа Сан Карлино: «Это же схема каменных фасадов Петры, но данная не в прямых, а в волнистых линиях»177. Замечу, однако, что у фасадов Сан Карлино и Петры есть далекая общая родня – эллинистические нимфеи.
Я бы поверил, услышав, что фасад Сан Карлино сработан не из кирпича, облицованного травертином, а целиком отлит из какого-то упругого материала. Подходишь ближе, ближе, запрокидываешь голову – изгибы все круче. Это, по сути, триптих, намек на тринитарианский культ Св. Троицы. Боковые части фасада отделены от средней колоннами. Богатейший эластичный карниз – выпуклый в средней части и вогнутый в боковых – делит фасад на два яруса. Изгибы нижнего яруса следуют волне карниза. Посредине – вход под статуей св. Карло Борромео, осененного крылами херувимов. В верхнем ярусе средняя часть, как и боковые, вогнута, благодаря чему в ней умещается эдикула, выходящая на балкон с выпуклой балюстрадой. Фасад увенчан карнизом, который на самом деле горизонтален, но при взгляде снизу, в остром ракурсе, из‐за вогнутости всех трех частей триптиха похож на три сталкивающихся волны, образующих симметричные всплески, между которыми ангелы держат большой овальный медальон, увенчанный странными свисающими вниз волютами.
Надо прийти сюда перед закатом, когда невысокое солнце золотит только выступы и выпуклости. Дождаться ударов колокола. Покажется, что фасад Сан Карлино изображает звуковые волны, пробегающие по карнизу. По-видимому, мысль о соотношении слышимого и зримого в образе Сан Карлино не давала Борромини покоя: соорудив в 1643 году колокольню, он велел ее разобрать. Надо полагать, нынешний вариант отвечает его новому замыслу.
Сан Карлино – моя любимая церковь. Но люблю я ее не за внешний облик, а за то, что вижу внутри, открыв дверь в тесном темном тамбуре. Думаю, главная причина, зовущая меня в эту церковь всякий раз, когда я бываю в Риме, – белизна очень сложного и вместе с тем геометрически ясного строения интерьера. Пытаюсь предствить его в травертине или в цветных мраморах, как в Берниниевом Сант Андреа, – и понимаю, что в любом ином варианте очарование исчезло бы. К счастью, отцы-тринитарии с их уставной бедностью оказались единодушны с миланским каменотесом в стремлении соблюсти белизну оштукатуренных поверхностей. Каждая линия тончайших профилей, каждый завиток капителей отчетливы, как на чертеже с первоклассной отмывкой. По контрасту с чувственными формами фасада интерьер Сан Карлино балансирует на границе между материальным и идеальным.
Сочиняя план церкви, Борромини использовал не классический арифметический метод, при котором все элементы композиции получаются путем умножения и деления исходного модуля, а средневековый метод геометрического расчленения треугольника на меньшие элементы, унаследованный им от многовековой традиции ломбардских каменщиков178. Чтобы построить эллиптическое основание купола, Борромини начертил два равносторонних треугольника, примыкающих друг с другу основаниями (еще одна аллюзия на Св. Троицу), вписал в каждый по окружности (тем самым получив малые дуги эллипса) и из вершин тупых (120 градусов) углов полученного ромба, как из центров, провел сопряжения окружностей. Углы ромба дали глубину вогнутостей антаблемента и расположение престолов. Простенки между алтарными нишами параллельны сторонам ромба, а дверные проемы в них находятся на биссектрисах исходных равносторонних треугольников179.
Но все это открывается, когда анализируешь план. В действительности же первое, на что благодарно откликаются чувства, – прохладный полумрак, окутывающий белую колоннаду. Грациозные стволы то расступаются, то сближаются друг с другом. Антаблемент очерчивает их, как ободок сосуда прихотливой формы, на дно которого ты погрузился. Купол, наполненный светом от невидимых окон в его нижней части, невесомо покоится на затененных конхах. Он составлен из чуть тронутых тенями кессонов в виде крестов и многогранников. «Главная особенность в том, что каждая форма возникает как случайный зазор между другими. Она есть – и ее нет – в одно и то же время. Если смотреть на кресты и восьмигранники – нет шестигранников, и наоборот», – писал Вячеслав Локтев180. Дэвид Уоткин напоминает, что у Себастьяно Серлио идея такого освещения проиллюстрирована в пятой книге трактата I sette libri dell’architettura. Другой возможный источник рисунка кессонов – мозаики на своде галереи в мавзолее Санта Костанца181. Благодаря уменьшению кессонов по направлению к центру купол кажется очень высоким. В центре сияет эллиптический проем, обрамленный надписью с посвящением храма блаженному Карло Борромео. Снизу не видно, что над проемом высится почти сплошь застекленный фонарь. В ослепительном свете там парит голубь Святого Духа, вписанный в треугольник, источающий золотые лучи.
Внизу углам небесного треугольника соответствуют алтари, замыкающие продольную и поперечную оси здания, с темными картинами в тяжелых золоченых рамах с полукруглым верхом, с херувимами и гирляндами. Эти картины и тамбур входа (через вырез над ним в церковь проникает свет из остекленной двери фасадной эдикулы) воспринимаются как паузы между светлыми трехчастными полями. В каждом таком поле по четыре колонны: пара средних фланкирует плоский простенок и служит опорой для парусов, а на остальных колоннах лежат изгибы свободного от нагрузки антаблемента. Однако внимание верующих устремляется прежде всего к престолам – и тогда паузами оказываются эти плоские простенки. Возникает, по словам Виттковера, «двухголосная фуга»182, строение которой с полной ясностью вырисовывается на чертежах Борромини. Светлые плоскости внутренних стен суть вариации темы триптиха, разыгранной на фасаде: «внешнее является внутренним, внутреннее внешним»183.
Тремя ярусами интерьера Сан Карлино представлены три различные архитектурные парадигмы. Волнистая нижняя зона восходит к античным экспериментам в духе купольного сооружения Адриана на пьяцца д’Оро в Тиволи. Средняя зона с ее фронтонами над алтарными нишами намекает на приверженность Борромини к планам в виде греческого креста. Эллиптический же купол – собственно барочный. Но таково аналитическое суждение. В непосредственном же восприятии мы видим интерьер не отдельными горизонтальными пластами, а широкими полосами, выхватываемыми из интерьера взглядом, который в своем движении не считается с границами архитектурных парадигм. Такой мешанины не страшится архитектор либо уверенный, что недозволенных приемов не существует, либо не имеющий понятия о несовместимости этих парадигм с точки зрения будущих историков архитектуры. И то и другое говорит если не об «умопомрачении» ломбардского каменотеса (диагноз, поставленный Борромини классицистами), то об откровенном пренебрежении архитектурным этикетом.
Но каков результат! В отчете о строительстве церкви генеральный прокуратор братства тринитариев писал: «Все говорят, что в мире не найти ничего равного [этой церкви] по художественному достоинству, изобретательности, высочайшему качеству и своеобразию. Это подтверждается и представителями различных наций, которые, прибывая в Рим, стараются приобрести планы нашей церкви». Далее ключевая фраза: «Всё выполнено в такой манере, что каждая часть дополняет другую, так что здание можно созерцать непрерывно». Итак, правильнее говорить не о дикости гения, а о том, что гений творит вне своей или какой-либо иной эпохи.
Думается, у Бернини была и невысказанная в разговоре с сыном причина осматривать церковь Сант Андреа с особенным удовольствием: многое говорит за то, что он задумывал ее как «Контр-Карлино». Церковь Борромини ни на дюйм не отступает от красной линии виа дель Квиринале, хотя стоит на очень узком ее участке, а Бернини сделал отступ при том, что на его участке улица заметно шире. Сан Карлино вплотную примкнута к монастырскому корпусу – Сан Андреа отделена от корпуса новициата. Фасад Сан Карлино – высокая волнистая стена с небольшим входом, оформление которого подчинено ритмической организации целого; фасад Сант Андреа – это и есть, собственно, вход, а церковь оттеснена на второй план. Борромини расположил эллиптическое основание купола по оси, ведущей к алтарю, – Бернини поставил эллипс поперек оси. Борромини оставил интерьер белым – Бернини противопоставил белизну скульптур разноцветным мраморам и обильной позолоте архитектурных форм. Но так же, как и Борромини, создатель церкви Сант Андреа отказался от гонорара, договорившись с иезуитами, что те возьмут на себя только пропитание маэстро и его помощников.
В результате столкновения двух гениев Рим получил два полярных варианта барокко.
Борромини – геометр и конструктор, обожавший ставить и решать в архитектуре сложнейшие стереометрические задачи. Его архитектура онтологична, то есть родственна законосообразным формам природы и, в известной степени, независима от вкусов и суждений, господствовавших в его время. Всё, что им построено, придумано им, прежде всего, для самого себя – пытливого экспериментатора-естественника – и лишь во вторую очередь для заказчиков. Аура его произведений сродни притягательности всего прекрасного в природе. Переживания, ими порождаемые, медитативны – следовательно, не коллективны. Они утешительны. Интерьер Сан Карлино, по колориту стен и воздуха прохладный, греет душу одинокого посетителя. В XVII веке, в отличие от XXI, таковых было немного. Поэтому архитектура Борромини не пользовалась таким признанием, как ныне. В этом одна из причин его самоубийства.
Бернини – художник, скульптор, декоратор и только потом архитектор. Стереометрия для него не страсть, а техническое подспорье в решении задач, всегда нацеленных на возбуждение общественного резонанса. Он не онтолог, а создатель социально значимых архитектурных образов. Его творчество немыслимо вне вкусов современников. Всё для них; для себя же только слава. Он не испытывал возможностей природы, не рисковал экспериментировать со сложными архитектурными формами и предпочитал создавать небывалые архитектурные эффекты из классически ясных, простых форм, наилучшим образом воспринимаемых с одной-единственной фронтальной точки зрения, как из царской ложи в театральном зале. Аура его произведений охватывает массы зрителей и инициирует в них религиозный экстаз или культурный апломб. Медитация в его архитектуре неуместна. Интерьер Сант Андреа, колористически теплый, в психологическом отношении прохладен и царственно властен.
Успенская церковь в Кондопоге
10 августа 2018 года сгорела подожженная пятнадцатилетним сатанистом церковь Успения Пресвятой Богородицы в карельском селе Кóндопога.
Ее судьба заставляет задуматься о том, чтó именно погибло в огне в то утро – деревянная постройка, стоявшая здесь с 1774 года, или произведение архитектуры, которое мы называем Успенской церковью. Различие между двумя «слоями» определенного объекта – постройкой и произведением архитектуры или (философски обобщая) между двумя предметами, которые могут быть даны нам в этом объекте – предметом реальным и предметом интенциональным, – основополагающая мысль в феноменологической эстетике Романа Ингардена.
Существует, с одной стороны, реальная постройка такой-то величины и вместимости, построенная из такого-то количества материалов с определенным удельным весом, работающих на сжатие и на изгиб, имеющих определенные показатели пожаро- и влагоустойчивости, теплопроводности, химической активности, обладающих такой-то звукоизоляционной способностью, степенью прозрачности и прочими измеримыми свойствами. Это реальный предмет. С другой стороны, существуют открываемые нами в этой постройке те или иные аспекты, которые создаются актами сознания, направленными на нее с определенными намерениями, – допустим, с интересом историка, для которого эта постройка является документом, свидетельствующим о материальной или духовной культуре ее создателей; или с интересом теоретика к влиянию архитектурных концепций на практику; или с чьим-то желанием оценить степень красоты или безобразия постройки и так далее. Ингарден называет такого рода создаваемые нашим сознанием аспекты интенциональными предметами.
Пока не создан искусственный интеллект, который не просто умеет решать логические задачи, но способен проникаться исторической проблематикой, интересоваться вопросами архитектурного творчества или переживать эстетические чувства – а я в возможность такого достижения не верю, – интенциональные предметы способны создавать только люди. Вообразим, что человечество погибло, но все постройки сохранились. Будет ли это означать, что тем самым сохранились произведения архитектуры? Отнюдь нет, потому что некому будет воспринимать эти постройки в качестве произведений архитектуры. Допустим, на опустевшую Землю высадятся инопланетяне. Воспримут ли они наши постройки как произведения архитектуры? Это опять-таки зависит от их способности порождать такого рода интенциональные предметы.
«Несомненно, когда мы открываем в постройке произведение искусства и восхищаемся ее красотой или, наоборот, испытываем отвращение от ее безобразного вида, мы принимаем ее в расчет не только как реальный предмет, более того, ее реальность начинает терять для нас значение», – утверждает Ингарден184. Интенциональный предмет, называемый «произведением архитектуры», существует для нас, восхищает красотой или внушает отвращение как при очном знакомстве с ним, так и заочно. Если бы это не было так, я не смог бы написать и одной десятой части этой книги, поскольку подавляющее большинство проходящих перед читателем произведений архитектуры я в натуре не видел. Эта ситуация для искусство- и архитектуроведов типична. Даже давно погибшие произведения архитектуры могут восприниматься нами именно в таком качестве благодаря реконструкциям, при том что реконструкции могут оспаривать степень правдоподобия друг друга.
Хотя произведение архитектуры и обязано своим существованием реальной постройке, оно, раз возникнув, продолжает жить в нашем сознании уже независимо от нее. Это не значит, что интенциональный предмет – всего лишь чья-то субъективная фантазия. Индивидуальное осмысление или эстетическое переживание произведения архитектуры может обладать несомненной убедительностью для очень многих людей. Кто усомнится, что Успенская церковь в Кондопоге – прекраснейший деревянный шатровый храм в России, а следовательно, и в мире (ибо в других странах таких храмов не строили)? Может быть, в какой-то степени это осознавал и сам малолетний преступник, и уж наверняка осознавали те, кто побудили его уничтожить эту постройку. И вот этой постройки нет. Разве вместе с ней погибло и выдающееся произведение архитектуры, занимающее высокое место как в истории русской архитектуры, так и в памяти людей, видевших Успенскую церковь своими глазами или на изображениях?
В годы Первой мировой войны в Реймсский собор попало около трехсот немецких снарядов. После его восстановления Ингарден писал: «Собор в Реймсе ныне тот же, что и в канун 1914 года, хотя постройка, на основе которой он в настоящее время обнаруживается, является новой по сравнению с той, которая существовала в 1914 году и позднее была разрушена немцами. Эта в то время разрушенная постройка уже никогда более не возникнет и не может возникнуть. В то же время после „ее“ восстановления вновь возник тот же самый собор в Реймсе как некое единственное в своем роде произведение искусства. (…) Одно и то же архитектурное произведение в принципе можно воплотить в различных постройках, которые могли бы иметь различную прочность в зависимости от качества „материала“, употребленного для его постройки… С точки зрения чистой архитектуры (свойств самого архитектурного произведения) безразлично, состоят ли, например, своды в Вавеле185 на втором этаже целиком из дерева, и притом из лиственницы, как и старые своды в двух залах первого этажа, или же они – как это обстоит в действительности – представляют собой железобетонную конструкцию, таким образом обложенную деревом, что никто, кто не знает, как их строили, об этом не догадывается»186.
Гибель церковной постройки, возведенной в селе Кондопога в 1774 году, – серьезное испытание нашей способности отличать произведение архитектуры от его материального носителя. Это не академический, а насущно практический вопрос. Если произведение архитектуры как интенциональный предмет останется для нас актуальным, ценным, дорогим, то он непременно побудит общественность и власти к восстановлению постройки. Сколь бы тщательным оно ни было, новая постройка в принципе не может быть тождественна погибшей, как и две предшествовавших ей на этом месте не были тождественны первой, поставленной в XVI веке. Но я настроен оптимистически и верю, что Успенской церкви как произведению архитектуры будет возвращен материальный носитель.
Отменное чувство места проявили основатели первой Успенской церкви, выбрав для нее кончик маленького мыса, вдающегося в Чупу-губу Онежского озера на околице села, в котором жило тогда не более ста человек. Облик той церкви неизвестен. Храм же екатерининского времени, по существу, – колоссальный деревянный столп. В советское время в нем сушили зерно, в последние годы регулярных служб не проводили, посещали его только туристы. Но как раз в периоды, когда он лишался богослужебной функции, в вертикали, возвышающейся над необозримыми горизонталями карельского озерного ландшафта, особенно ясно проступало древнее назначение менгира: быть главной осью здешнего мира, магически объединяющей население окрестных селений, не важно, верующих во Христа или не верующих.
Алтарный прируб, трапезная, паперть со всходами – эти объемы, нанизанные на ось восток-запад, суть ступени восхождения взгляда к вершине столпа. Но эта мысль может возникнуть, если вы, желая увидеть церковь сбоку, отклонитесь от продольной оси. Анонимный мастер предпринял несколько риторических ходов, чтобы удержать вас от такого своеволия. На подходе к церкви с востока, от села, вы видите только захватывающую дух сорокадвухметровую вертикаль. Она состоит из поднятого на подклет четверика, на который поставлены два последовательно расширяющихся кверху восьмерика, увенчанных восьмигранным шатром с луковкой на тонкой круглой шее. Повторяя силуэт луковки, килевидная бочка над алтарным прирубом, украшенная собственной маленькой луковичной главкой, велит вам придерживаться продольной оси храма. Но мастер счел такой контроль над вашим поведением недостаточно строгим. Стремясь как можно дольше удерживать вас на продольной оси, он прибегает к ошеломляющему приему: устраивает два симметричных всхода на паперть так, что подходить к ним приходится не с запада (там озеро в нескольких шагах), не с севера или юга (что мешало ему поступить так?), а именно с восточной стороны! Низко опущенные к земле крытые досками навесы над лестницами воспринимаются, как два гладких пути вверх. Симметрия всходов дольше, чем что-либо другое, удерживает нас в положении Буридановых ослов: к какому же всходу направиться – левому или правому? И вот мы, как загипнотизированные, чуть ли не до упора идем посредине. Этой особенностью Успенская церквь отличается от всех других храмов Прионежья, следующих поэтике шатрового храма: два восьмерика на четверике с алтарной частью и трапезной, нанизанными на широтную ось.