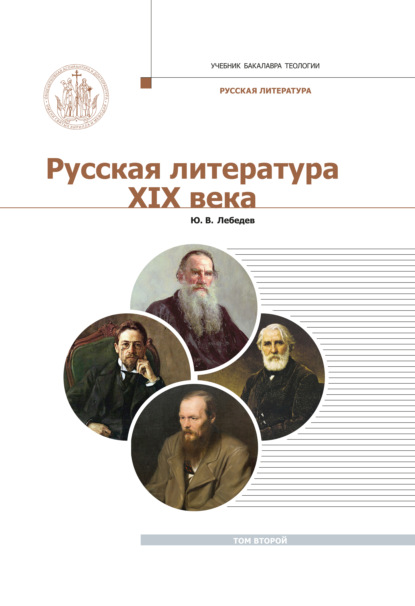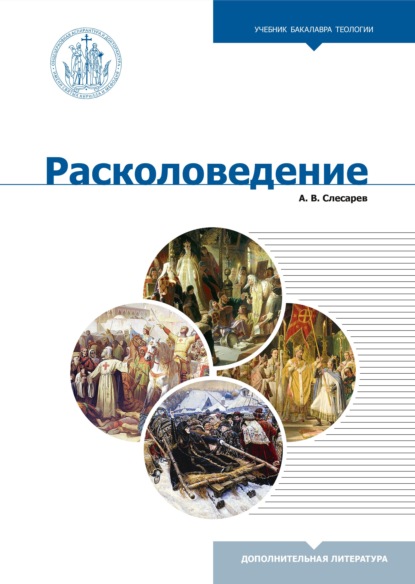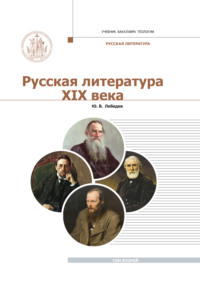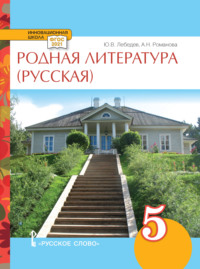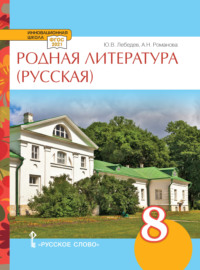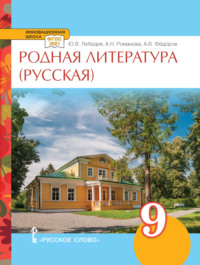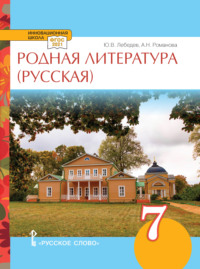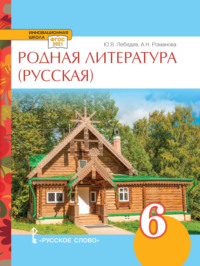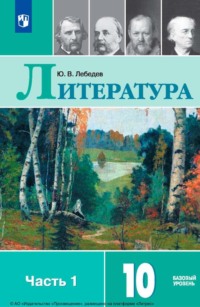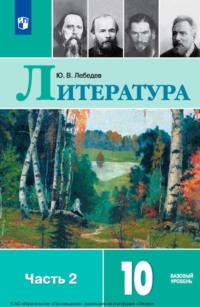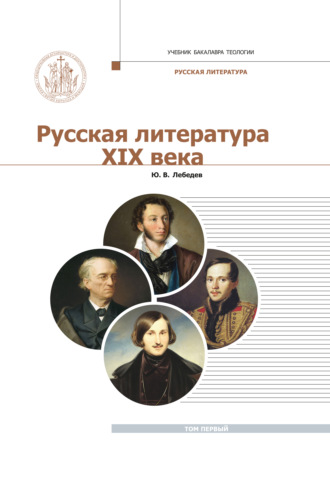
Полная версия
Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 1
Шишков считал русский язык наречием языка церковнославянского и полагал, что богатство его выражения заключается главным образом в использовании славянизмов, языка церковных, богослужебных книг. Шишков нападал на тогдашнее русское общество и литературу за неумеренное пользование варваризмами («эпоха», «гармония», «энтузиазм», «катастрофа»), ему претили вошедшие в употребление неологизмы («переворот» – перевод слова «revolution», «сосредоточенность» – «concentrer»), его ухо резали введённые тогда в употребление искусственные слова: «настоящность», «будущность», «начитанность».
Иногда критика его была меткой и точной. Шишкова возмущала, например, уклончивость и эстетическая жеманность в речи Карамзина и «карамзинистов»: почему вместо выражения «когда путешествие сделалось потребностью души моей» не сказать просто: «когда я полюбил путешествовать»? Почему изысканную и напичканную перифразами речь: «пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонид» – не заменить всем понятным выражением: «деревенским девкам навстречу идут цыганки»? Справедливы были порицания таких модных в те годы выражений, как «подпирать своё мнение» или «природа искала нам добронравствовать», а «народ не потерял первого отпечатка своей цены».
В пику Карамзину Шишков предложил свою реформу русского языка: он считал, что недостающие в нашем обиходе понятия и чувства нужно обозначать новыми словами, образованными из корней русского и старославянского языка. Вместо карамзинского «влияния» он предлагал «наитие», вместо «развития» – «прозябение», вместо «актёр» – «лицедей», вместо «индивидуальность» – «яйность». Предлагались «мокроступы» вместо «калош» и «блуждалище» вместо «лабиринта». Но большинство его нововведений не прижилось в русском языке. Дело в том, что Шишков был искренним патриотом, но плохим филологом: моряк по своей специальности, он занимался изучением языка на любительском уровне. Однако пафос его статей вызвал сочувственное отношение у многих литераторов. И когда Шишков вместе с Г. Р. Державиным основали литературное общество «Беседа любителей российского слова» с уставом и своим журналом, к этому обществу примкнули П. А. Катенин, И. А. Крылов, а позднее В. К. Кюхельбекер и А. С. Грибоедов. Один из активных участников «Беседы…» плодовитый драматург А. А. Шаховской в комедии «Новый Стерн» высмеял Карамзина, а в комедии «Липецкие воды» в лице «балладника» Фиалкина вывел карикатурный образ В. А. Жуковского.
Комедии эти встретили дружный отпор со стороны молодёжи, поддерживавшей литературный авторитет Карамзина. Так, Дашков, Вяземский, Блудов сочинили несколько остроумных памфлетов по адресу Шаховского и других членов «Беседы…». Один из памфлетов Блудова «Видение в Арзамасском трактире» дал кружку юных защитников Карамзина и Жуковского название «Общество безвестных арзамасских литераторов», или, попросту, «Арзамас».
В организационной структуре этого общества царил весёлый дух пародии на серьёзную «Беседу…». В противоположность официальной напыщенности здесь господствовала простота, естественность, открытость, большое место отводилось шутке. У членов «Арзамаса» были свои литературные прозвища: Жуковский – «Светлана», Пушкин – «Сверчок» и т. п.
Участники «Арзамаса» разделяли тревогу Карамзина о состоянии русского языка, нашедшую отражение в его статье 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости»: «Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре?» В своём литературном творчестве «арзамасцы» стремились привить национальному языку и сознанию европейскую культуру мышления, искали средств выражения на родном языке «тонких» идей и чувствований.
Когда в 1822 году Пушкин прочёл в переводе Жуковского «Шильонского узника» Байрона, он сказал: «Должно быть Байроном, чтобы выразить с столь страшной силой первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить». Здесь Пушкин точно определил суть творческого гения Жуковского, стремившегося не к переводу, а к «перевыражению», превращающему «чужое» в «своё». Во времена Карамзина и Жуковского огромная роль отводилась таким переводам-перевыражениям, с помощью которых обогащался русский литературный язык, становились общенациональным достоянием сложные философские мысли, утончённые психологические состояния.
И «карамзинисты», и «шишковисты», при всех их разногласиях, в конечном счёте стремились к одному – к преодолению двуязычия русского культурного сознания начала XIX века. Их спор вскоре разрешила сама история русской литературы, явившая Пушкина, диалектически «снявшего» в своём творчестве возникшие противоречия.
Карамзин-историк
Примечательно, что сам Карамзин в этих спорах участия не принимал, а к Шишкову относился с уважением, не питая на его критику никакой обиды. В 1803 году он приступил к главному делу своей жизни – созданию «Истории государства Российского». Замысел этого капитального труда возник у Карамзина давно. Еще в 1790 году он писал: «Больно, но должно по справедливости признаться, что у нас до сего времени нет хорошей истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант».
Все эти способности, конечно, были у Карамзина, но, чтобы осилить капитальный труд, связанный с изучением огромного количества исторических документов, требовалась ещё и материальная свобода и независимость. Когда Карамзин стал издавать в 1802 году «Вестник Европы», он мечтал о следующем: «Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принуждённою работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и… сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою».
И тогда друг Карамзина, товарищ министра просвещения М. Н. Муравьёв, обратился к Александру I с ходатайством о помощи писателю в осуществлении его замысла. В именном указе от 31 декабря 1803 года Карамзин был утверждён в качестве придворного историографа с ежегодным пенсионом в две тысячи рублей. Так начался двадцатидвухлетний период жизни Карамзина, связанный с капитальным трудом создания «Истории государства Российского».
О том, как нужно писать историю, Карамзин говорил: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастие или умалять в своём изложении бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив; но может, даже должен, всё неприятное, всё позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом он сделается национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк».
«Историю государства Российского» Карамзин начал писать в Москве и в подмосковной усадьбе Остафьево. В 1816 году он переехал в Петербург: начались хлопоты по изданию завершённых восьми томов «Истории…». Карамзин стал человеком, близким ко двору, лично общался с Александром I и членами царской семьи. Летние месяцы Карамзины проводили в Царском Селе, где их навещал юный лицеист Пушкин. В 1818 году восемь томов «Истории…» вышли в свет, в 1821 году был опубликован девятый, посвящённый эпохе царствования Ивана Грозного, в 1824 году – десятый и одиннадцатый тома.
«История…» создавалась на основе изучения огромного фактического материала, среди которого ключевое место занимали летописи. Совмещая талант ученого-историка с талантом художественным, Карамзин искусно передавал сам дух летописных источников путём обильного их цитирования или умелого пересказа. Историку было дорого в летописях не только обилие фактов, но и само отношение летописца к ним. Постижение точки зрения летописца – главная задача Карамзина-художника, позволявшая ему передавать «дух времени», народное мнение о тех или иных событиях. А Карамзин-историк при этом выступал с комментариями. Вот почему его «История…» сопрягала в себе описание возникновения и развития российской государственности с процессом роста и становления русского национального самосознания.
По своим убеждениям Карамзин был монархистом. Огромное влияние оказали на него события Французской революции, определившие, по его мнению, «судьбу людей на протяжении многих веков». Карамзин был хорошо знаком с политическим учением французских просветителей, в «Персидских письмах» и «Духе законов» Монтескьё. Французский мыслитель различал три типа государственного правления: республику, монархию и деспотию. Последний тип он считал «неправильным», требующим уничтожения. Идеальной формой государственного устройства Монтескьё провозглашал республику, жизненными принципами которой являются усвоенные просвещёнными гражданами республиканские добродетели: любовь к отечеству, любовь к равенству, привязанность к законам. В «Персидских письмах» Монтескьё утверждал: «Монархия есть полное насилия состояние, всегда извращающееся в деспотизм… Святилище чести, доброго имени и добродетели, по-видимому, нужно искать в республиках и в странах, где дозволено произносить имя отечества».
Эта идеализация республиканских нравов французскими просветителями сыграла роковую роль в судьбе французской монархии. А якобинская диктатура, пришедшая ей на смену, явилась страшной и горькой пародией на их идеальные республиканские представления. Карамзин, хотя и называл себя «республиканцем в душе», был убеждён, что этот общественный строй является красивой, доброй, но неисполнимой на практике утопией, ибо он требует от помрачённого грехом человека таких доблестей, какие ему не под силу. Принцип современного общества, замечал Карамзин, несказанно далёк от прекраснодушных идей просветителей о свободе, братстве и равенстве: «Сперва деньги – а после добродетель!» Поэтому Карамзин считал, что самодержавная форма правления исторически оправданна и наиболее органична для такой огромной страны, как Россия.
Но в то же время он вслед за Монтескьё замечал и постоянную опасность, подстерегавшую самодержавие в ходе истории, – опасность перерождения его в самовластие. Это происходит всякий раз, когда государь нарушает принцип разделения властей, «симфонические» отношения между властью светской и духовной. Когда светская власть уклоняется от контроля власти духовной, она становится тиранической, самовластной. Такими предстали в последних изданных при жизни Карамзина девятом, десятом и одиннадцатом томах «Истории…» Иоанн Грозный и Борис Годунов. Изображение венчанного злодея Иоанна и преступного царя Бориса потрясло воображение современников и оказало прямое влияние на становление декабристской идеологии.
Карамзин действовал при этом совершенно сознательно. Он говорил, что «настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы узнать о первом, надо вспомнить последнее». Вот почему Пушкин назвал «Историю…» «не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека». Когда в 1821 году вышел в свет девятый том, К. Ф. Рылеев не знал, «чему более удивляться, тиранству Иоанна, или дарованию нашего Тацита». Тома о Борисе Годунове и Смутном времени вышли за четыре месяца до восстания декабристов и вызвали отклик Пушкина: «Это злободневно, как свежая газета».
Опровергая распространенный взгляд на крестьянские мятежи и бунты как на проявление народной дикости и невежества, Карамзин показал, что они порождались уклонениями монархической власти от принципов самодержавия в сторону самовластия и тирании. Через народное возмущение Небесный Суд вершил кару за содеянные тиранами преступления. Именно в народной жизни проявляет себя, по Карамзину, Божественная воля в истории, именно народ чаще всего оказывается мощным орудием Провидения.
Как истинный патриот своего Отечества, Карамзин не раз высказывал Александру I нелицеприятные истины. В 1811 году он сделал это в «Записке о Древней и Новой России». Историк нарисовал в ней безрадостную картину внешнего и внутреннего положения России, показал беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Он резко осудил Александра I за его реформаторские начинания, «коих благотворность остаётся делом сомнительным», ибо правление государя не принесло России обещанного блага, но укрепило страшное зло в лице паразитической бюрократии, чиновников-казнокрадов.
Он высказал правду о самом царе как неопытном во внешней и внутренней политике властителе, занятом не благом России, а желанием пускать пыль в глаза, увлечённом бездумным заимствованием тех или иных учреждений Западной Европы, без учёта русского исторического опыта. Карамзин указал Александру и на ошибки в правлении его предшественника, Петра I. Главная пагуба его царствования – пренебрежение к опыту истории, неуважение к обычаям народа. «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им (русским людям) уставы есть насилие, беззаконное для монарха самодержавного». «Самовластие» Петра I и Александра I как раз и не принимает Карамзин. Результаты самовластия всегда оказываются печальными для Отечества: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Пётр».
Когда Пушкин уже в конце 1830-х годов познакомился с этой «Запиской…» в рукописи, он сказал: «Карамзин написал свои мысли о Древней и Новой России со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого… Когда-нибудь потомство оценит… благородство патриота».
Но «Записка…» вызвала раздражение и неудовольствие тщеславного Александра. В течение пяти лет он холодным отношением к Карамзину подчёркивал свою обиду. В 1816 году произошло сближение, но ненадолго. В 1819 году государь, вернувшись из Варшавы, где он открывал Польский сейм, в одной из искренних бесед с Карамзиным сообщил, что хочет восстановить Польшу в её древних границах. Это странное желание так потрясло Карамзина, что он незамедлительно составил и лично прочёл государю новую «Записку…»:
«Вы думаете восстановить древнее королевство Польское, но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашей любовью к России и к самой справедливости? Можете ли с мирной совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утверждённую собственность России ещё до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целость своих держав? Сии земли были уже Россией, когда митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра, Екатерины, которую Вы назвали Великой…
Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю, остыли бы душой к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола, ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом унизились бы перед другими и перед собой. Не опустел бы, конечно, дворец, Вы и тогда имели бы министров, генералов, но они служили бы не отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наёмники, как истинные рабы…»
В заключение горячего спора с Александром I по поводу его политики в отношении Польши Карамзин сказал: «Ваше Величество, у Вас много самолюбия… Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы Вашему отцу… Я презираю скороспелых либералистов; я люблю лишь ту свободу, которой не отнимет у меня никакой тиран… Я не нуждаюсь более в Ваших милостях».
Карамзин ушёл из жизни 22 мая (3 июня) 1826 года, работая над двенадцатым томом «Истории…», где он должен был рассказать о народном ополчении Минина и Пожарского, освободившем Москву и прекратившем «смуту» в нашем Отечестве. Рукопись этого тома оборвалась на фразе: «Орешек не сдавался…»
Значение «Истории государства Российского» трудно переоценить: её появление в свет было крупным актом русского национального самосознания. По словам Пушкина, Карамзин открыл русским их прошлое, как Колумб открыл Америку. Писатель в своей «Истории…» дал образец национального эпоса, заставив каждую эпоху говорить своим языком. В последних томах Карамзин использовал опыт исторического романа Вальтера Скотта, давая Борису Годунову глубокую нравственно-психологическую характеристику. Труд Карамзина оказал большое влияние на русских писателей. Опираясь на Карамзина, создавал своего «Бориса Годунова» Пушкин, сочинял свои «Думы» Рылеев. «История государства Российского» стимулировала развитие русского исторического романа от М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова до Л. Н. Толстого. «Чистая и высокая слава Карамзина принадлежит России», – сказал Пушкин.
Вопросы и задания
1. Попытайтесь объяснить, почему сентиментализм оказался близким русскому национальному самосознанию.
2. Какие события детства и юности Карамзина способствовали формированию его литературного таланта? Чем объясняется временное сближение Карамзина с масонскими кругами и последующий разрыв с ними?
3. В чём Карамзин следует примеру «Сентиментального путешествия Стерна» и в чём отступает от своего образца? Какие выводы делает путешественник, наблюдая предреволюционные события во Франции?
4. Каким вы представляете автора, рассказавшего печальную историю о бедной Лизе? Какова его роль в повествовании?
5. Подготовьте рассказ о причинах языковой реформы Карамзина и Шишкова и дайте характеристику сильным и слабым сторонам в позициях полемистов.
6. Как художественный талант Карамзина проявился в его историческом труде? Почему убежденный монархист Карамзин вступал в спор с императором Александром I? Как вы поняли, в чём заключается, по Карамзину, различие между самодержавием и самовластием?
7. Подготовьте чтение фрагментов из «Записки о Древней и Новой России» Н. М. Карамзина. Какие мысли историка показались вам наиболее интересными, острыми, современными?
Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века


Конец XVIII века в истории христианской Европы был ознаменован глубоким социальным катаклизмом, взорвавшим до основания весь общественный порядок и поставившим под сомнение веру в человеческий разум и мировую гармонию. Кровавые потрясения Великой французской революции 1789–1793 гг., наступившая вслед за ними эпоха наполеоновских войн, установившийся в результате революции буржуазный строй с его эгоизмом и меркантильностью, с «войною всех против всех» – всё это заставило усомниться в истине просветительских учений XVIII века, обещавших человечеству торжество свободы, равенства и братства на разумных началах.
В опубликованном в 1795 году письме «Мелодор к Филалету» Н. М. Карамзин отмечал: «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нём последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностию, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни.
О Филалет! Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своём основании!»
«Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..» Люди конца века потрясены случившимся. «“Вот плоды вашего просвещения! – говорят они, – вот плоды ваших наук, вашей мудрости! <…> Да погибнет же ваша философия!” – И бедный, лишённый отечества, и бедный, лишённый крова, и бедный, лишённый отца, или сына, или друга, повторяют: “Да погибнет!” И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: “Да погибнет!”»
В ответном письме «Филалет к Мелодору» Филалет соглашается с другом: «…Мы излишне величали восемнадцатый век и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен ещё разум наших современников!» Но, в отличие от Мелодора, Филалет не впадает в уныние. Он считает, что эти заблуждения заключены не в природе разума, а в человеческой гордыне. «Горе той философии, которая всё решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния…»
В чём же видит спасение герой Карамзина, в чём источник его оптимизма? «…Подобно мореплавателю, который в гибельный час кораблекрушения – в час, когда все стихии угрожают ему смертию, – не теряет надежды, сражается с волнами и хватает рукою за плывущую доску», Филалет обращается к вере: «Пусть докажут мне наперёд, что Бог не существует, что Провидение есть одно слово без значения, что мы – дети случая, сцепление атомов и более ничего! Но где же тот безумный изверг, который захотел бы уверить меня в сих страшных нелепостях? Я взгляну на сапфирное небо, на цветущую землю, положу руку на сердце и скажу атеисту: “Ты безумец!” <…> Бог вложил чувство в наше сердце, Бог вселил в мою и в твою душу ненависть к злобе, любовь к добродетели – сей Бог, конечно, обратит всё к цели общего блага».
В словах Филалета – русский ответ на то смятение умов, на тот мировоззренческий кризис, который переживал европейский мир на рубеже XVIII–XIX веков. Этот кризис породил в литературе новое художественное явление, получившее название романтизм. Романтизм стал кульминацией, вершиной антипросветительского движения, зарождавшегося уже в XVIII веке в качестве сентиментализма (или предромантизма), но прокатившегося мощной волной по всем европейским странам в первой половине века девятнадцатого. Его причиной явилась глубочайшая неудовлетворённость результатами Великой французской революции. «Установленные “победой разума” общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей», – отмечал Ф. Энгельс.
Крах веры в разум привёл европейское человечество к «космическому пессимизму», безнадежности и отчаянию, сомнению в ценности современной цивилизации. Отталкиваясь от несовершенного земного миропорядка, романтики обратились к идеалам вечным и безусловным. Возник глубокий разлад между этими идеалами и действительностью, который привел к романтическому двоемирию. Романтики потянулись к далёкому от цивилизации природному миру, экзотическим странам, отечественной истории и фольклору, европейскому средневековью – ко всему, что не напоминало современную жизнь.
В противовес отвлечённому разуму просветителей XVIII века, предпочитавшему извлекать из всего «общее», «типическое», романтики провозгласили идею суверенности и самоценности каждой отдельной личности с богатством её духовных запросов, глубиною её внутреннего мира. Главное внимание они сосредоточили не на обстоятельствах, окружавших человека, а на его переживаниях и чувствах. Романтики открыли своим читателям неведомую до них сложность и богатство человеческой души, её противоречивость и неисчерпаемость. Они питали пристрастие к изображению сильных и ярких чувств, пламенных страстей или, напротив, тайных движений человеческой души с её интуицией и подсознательными глубинами.
В России романтические веяния тоже возникли под влиянием событий французской революции, но окрепли в результате подъёма национального самосознания в ходе Отечественной войны 1812 года. Наступившая после победоносной войны реакция, отказ правительства Александра I от либеральных обещаний начала его царствования привели общество к глубокому разочарованию, которое ещё более обострилось после краха декабристского движения. Таковы исторические предпосылки русского романтизма, которому были свойственны общие черты, сближавшие его с романтизмом западноевропейским. Русским романтикам тоже присуще обострённое чувство личности, устремлённость к «внутреннему миру души человека, сокровенной жизни его сердца» (В. Г. Белинский), повышенная субъективность и эмоциональность авторского стиля, интерес к отечественной истории и национальному характеру.
Вместе с тем русский романтизм имел свои национальные особенности. Прежде всего, в отличие от романтизма западноевропейского, он сохранил исторический оптимизм, веру в прогресс и надежду на возможность преодоления противоречий между идеалом и действительностью. В романтизме Байрона, например, русских поэтов привлекал пафос свободолюбия, бунт против несовершенного миропорядка, но им оставались чужды байронический скептицизм, «космический пессимизм», настроения «мировой скорби». Русские романтики не приняли также культ самодовольной, гордой и эгоистически настроенной человеческой личности, противопоставив ему идеальный образ гражданина-патриота или гуманного человека, наделённого чувством христианской любви и сострадания. Романтический индивидуализм западноевропейского героя не нашёл на русской почве поддержки, но встретил суровое осуждение.
Эти особенности нашего романтизма были связаны с тем, что русская действительность начала XIX века таила в себе скрытые возможности к радикальному обновлению: на очереди стоял крестьянский вопрос, созревали предпосылки к большим переменам, которые совершились в 60-е годы XIX века. Существенную роль в национальном самоопределении русского романтизма сыграла и тысячелетняя православно-христианская культура с её неприятием индивидуализма, с осуждением эгоизма и тщеславия. Поэтому в русском романтизме, в отличие от романтизма западноевропейского, не произошло решительного разрыва с духом просвещения и классицизма.