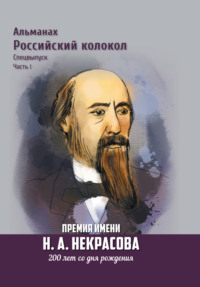Полная версия
Крещатик № 92 (2021)
Отец Гарц слушал его с интересом, изредка с удивлением кивая прозорливости дорогого гостя.
– Не во всем с вами согласен, дорогой Толя, но ваши мысли важны и значительны, – сказал Джеф Грац и откусил от бутерброда с килькой, прикрыв от удовольствия глаза.
– У меня в Москве есть приятель, стихийный русский гений, его тоже звать Толей, кажется, из купцов, учился на маляра, а вот какой получился художник, – он достал из портфеля лист, заложенный между картонками, и показал свой портрет, написанный несколькими решительными мазками туши. «Да, замечательно», – признал отец Гарц, который хорошо понимал и отличал великую живопись от не великой. «Он ташист, да? Русский ташист, Толя».
Гость Джефа Гарца смотрел на хозяина и его сына с непонятной надеждой на чужой восторг, который был если не топливом его жизни, но явно большой вспомогательной добавкой к существованию. Из тех, что на автозаправках предлагают и заливают в баки машин ушлые рабочие в фирменных комбинезонах с доверительными словами: «Это поможет в мощности, очистит двигатель от накипи и даст такой толчок в движении, что только держись. Берите, потому что потом не будет, разберут все, стоит сущие копейки всего». И все берут-хватают эти добавки в жестянках, похожие на пиво очень, и просят еще одну впрок, а иногда и две.
«Не знаю, ташист не ташист, но гений, точно. Палец макал в тушь и написал меня, поверите, минут 6–7 заняло, – сказал с восторгом Толик, колеблющаяся густая тень его беспокойно лежала возле него на полу, потом вдруг исчезла в никуда. – Работы Толи в Нью-Йорке, в Третьяковке, в Германии, в Афинах хранятся, да мало ли где. Ну, потом они будут там, через несколько лет, а сейчас, как он, мой дорогой безумец, живет, я не знаю. Живу слухами. Все ждет и надеется, что из Иерусалима приедет его друг Мишка Гр-ан и заберет к себе. Не приедет, не заберет».
Можно было на мгновение подумать, что сам Толик не в той же графе, что его великий друг, не в том же, так сказать, отделении. Но все они, все эти замечательные, невероятные уроженцы безумной великой страны жили в одной палате, уживались, переживали, отражали, как умели, действительность, и запоминали все, что происходило вокруг них. Соучастники? Ну, неизвестно. Наблюдатели? Бесспорно.
– Вот я вам прочту, без спроса, Толя, ты тоже должен почувствовать, понять не сможешь, люблю его, рыжего, хоть он из Питера, а теперь уже вообще из-за океана. Очень могучий, значительный. Выгружу вам, так сказать, посторонним землякам, личные сокровища.
И он немедленно начал читать, как бы безжалостно вбивая слова и ритм чужих стихов в холодеющий от необъяснимого восторга мозг слушателей:
Потому что искусство поэзии требует слов,я – один из глухих, облысевших, угрюмых пословвторосортной державы, связавшейся с этой, —не желая насиловать собственный мозг,сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоскза вечерней газетой.Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накалв этих грустных краях, чей эпиграф – победа зеркал,при содействии луж порождает эффект изобилья.Толик завершил декламацию словами «и так далее», как будто потерял внезапно силы. Поддернул рукава своего пиджачка и налил всем по еще одной. Он опять отстегнул ремни портфеля, извлек из него велюровую зеленую шляпу, сплющенную до состояния пышного блина, расправил ее на коленке, надел на голову, как новую, надвинул на лоб и согнул поля на глаза. Застегнул портфель и приставил его к ноге. Глаза его блестели, как они блестят у людей, выходящих из рюмочной в середине дня и жмурящихся на яркое солнце, где-нибудь рядом с кинотеатром документального фильма. Он стал абсолютно похож на американского киногероя, скажем, того, который играл в «Римских каникулах» с Одри Хепберн. Как его звали, не помните? Конечно, помним. Грегори Пек, великолепный.
– Ну, раз уж на то пошло, то прочту вам еще одного Толика, я называю его Абэдэ, он большой врач, красавец, соблазнитель, спас меня в Москве, настоящий поэт, простите меня за такую ужасную прелюдию. Это стихотворение он напишет через 35 лет после этого дня, уже здесь, но я, как человек, который знает все наперед, непременно зачту вам его.
Еще колокола не зазвонили в Лукке.Никто и никого не дернул за язык.Строения глядят гравюрами из книг.На одного меня накатывают звукирифмованных стихов. Спросонья не секустаринный механизм оконного засова.А всё плачу оброк родному языку.Приманиваю слово.Пойми же, говорю, придуман этот ладв чужой тебе среде – дворяне, разночинцы.Ты выбыл из Руси, пора и разлучиться.Тем временем, рассвет, колокола звонят.Латинское литье, неторопливый бой.На россыпи монет чеканят профиль Данте.Мне внятен их язык, я радуюсь, но дайтеперевести на свой.(Анатолий Добрович, 2009 год)– Ты выбыл из Руси, пора и разлучиться, попал ваш Толик в суть, – сказал отец Гарц. Он уже был сильно пьян, но держался, как гвардеец (какой, интересно, гвардии?), все понимал. Стихи его вернули в сознание, можно сказать и так. – А что у вас, Анатолий, все Толики друзьях, что такое? Или иных имен уже не осталось в вечной империи?
– И Нафталий ваш, тоже ведь из Толика вышел, – восхитился своей находке Толик. Он поддернул рукава пиджака, сдвинул шляпу на затылок, водка кончилась, жизнь прошла мимо, все впереди. «Империя эта не вечна, дорогой Джеф Моисеевич, какие тысячи лет, о чем вы говорите? Еще придут там всякие начальники, которые все изменят, верьте мне, может, вы и застанете это, кто знает», – он посмотрел на Нафталия. Тревожный вопрос жил в его взгляде.
– Скорее, наоборот, сначала Нафталий, а потом уже Толик, нет? Что мы будем разбираться во всем этом, незачем, – примирительно сказал Джеф Моисеевич. Он отклонялся к спинке дивана и выпрямлялся обратно, как тяжелый маятник.
– А и правда, дорогой. Не будем. Друг того рыжего, который сейчас живет в Нью-Йорке, или где там еще, не знаю… Так вот, друг его написал вот так: «Под северным небом яснее всего, что нету совсем ничего. Ничего». Учитель этого рыжего, кстати. Безумец. Ну, пора и честь знать, я пойду. Спасибо за хлеб-соль и за компанию. Можно тебя, Нафталик, на минуту, – Толик легко поднялся, энергии его можно было позавидовать, проверил на себе пуговицы легким движением разминающего пальцы аккордеониста. Время уже было 13 часов 28 минут, по часам на стене, которые шли секунда в секунду, швейцарское качество. – Джеф Моисеевич, я вам очень благодарен, все демократическое движение СССР перед вами в долгу.
Старый Гарц, крепкий воспитанный мужчина с надежной подготовительной школой, уже был совсем хорош, сидел прямо с закрытыми глазами, опираясь кулаками о диван рядом с собой, все-таки его лучшие годы остались в прошлом. Нафталий тоже держался с большим трудом, хотя все понимал. Но реакции на слова у него уже были не те, что прежде. – Сколько же мы выпили сегодня? – рассеянно думал он, начав считать. В принципе, привычное занятие. – Так. Две бутылки от друга Толика, бутылка виски отца, початая бутылка спирта из аптечки в спальне и две бутылки сухого вина «Беньямина». Немало, – мысль у Нафталия была ясна, хотя и неточна. Он запутался в бутылках и их количестве, что было немудрено.
– Проводи меня, Толян, до автобуса, – попросил Толик. На улице уже за низкой калиткой из витого железа посередине тротуара, он резко повернулся Нафталию навстречу, лицом к лицу, и сказал: «А я ведь съездил к этому Брустверу, Елизавета меня достала. «Мужчина ты или нет, или все кончилось, осталось в Москве, так себя мужчины не ведут. Пугани его, нос отверни и уйди, неужели слабо?» Неукротимая старуха».
Нафталий понял, что речь идет о том самом следователе, который мучил Елизавету Залмановну почти 40 лет назад. Он вопросительно посмотрел на Толика, который громко говорил, как будто вещал на митинге. В нем много было от общественного деятеля, лидера толпы. Но, предположим, что призывать вешать коммунистов или жечь книги, скажем, он не мог. Он был совсем не тот человек. И потом, он дважды сказал Нафталию, правда, не совсем трезвый, но доверительно, что «ты запомни, юноша, я все знаю наперед, все что будет, запомни это», и сверкнул глазами. Не как бес. Нафталий понял, что он говорит правду.
– Ну, посмотрел я на него. Довольно противный старик, жесткий взгляд хищника, не жирный, еще крепкий, но бить его было невозможно, ну, не мог я, понимаешь, злости нет, посторонний, хотя и не дряхлый дядька, ну, не могу и все… Лизка, – так Толик называл тещу, – вообще перестала на меня смотреть, не здоровается, отворачивается… Можешь мне помочь… ну просто поехать и руку сломать злодею, а?! Ради моего семейного благополучия. Она меня отравит, клянусь. А?!
Их обошла по широкому кругу, сойдя на мостовую, недовольная дама, по виду фрау из Франкфурта, которая прикрывала голову раскрытым очень красивым зонтиком с нарисованными на нем маками. Можно было рассмотреть ее возмущенный подбородок на высокой шее, расслышать ее недовольное горловое шуршание, но слова разобрать было невозможно. Нафтали услышал только обрывок фразы «verdammte russische alkoholiker». – Это значит по-русски: «проклятые русские алкоголики», – объяснил Толик с серьезным видом. И добавил, как бы между прочим вздохнув: – А она ничего себе, наша ругательница, вообще. Ножки без чулок, низкий грудной голос, подвижна, темпераментна, и все такое прочее… М-да, х-м.
Я в школе учил немецкий, учился хорошо, поверишь?!
Конечно, Нафталий поверил. Как можно не поверить? Но все-таки он собрался с силами и сказал другу, что ехать в Мевасерет Цион и бить старика, ломать ему нос и так далее, он сейчас не будет. «Ну, давай отложим, ну, куда мне воевать с этими засранцами, сам упадет и разобьет себе нос… Ну, я же не судья, пойми меня, Толик, ну, куда мне? Я законопослушный гражданин», – из последних сил сказал Нафталий. О том, что он сделал вчера с другим законопослушным гражданином, он не помнил сейчас. Хоть его не тошнило наружу, на чистейший тротуар улицы Бен Маймон, и то слава Богу. «Она меня отравит, эта чумовая баба, точно отравит, я видел у нее два пакета крысиного яда, такие кристаллики, из Союза привезла, как их пропустила таможня, они все дебилы в темно-синей форме на пуговицах, они только «Хроникой» занимаются, служивые наши, ну, ладно, пока, сам загнется, сидор гнойный, забудь мои просьбы», – сказал Толик и поспешил за той женщиной с зонтом в алых маках. «Может быть, хотя бы она ему уступит», – подумал Нафталий.
Уже зайдя в калитку, он посмотрел и увидел, что Толик упругой молодой походкой идет рядом с той дамой, в одной руке портфель, в другой зонтик с маками над ними. Он что-то ей горячо втолковывает, Толик был лют с женщинами и любим ими. Это было очевидно. «Проклятые русские алкоголики» были явно забыты, судя по тому, как дама нежно склоняла голову, чтобы слушать речи без точек, запятых и пауз преподавателя Еврейского Университета Иерусалима, чемпиона Москвы по боксу в среднем весе по юношам, правозащитника и истово любящего поэзию импозантного мужчину в пиджаке с несколько короткими рукавами.
Отец, простой умный человек, сладко спал в той же позе, сидя на диване, не облокачиваясь о спинку. Он ежедневно брился по утрам, сейчас на лице его явственно выступила черная щетина, вот что делает с людьми водка проклятая, тьфу, как говорила соседка Толика Яна по лестничной площадке в Москве. Но Толик здесь был не при чем, ну, не напрямую. Здесь была при чем жена Бетти, но она все еще была на смене в больнице и должна была прийти домой только к вечеру. «Батька твой всех переживет, ты не переживай о нем, он – кремень», – сказал про отца Толик Нафтали, который порадовался, что сестренка, его насмешливая Лори, не встретилась с этим Толиком с портфелем. Потому что кто знает, что может получиться из наших встреч. «Хорошо, что они не встретились», – еще раз решил Нафтали. И правда, наверное, хорошо. Бог сберег.
Он прибрал, вымыл посуду в кухне, выпил кипятка с лимоном и лег навзничь у себя. Спать. Машину он отложил на трезвую голову, на потом. Ну, куда. Скажите? Какая машина может быть куплена сейчас? Хотя есть умные люди, утверждающие, что лучшие покупки совершаются только в таком состоянии. У этого мнения есть оппоненты, но они не слишком многочисленны по понятным причинам. В общем, Нафтали заснул, повернувшись к стене и накрывшись пикейным одеялом, на улице было 32 градуса тепла, но в их доме было прохладно. Сатана не присутствовал в снах отца и сына Джефа и Нафтали Гарца ни в каком виде.
Нафтали все-таки купил себе ту самую машину, о которой мечтал. Оформил страховку. Он заплатил наличными и поехал в Иерусалим с так называемым ветерком. Мама Бетти все время теперь повторяла ему, чтобы он не гонял как безумный на своей «таратайке», как она называла его любимое альфа-ромео, «не испытывай судьбу, мой мальчик». Она вытряхнула из барабана его револьвера, спрятанного в книге, все патроны, чтобы ее мальчик не наделал глупостей. Ее мальчик, рисковавший жизнью на постоянной основе, тихо говорил ей: «Ну, какие гонки, мама, я езжу по краю дороги, съезжаю на обочину, чтобы не мешать другим обгонять меня». – «Ну, смотри, сынок, смотри». Патроны она спрятала в банке с фасолью на верхней полке.
Через пять лет, насыщенных событиями, о которых здесь не место говорить, Нафтали погиб на Первом шоссе. Он, подполковник, ехал с обожаемой подругой на велосипеде (очень увлекся велопрогулками по наводке будущей жены), они были оба очень счастливы друг с другом, находясь в двухнедельном отпуске перед демобилизацией, по краю шоссе. Сзади наехал грузовик и скинул их обоих в канаву, не оставив им обоим шанса на жизнь. Всю службу Нафтали прошел без царапины на теле. Про душу ничего неизвестно.
Аварию признали трагической, неизбежной и ненужной. Кто так решил? Тот полицейский, который расследовал обстоятельства происшедшего, полицейские знают все.
Добавим ко всему, приученные к таким цитатам незабвенным Толиком:
Не изменяйся, будь самим собой.Ты можешь быть собой, пока живешь.Когда же смерть разрушит образ твой,Пусть будет кто-то на тебя похож.Похороны были огромными, насквозь светило солнце. Вся его часть из прошлого и настоящего состава пришла, весь подъем к Гиват Шауль (там захотели похоронить сына родители) был заставлен «суситами» и «ситроенами» с черными номерами и буквой צ, что значит ЦАХАЛ, кто не знает. Но вы, конечно, знаете. Пришли все знакомые, друзья, Лори с мужем, похожим на памятник Магеллану, пришла Мири из банка, пришли Хези, Йойо, Муса. Пришел тот математик и писатель, когда-то отдавший Толику на благое дело «Столичную» и бесценные банки балтийской кильки. Джеф Моисеевич держал за руку свою Бетти, не все понимая из того, что говорят и что вообще происходит.
У могилы, держась за сердце, Бетти неожиданно все переносила стойко, держалась хорошо, женщины, и вообще, очень крепкие люди, Джеф Моисеевич прошептал, что не может понять поступки Всевышнего. «Почему? Зачем? За что? Готеню, скажи?! Я не понимаю тебя».
Сын непонятно и внятно прошептал ему на ухо из своего неизвестного и непонятного настоящего: «Ты, папа, не говори никому, что я умер, хорошо?».
Рядом с Джефом Гарцем оказался Толик, никто его не отравил, не родился такой человек еще. Он был совершенно трезв, черного цвета, очень переживал, губы его тряслись. Он прошептал на ухо старшему Гарцу: «Ребе из Коцка сказал так: «Всевышний, которого может понять всякий комок слизи, не стоит служения»». И исчез. Джеф Моисеевич Гарц оглянулся: Толика нигде не было.
2020
Андрей Баранов
/ Яромаска /

Вне течений
«Без сожалений-угрызений…»
Без сожалений-угрызенийя понял про себя давно,что я из тех, кто вне течений,из созерцающих в окно.Бурлит река песком и мутью,весною поднятой со дна —а я опять встречаю утропо эту сторону окна.Скворцы залетные: долой, мол,мороз и зиму, и застой!..А с горки шквал на них ОМОНом,чтоб клюв не разевали свой!Вороны каркают на рее:Всё просто каррр!.. В моей тишиесть кофе, греет батарея…грезь, лицедействуй и пиши!Но слабым ветром в щель сомненьясквозит предчувствие одно:не вне и над, а – по теченью,как это, как там?..Да, оно.«Я ничего о них не знаю…»
Я ничего о них не знаю —их назначенье и мотив.Они как нитка шерстяная —то мостик в небо, то обрыв…И возвратишься в мир домашний,такой уютный и родной —но крутишь, бормоча, вчерашнийобрывок в две строки длиной…«То пыль столбом, то вдрызг проселок…»
То пыль столбом, то вдрызг проселок,а по ночам в туман и тьму…Обычный заводской поселок —у моря только и в Крыму.Завод торпедный (или что там?..),но как Союз распался – кряк! —ни бабок нету, ни работы…Пришла Россия – да, ништяк,но только летом.Солнце – даром,рапан с лучком под шум волны.А в зиму снова с «Солнцедаром»…Да, хорошо, что нет войны.«Отсвет моря дальний, нежный…»
Отсвет моря дальний, нежный,краешек один,незадернутых промеждутюлевых гардин.Или в вое злом шакальемразличает слухне сдающееся, в скалыбьющееся: «У-хх!»А вот днем не вспомнишь даже!Вайбер, интернет,всё покупки да продажи…Будто моря нет.А оно пускает зайчиквскачь да по лицу,как в углу забытый мальчикшлет привет отцу.«Жить в маленькой, пустой стране…»
Жить в маленькой, пустой стране,где все уехали,и спальники – стена к стене —черны прорехамипо вечерам.По вечерамеще пустыннее…Прими пустырника сто грамм,прими пустырника.Здесь очень медленный вайфай,такой же медленный,как этот ё. ный трамвайпо бывшей Ленина.Здесь вам не там, парам-парам!Поля простынные…Прими пустырника сто грамм,прими пустырника…Здесь всё не так и все не так.Здесь всё по графикуи чисто: ни дерьма собак,ни букв, ни граффити.А чтобы здесь, как было там,нет мочи – хочется!!!Прими пустырника сто грамм.Пустырник кончился…«Был в санатории январь…»
Был в санатории январькак будто и не с нами…Сквозь ели солнечный янтарьслепил глаза снегами,и воробьев драчливый хорсюда прямком из детства!Еще любил я темный холл,весь в классиках советских,но больше все-таки, впотьмахедва надев футболку —в спортзал на цыпочках в носкахпрокрасться в самоволку!Там месяц пролился на полв проделанную дырку,и с пола кони и козеллакали врастопырку.Турник и шведская стена,веревка прямо в небо…И тишина – все три окна!А снега, снега, снега!..Мне б трицепс прокачать и жирпорастрясти наспинный!..А я – замлевший пассажирна полустанке зимнем.Как будто голос изнутри:«Проснись!» На лавке сел он…Там звезды или фонари? —и всё синё и серо…Состав стоит незнамо где,как время. Но не сонно —а ясно так! И в животепочти что невесомо.И он не под, и он не над —он там! Ну, здесь он, то есть.Ему вон подали канат,остановили поезд!А он сидит и смотрит вдаль —ни шага, ни полслова,как будто вдруг зацвел миндаль —и он им зачарован.А это розовый пожарза ельником маячити этот странный бред и дарпо нычкам спешно прячет.Часы – тик-так!.. Состав – толчок! —и дальше без заминок.А вместо неба – потолокс железным карабином.А я к жене, неся печальо том, кем я не стался…И трицепс я не прокачал,и жир при мне остался!«И первые листья уже полетели…»
И первые листья уже полетели,и день за окошком смурной,и в сладкой дремоте нагретой постелимир кажется шуткой дурной.Застрелен будильником, полон отвагой,спешишь к электричке своейи дышишь в газету, набухшую влагой,и ждешь от нее новостей…Но главная новость тобою забыта:что первые листья летят,и плачет, и плачет твоя Маргаритакоторую осень подряд…«Я утром просыпаюсь вижу горы…»
Я утром просыпаюсь вижу горыи днем гуляя с сыном вижу горыи в сумерках вечерних вижу горыони вполнеба столб качели дворрасщелины уступы заовражьялиловой размываются гуашьютак сын бесстрашно кисточкою мажетвот мама дом бибика вот егорЯ встану в полночь гляну гор не виднопопью очки нащупаю не видноопять сниму а все равно не виднохоть вижу ясно их тропа к тропескала к скале они я знаю здесь гдечерней всего ни одного созвездьяно станет что-то мне не по себене оттого что я по этим тропамни разу в небо так и не дотопалвсе изучил а так и не дотопалписал да тер неистово челочерно окрест но пустошь или пашнягорит на мысе сотовая башняя был бесстрашный а теперь мне страшногде дом бибика нету ничегоАлександр Рыбин
/ Владивосток /

Рембо в Эфиопии
Мы договорились встретиться в Хараре. Потому что там жил Артюр Рембо, переставший быть французским поэтом и занявшийся промыслом торговца оружием. «Хочу, чтобы мы вместе сходили в дом, где он жил, погуляли по улицам, по которым гулял он. Мы будем друг другу читать стихи Рембо: ты – на русском, я – на французском», – сказала Лара, когда мы ждали такси, которое отвезет ее на железнодорожный вокзал. Лара решила ехать из Аддис-Абебы в Харар по железной дороге, построенной 100 лет назад французами. До станции Дыре-Дауа, оттуда на маршрутке в Харар. Она уже забронировала комнату в хостеле. «Мы будем жить в одной комнате в Хараре или в отдельных?» – спросила она. Мы занимались сексом, но она не была уверена, должны ли окружающие знать о наших отношениях. «Даже если у нас будут разные комнаты, мы все равно будем спать в одной постели», – сказал я. «Действительно, какая разница, что думают о нас окружающие», – сказала Лара.
Она сидела в сгустившихся сумерках на пластмассовом стуле. Курила. Темный силуэт нога на ногу с двигающимся оранжевым огоньком. С силуэтом разговаривал Энди – эфиоп, воспитывавшийся в семье приемных родителей в США и вернувшийся в Эфиопию, чтобы открыть свою скромную гостиницу для путешественников. Энди представил мне силуэт: «Лара, из Франции». Я сказал, что прямо сейчас иду на концерт джаз-банды из Гвинеи-Бисау и предложил пойти вместе со мной. «Ладно. Я готова», – и Лара потушила сигарету о землю. Когда она наклонилась, чернющие длинные волосы, словно завеса, закрыли ее лицо.
Не помню точно: я переспал с ней прежде, чем показал ей книгу с письмами оружейного барона Рембо из Эфиопии, или все же сначала показал книгу, а потом мы оказались в одной постели голые. Но совершенно точно: Рембо стоял возле кровати, на которой мы совершали соитие в первый раз. Он молчал, уставший поэт и дерзкий перевозчик бывших в употреблении европейских ружей. Он внимательно слушал, как из Лары исходило: «Oui-oui». Он наверняка заметил белые полоски-растяжки на ее грудях – последствия от раздувавшего некогда груди материнского молока. Мой православный серебряный крестик, который я всегда ношу на шее (не снимал его даже во время поездок в Афганистан, Ирак и Саудовскую Аравию) с 15 лет, впутался в чернющие волосы Лары. Мы, смеясь, выпутывали его (она помогала моим пальцам губами) – к этому моменту Рембо уже покинул комнату. Мы решили, что должны вместе съездить в Харар – возможно, там встретим этого французика снова. Двое разведенных родителей, остывая, лежали во тьме эфиопской ночи. Два представителя далеких от этих мест народов. Я – сибирско-европейский русский, Лара – родившаяся во Франции представительница алжирского племени кабилов.
У нее необычная красота. Сложившиеся причудливым образом в гармонию черты далеких от Африки этнических типов. Красота кабилов похожа на красоту сибирских татар – народа, появившегося на стыке двух рас: европеоидной и монголоидной. У них нетипично светлая кожа для африканского народа, хотя кабилы древний, именно африканский народ. Их корни теряются во тьме веков Северной Африки. Народ гордый и упорный. Они, несмотря на завоевание арабами, а потом французами, сохранили свою особую письменность, которую, как утверждают, получили напрямую от финикийцев – праотцов всех алфавитов в мире. «Тифинаг – название кабильской письменности. И главные ее хранители во все времена были женщины. Матриархальная письменность», – рассказывала Лара, скрестив на колене, нога закинута на ногу, тонкие длинные пальцы. Тонкие длинные пальцы мне нравились всегда. Запястье правой руки французской кабилки украшал серебряный браслет с несколькими буквами на тифинаг. «Защита от злых духов».
Самый известный из современных французских кабилов – футболист Зинедин Зидан.
«Когда я был подростком, то занимался боксом и играл в футбольной команде. У нас жили бедно. Поэтому я сам купил белую футболку и нашил на нее номер 10. Потому что Зидан играл под 10 номером. Я его считал лучшим футболистом в мире». Лара была в восторге от моей истории.
Черная ночь Аддис-Абебы. Мы в гостинице Энди. Окно открыто, занавеска сдернута в сторону. Россыпи звезд видны из этого чрезвычайно скудного на уличное освещение города. На столе горела свеча. Короткое пламя подергивалось от сквозняков. «И откуда же ты взял эту книгу Рембо?» После развода я улетал в Эфиопию, не зная, на сколько тут застряну. Может, на месяц, а может – на год? Планов не было, было направление. Перед отлетом я обошел несколько книжных в Москве. Набрал с десяток книг, связанных с Эфиопией. Например: записки португальского миссионера XVI века, пытавшегося сманить эфиопского правителя, негуса, в католичество. И свежий русский перевод сборника писем Рембо из Эфиопии, которые в конце 1880-х печатала газета «Египетский Босфор». Половина сборника – репринт французского оригинального издания, вторая половина – русский перевод. «По-моему, эта книжка выпущена специально для наших с тобой отношений в Аддисе». Мы читали эту книгу вслух по очереди – по странице. Она – на французском, я – по-русски. Она не знала русского, я – французского. Мы понимали друг друга каждый на своем родном языке. «Ты знаешь, что папаша Артюра служил в Алжире? Представляю, как он и его солдаты гонялись за моими предками по сухим жарким горам на севере Алжира. Артюру очень повезло, что мои предки не грохнули его папашу. Думаю, папашины подвиги не давали ему покоя, поэтому он бросил промысел поэта и занялся опасной торговлей оружием в Африке».