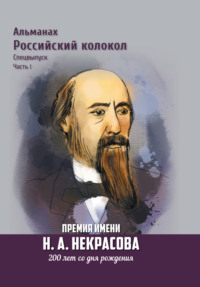Полная версия
Крещатик № 92 (2021)

Крещатик
С юбилеем

3 апреля 2021 года исполнилось 50 лет поэту, критику, литературному организатору Андрею Юрьевичу Коровину.
Андрей Коровин активно печатается с 1989 года. Окончил Тульский факультет Юридического института, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Его произведения публиковались в огромном количестве журналов и альманахов, которое невозможно даже перечислить. Он автор 13 книг стихов, в том числе книг «Поющее дерево», «Пролитое солнце», «Любить дракона», «Кымбер бымбер», «Голодное ухо», «Калимэра», лауреат литературных премий.
Юбиляр также является создателем Международного научно-творческого симпозуима «Волошинский сентябрь», в рамках которого проводятся Международная Волошинская Премия, Международный литературный Волошинский конкурс и Международный литературный фестиваль им. М. А. Волошина, а также создателем и многолетним ведущим московского литературного салона «Булгаковский Дом».
«Крещатик» неоднократно проводил презентации новых номеров журнала на мероприятиях Андрея как в Коктебеле, так и в Москве.
Нас связывают годы искренней плодотворной дружбы.
Андрей Коровин много лет является членом редколлегии международного литературного журнала «Крещатик», а с этого года занял должность креативного директора.
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Многая лета, дорогой Андрей!
Редакционная коллегия журнала «Крещатик»
Евгений Кольчужкин
/ Москва /

«Февраль. Достать чернил. Не плакать…»
Памяти Е.В. Витковского
Февраль. Достать чернил. Не плакать.Смотреть в окно, как в суть вещей,Где снега вянущая мякоть —То наст, то наледь, то ручей.На слух оттачивать работуБездонного карандаша;Не выбрав слов земную квоту,Шагнуть в прицел, под вечный шах,В цейтнот, и до победы делаИграть, пока не призовутНеобитаемого телаОставить временный приют.А если в спешке, в суматохеТы карандаш не очинил, —Быть росчерком, пером эпохи.Стать почерком. Достать чернил.«Вышел на промысел год високосный…»
Вышел на промысел год високосный;Схватишься с ним, Дон Кихот?Мельница мелет – грузный колесныйСевший на мель пароход.Ей бы к фарватеру самую малостьВыгрести на быстрину.Не получилось: пришвартовалась.Вечно-живую войнуБудут точить ее ветхие десны,Чтобы в труху, на векаПережевалась жёрновом коснымКостной пехоты мука,Ржевские топи, гражданские свары,Неизживаемый страх.Помнишь, как стыли твои «самовары»[1]На соловецких ветрах,Курва-страна? Не впервой; одолеем,Переболеем рядыВохровских вышек. Руин юбилеемВстанем из мертвой воды.Гордо возвысим над прорвою адскойГорлом прихлынувший стихЗа перемолотых участью братскойЧестных гвардейцев твоих.«В меру беды и лиха…»
В меру беды и лиха,Пряжи добра и злаЛахесис-паучихаСмертному отвела.Жребий избрав, охотноК мойре добытчик шел —Кануть бесповоротноВ жизни желанный дол.Что же потом, с изнанкиТкань рассмотрев на свет,Жаловаться Ананке,Что избавленья нет?Схватку души и тела,Проигрыш, плен и тленВеретено напелоМежду ее колен.«Укрылось веденье живое…»
Укрылось веденье живоеВ подвижных кладезях ума.Язычество языковоеПитает мысли закрома.Оно ясней и чудотворнейТугих рассудочных тенёт:Не спотыкается о корни,Листвой во флексии поёт.Оно полно богов, как прежде;Преображаясь, как Протей,Мерцает каждый звук в надеждеЗазвать неведомых гостей.И, солнцем вспыхивая в кроне,Когда сгущается строка,Выносит слово на ладониДомашний гений языка.«Дистихами Проперция…»
Дистихами Проперция,Бедной монеткой в кружкеПадает малой терциейСкучный мотив кукушки.Верят, увы, немногиеВ нищие эти ноты;В лоно нумерологииКанут ее расчеты.Сгинут ее пророчества —Численный шепот крови.Не пропадет, – упрочитсяЧто угнездилось в слове.Влажной Катулла жалобыО воробье подружкиСпутницей песня стала быПлакальщицы-кукушки.«Вспомнишь Тавриду ограбленным сердцем…»
Вспомнишь Тавриду ограбленным сердцем, —Вспыхнет недремлющий уголь.Вольное море отхлестано Ксерксом,В бухте поставлено в угол.Волны обиженно губы надули,Множит досаду забота:В списках Клио, в негодующем гуле,Смыть анекдот Геродота.А по прибрежью предметного мираБез маяты и укораБродит сырая душа ВелимираС братской душой Пифагора.Радуясь, переливаясь друг в друга,Знания перемежаяО квадратуре небесного круга,Звезд и планет урожае,Метрах и струнах. Богов чудотворнейЧистых законов опека.Чисел и слов сопрягаются корни,Строя число человека.Смерти поветрие истина лечит,В мысленном плавит горниле.Степени зла и добра – чёт и нечет —Времени меру раскрыли.В пепел растратили ксерксовы срокиДоски судьбы, догорая;Вновь поплывут в голубой поволокеСны киммерийского рая.«Притча учила: в землю зарой талант…»
Притча учила: в землю зарой талант,Медом залей, семикратной маржой взрасти.Густо сластит пахлавой похвальбы Левант,Жирно смакуя баранину на кости.Потчует сочных гостей ресторан-сарай,Гурий пригонит; кротко уйдут чуть свет.Красной строкою в счете искусный рай;Кофе дымок – отлетающей жизни след.Сказано, кончено, плачено; час пробил.Снайпера рыщет острый зрачок-прицел.Джип заревет парой сотен верблюжьих сил,С места рванет в проулок, покуда цел.Помни Алеппо, в сердце его возьми(Что пощадил Александр, – «искандер» добьет).Может, нелепо, но после земной возниВосстанови в незримом его полет.«Хлопнула, заметалась…»
Хлопнула, заметаласьДверь, отлетая с криком;Сдвинул засовы Янус —Яростным страшен ликом.Темен в проеме абрис:В свете незримы боги.Словно секира – лабрис —Выросла на пороге.Не приподнимет пологПлоских наук мякина.Вызовет антропологОторопь андрогина:– Это не здесь, а прежде,И не теперь, – в грядущем.Вежды спалит невеждеДух, говоря о сущем.«Глянь поновленным оком…»
Глянь поновленным оком:Радугу дождь пролил,Словно цирюльник ОккамЛишнее удалилИли БуонароттиМрамор раздел резцом.(Здесь при любой погодеВоздух залит свинцом.)Осень – хвала Юноне —Сдержанна и легка.Мне бы гулять в КротонеОколо маяка.Там ветерок фартовыйПриворожит легкоГам, говорок портовый —Торжище языков.Будь же полна понынеЧистых даров, рука.Я уделю богинеМеда и молока.В плошке щербатой глинойСохнет веков волна;Жертве моей пчелинойРадуется она.Счастливы были там мы;Здесь – разговор другой.Солнце сгибает гаммыВ небе цветной дугой.Струны любви и болиПрежний терзает лад;Пифагорейской солиСыплется звукоряд.Марк Зайчик
/ Иерусалим /

Герой нашего места
Один рассказывал совсем не так, как было.Не знаю, для чего он врал и путал след.Говаривал не «да», а «может быть» и «нет»,И, на худой конец, готовый был ответ,Мол, правду унесёт с собой в могилу.Другой живописал о том,Что было на глазах,Но представляешь, всё потомСообратилось в прах.Не стало ни дерев, ни птицИ ни его зрачков, ресниц.Семен ГринбергЭто годам к сорока, даже раньше, он начал лысеть, волосы его почернели, он набрал вес и, вообще, предположим, что он потерял себя после юношеской истории в Перу. Но надо было его вспомнить двадцатидвухлетним лейтенантом, худым, крепким, без лишних наростов мышц парнем, похожим на эллинского героя, или точнее, на германского бога Бальдра, с волосами цвета платины и прозрачным отстраненным взглядом небожителя. Волосы у него уже тогда были редкими, но ничего не предвещало залысин. Если только не посмотреть на фотку его отца, которая была у него в бумажнике, хранившемся в рюкзаке на стене в армейском бараке. Все так оставляли открыто, здесь не воровали. Никто и никогда.
Три раза в день и дважды в ночь мимо их базы проходили поезда, курсировавшие между Хайфой, Ашдодом, туда и обратно. Поезда были грузовые, тяжко отбивавшие рабочий ритм, но утром все-таки шел один пассажирский, легковесный, сидячий, потому что ехать было вместе с остановками один час тридцать пять минут от начала и до конца.
Толя иногда пользовался этим поездом. Он добирался до Тель-Авива, а оттуда с автовокзала на семиместном маршрутном такси ехал в Иерусалим к родителям. Такси было бордового цвета, водитель был пузатым, небритым мужиком, который отворачивал окна до отказа вниз, так как кондиционера никакого не было. Рывками дул сквозной ледяной ветер, гудевший от напряжения, бежал привычный пейзаж Изреэльской долины, пожилые столичные дамы с покупками придерживали шляпки на среднем сиденье, водила воспроизводил восточный молитвенный нигун (мотив), Толя, с тяжелыми мышцами после утренней маяты на канате вверх-вниз и сорокаминутного подъема по желто-белому песку до стрельбища с пробитыми и помеченными мелком фанерными мишенями, закрывал глаза и дремал в одурманивающем состоянии счастья и покоя.
В углу, под общим навесом над рядом стрелявших бойцов, стоял продавленный кожаный диван, в котором обычно восседал их командир, похожий на «безумного скандинава», и с рассеянным видом наблюдал за стрельбами. На самом деле этот двадцатипятилетний манерный парень, поглаживавший рукой простреленное год назад на Голанах колено, все видел, все подмечал, почти все знал, и лучше было, чтобы он составил о тебе хорошее мнение, так как от него зависело очень многое в твоей судьбе, если не все. Он был очень опасен, амбициозен сверх меры, но справедлив, насколько это было возможно при его карьере и должности.
Так вот, на их базе были такие удивительные умельцы, что хоть стой, хоть падай от их искусства. Они могли открыть любой замок за секунды, скрепкой или шпилькой, могли переодеться в кого угодно, скажем, в старика старьевщика или в его согнутую супругу, могли без денег, без документов и без билетов слетать в Осло или Москву и вернуться оттуда с использованным билетом в кинотеатр «Космос». Но воровать у своих – фи, да вы что, тьфу на вас.
Многие сослуживцы знали, что Толя, которого звали здесь Нафталем, родился в Штатах, что он религиозен и до сих пор молится по утрам, что он ухитряется учиться в университете – как ему это удается, оставалось загадкой. Имя Толя осталось для дома, он не хотел выделяться ни в коем случае. Никто к нему не лез с расспросами, здесь это было не принято. Но два года общей подготовки этот парень выдержал на равных вместе со всеми, и лучше многих в отдельных воинских дисциплинах, иначе было нельзя. В его группе было 12 человек, он быстро стал их командиром, окончив офицерский курс, куда его рекомендовал их мифологический командир, наигрывавший на рояле в клубной комнатке вальсы и фокстроты. Никакой субординации здесь не было, все делали все наравне со всеми, команды выполнялись неукоснительно без крика и пинков.
Отец у него был профессором, мать медсестрой. У него были еще брат и сестра, старше его. Толя не думал, что они лучше его, просто другие люди. Они все его очень любили, это была сплоченная, крепкая семья, все держались друг друга. Жили они все в пятикомнатной квартире в старом доме прямо за гостиницей на Французской площади. Детям всего хватало в этом доме, но Толя был очень самостоятельным, он знал свой путь, упрямо следовал своим правилам.
Однажды, получив две недели отпуска за успех одного почти безнадежного дела, Толя приехал в Иерусалим и не заходя домой, направился на улицу в устье городского рынка. Он зашел в дверь, забранную прочной решеткой, над которой висела вывеска с выцветшим названием, и сказал парню, расслабленно сидевшему за столом и читавшему газету с оранжевым заголовком «Последние новости».
«Здравствуй, брат, грузчики нужны тебе?» – «Что сказать тебе, солдат, нужны, только работа очень тяжелая, справишься?», – он скептически оглядел фигуру Толи, одетого в застиранную и чистую форму солдата роты обслуги пехотного батальона. Правда, гимнастерка-распашонка, красные башмаки и алая пилотка под погоном, да и некоторая аура силы, исходившая от этого странного парня, заставила хозяина подсобраться и сесть прямо. «Тут холодильники нужно таскать, вообще. У меня есть трое работников, но вот Ави наш приболел, лежит дома, а на заказ мы посылаем трех человек и плюс шофер, оплата хорошая плюс чаевые, заработать можно, а ты справишься?» – опять спросил он.
Толя ответил не сразу, чего-то он выжидал, хозяин ждал, глядя на него в упор, гость был непонятен. Таких работников у него не бывало прежде: офицер, европеец, никаких гор мышц и живота, молод и расслаблен, все было сложно с ним. «Надеюсь, что справлюсь, думал бы иначе – не пришел бы», – наконец сказал Толя.
Он вообще знал несколько языков, помимо прочего. Это были иврит, английский, арабский, русский и понемногу испанский там и французский.
О цене договорились быстро, да и что договариваться: базовые деньги, плюс премия за быстроту и надежность, и чаевые ко всему. Хорошие деньги, можно жить. «Договорились», – сказал Толя. «В 7 за тобой заедут, скажи адрес и будь готов», – сообщил ему хозяин. «Бен Маймон, буду ждать». Хозяин глянул на него, улица проживания не соответствовала статусу нового грузчика. «Одень чего-нибудь попроще», – посоветовал хозяин, относившийся к военной форме нового рабочего с почтением, которое может понять только житель столицы, проживающий в районе городского рынка. «Тебя, вообще, как звать? Меня звать Хези», – добавил он. «А меня Нафталий». – «Хорошо, Нафтали, давай». За спиной Хези на стене висели картины, изображающие Любавичского ребе, раввина Кадури, дела которого знали все, и плачущего мальчика с прозрачными синими глазами, а также фотография отца, основателя этого бизнеса.
Грузовик, ведомый Хези, приехал за Толей без пяти семь. Хези легонько подудел, и Толя сразу же вышел из подъезда, одетый в широкие брюки, широкую фуфайку и бейсбольную кепку с желтыми буквами N-Y, пришитыми над козырьком.
– Давай в кабину, Нафталий, есть место, – сказал довольный точностью рабочего Хези. Рядом с ним сидел еще один человек, он подвинулся – и Толя расположился, пожав всем руки по очереди. – Все в сборе, сейчас заедем за Мусой и начнем.
Высокий черный Муса, заслонявший плечами белый свет, ждал их при въезде в Мамиллу, напротив Яффских ворот. Руки у Мусы висели вдоль тела, на плечах лежала мешковина, на голове высокий тряпичный шлем. Он забрался в кузов, запрыгнув в него двумя движениями могучего тела. «Он у нас обычно холодильники носит, – улыбнулся Хези всеми тридцатью двумя бело-сахарными зубами, – а сегодня ты попробуешь, ты сам согласился, да?». Никакой иронии в его звучном голосе не звучало.
Толя кивнул, он не реагировал на иронию, сарказм, насмешки, это огорчало его оппонентов по школе и армии. Сидевший рядом с Толей малый оглядел его скептически, но промолчал. Что говорить, посмотрим на тебя в деле, парень.
Выносили мебель с третьего этажа. Дом был на Навиим, лифта не было. Громоздкий холодильник Муса и Йойо, сосед по кабине, аккуратно положили Толе на спину, накрытую чистой тряпкой. Толя подсел немного под тяжестью, выдохнул и двинулся по лестнице вниз мелкими шагами. Он тормозил немного на лестничных площадках, парни его не страховали, парень держался уверенно. На улице Толя развернулся к кузову спиной, и холодильник принял Хези, мягкими движениями, подвинув его вглубь к кабине. «Ну, как ты, не надорвался?» – спросил Хези, протягивая ему пластиковую емкость с ледяной водой. Толя попил, завинтил крышку и пошел обратно наверх. Хези смотрел ему вслед без улыбки.
Он, считавший себя многое повидавшим мужчиной, богатым и состоявшимся, не любил загадок в жизни, а когда с ними сталкивался, не сразу понимал их, это его раздражало. Где причина, где следствие? – судорожно думал Хези и нервничал, не находя следов ни того, ни другого.
Закончив погрузку и получив плату и чаевые, Хези перетянул груз брезентовыми ремнями в кузове и отправился в кабину. Он удивился, увидев, что Толя не полез на свое место, а залез в кузов. «Ты что, садись вперед», – сказал Хези странному парню. Тот махнул голой рукой: «Пусть Муса там сядет, его место, я не заслужил», – сказал он без улыбки. Хези застыл на месте, но мгновенно опомнился: «Ну, как знаешь».
Выгружались на Шмуэль Анави, мрачный бетонный подъезд, надпись красным «Шели проститутка», запах гнили. Там был подъем на второй этаж и лестница чуть пошире. Толя взбежал с холодильником за раз и аккуратно опустил его на пол в узкой кухне. Муса принял холодильник без слов, уважительно, он уважал чужие вещи, которые были источником существования для всей его большой семьи. Третий член бригады бегал с картонными ящиками как заведенный. Его имя было Йоси, но Хези и Муса называли его Йойо, вообще, с кличками все было в порядке. Мусу Хези называл Диктом, тот не обижался. Ну, Дикт и Дикт, фанера и фанера, какая разница, лишь бы работа была и деньги платили. Он не был праздным человеком, Муса, научился пахать, наверное, у евреев, у кого же еще. Здесь была отдельная плата, потому что первая хозяйка передала свое имущество другому человеку, точнее, продала его. Она уходила в дом престарелых, и ей все это добро не было нужно. Зачем? Воспоминания, грусть, да и места нету, нет, прочь-прочь. А здесь мужик был, кажется, старьевщиком или чем-то вроде этого. Дом его был забит под завязку, проходили из комнаты в комнату боком, дверь в туалет можно было приоткрыть на треть и втискиваться изо всех сил. «Но нам-то какое дело, да, Нафтали?», – спросил довольный Хези. Он роздал рабочим деньги и чаевые, все справедливо, честь по чести, поровну. Ему вышло чуть больше, что понятно и объяснимо. Никто от него объяснений и не требовал, Хези был человеком торжествующей честности.
После обеда была еще одна квартира на разгрузку и выгрузку. Поехали к рынку, и недалеко от конторы Хези, которую он красиво называл офисом, хозяин купил всем по фалафелю и солений: перцы, огурцы, маслины – все в бумажном кульке, который тут же намок, но это не мешало есть нисколько. Чего? Съели за милую душу. Потом каждый заказал еще по порции уже за свои деньги, Хези себе не заказывал, сидел на стуле, поглядывал на прохожих, жмурился на солнышке. Хези следил за здоровьем, не переедал, не пил вовсе, хорошо спал, работал физически по 8-10 часов ежедневно, ему больше не было надо, выглядел моложе своих тридцати пяти, гладкий, собранный, цепкий. Знал себе цену.
Толя-Нафталий съел все, запил газированной водой из стеклянной зеленой бутылки, отер салфеткой лицо и руки, и встал в стороне, глубоко засунув сжатые в кулаки руки в карманы. Муса подошел к нему, встал рядом и стал смотреть в ту же сторону, что и Нафтали. Йойо съел больше всех, аппетит у него был сумасшедший, мог съесть таких порций три или даже четыре, и ничего. Но все-таки сдерживался, потому что у них была еще работа. «Двинулись, уже пора», – сказал Хези, вставая со стула и двигая руками по сторонам для разминки. Он обратил внимание, что Нафтали был в походных прочных ботинках: верх из брезента, подошва из легкого каучука, очень легкие, местного производства, можно носить вечно. И цвет какой-то бурый, зеленовато-бежевый, незаметный.
К 9 вечера Нафталий был дома. Он сразу пошел в ванную, помылся, причесался, надел шорты и медленным шагом вышел в гостиную. «Ну что, доволен? Тело ноет?» – поинтересовался его брат, сидевший за письменным столом в углу с книгой и стопкой бумаги. Горела настольная лампа. Отец, подавшись на диване вперед всем телом, смотрел новости по черно-белому телевизору, мать, напевая без слов хабадский нигун, двигала с никелированными звуками кастрюлями и ножами на кухне, сестра в легком платье с рукавами по локоть, вполне совершеннолетняя и наполненная непонятными надеждами на будущее девушка, постукивая карандашом о столик, оживленно спрашивала по телефону верную подругу: «А он что? А ты? И как? Не переживай так, Дикла, он того не стоит, я знаю это наверняка, поняла? Ты поняла меня, я спрашиваю? Так-то, молодец».
У Толи была машина от армии, надежная и прочная «сусита» с корпусом из фибергласса и двигателем на 1500 кубиков, но он хотел иметь свою машину, свой личный «форд», свою личную «кортину», была такая отличная современная машина. Он мог взять денег у отца, но не хотел этого делать, по понятным причинам: Толя был самостоятельный мужчина, обеспечивал себя сам всем, только не снимал себе квартиру, потому что еще не настало время для этого. А для синей «форд-кортины», длинной, красивой, хищного внешнего вида, время уже настало. Потому Нафталий взял две недели отпуска, угадав подходящий период, отложил одну зарплату, вторая должна была прийти через 10 дней, 11 рабочих дней у Хези, и вот на тебе автомобиль. Еще у него была сберегательная программа в Национальном банке, которая уже бежала в его пользу почти два года, Толя собирался ее взломать. «Заплатите штраф за это, Нафтали», – сказала ему чиновница, округлив накрашенные, как у ночной птицы, глаза. Она имела в виду прекращение программы и извлечение денег со счета. «Конечно, заплачу, не расстраивайтесь, Мири», – ответил Толя. Кажется, он ей нравился, но и времени не было, и она не очень прельщала его, хотя довольно часто он страдал от недостатка женского тела возле себя, и страдал серьезно.
А так, эта Мири была хоть куда, в брючках, расходившихся от значительных ягодиц клешем, в кофточке, не до конца застегнутой на мраморного цвета почти античном животе, в больших очках на пол-лица, очень красивших ее. Банк был расположен в двухстах метрах от его дома, отец и мать Толи тоже держали в нем счет, ну, куда? Чего? Комплексы у Толи были, как и у всех, но дело здесь было не в комплексах. Женщина должна была его поразить, как он считал с малых лет, и вот тогда. Иногда это случалось. Но беда была в том, что все Толя не поражался по-настоящему никак и никем. Брат, еще один большой мыслитель, говорил ему иногда серьезно, он, вообще, был очень серьезный человек, что «придет твой час, Нафтуль, тогда и отыграешься за все годы, тяжело ей придется». Было неясно, говорит он это насмешливо или иронично, но Толе было все равно. Он был очень одинок, ему это мешало, если честно. Но кто, вообще, говорит безукоризненно честно, даже сам с собой, даже ночью, скажите? Толя не признавался брату ни в чем, брат не знал о нем ничего, хотя и делал неоднократные попытки разузнать подробности. Подробности чего? Ты чего, Борька?
И все равно, несмотря на все усилия, на машину ему не хватало. На ту, о которой он мечтал: туго набитую двигателем, мощью, с широкими шинами, с короткой никелированной ручкой передачи скоростей. Все ручной сборки, деталь к детали, согласованность и гармония, мощь и скорость – вот наш девиз. Потому-то Нафаталий и пахал на погрузке-разгрузке не разгибаясь.
Из садика на другом краю тротуара несло угольным духом, там жарили мясо, просто плоские куски мяса без специй, как и должно быть. Толя поспешил пройти мимо, чтобы голова его не закружилась от ощущения зависти и восторга, и переизбытка сладкой слюны во рту. Это был его ежедневный вечерний променад, когда он бывал дома, а это было не так часто. Вот сейчас было. Птахи из ухоженных садиков улицы Газа уже заснули и не пели. Только изредка звучали какие-то гулкие выкрики ночных летающих хищных глазастых стремительных птиц. «Надо возвращаться домой», – решил он на месте, перешел улицу и пошел вверх по некрутому подъему по узкому тротуару.
Толя с малых лет, еще в Нью-Джерси, считал себя сикарием[2] и оставался таковым, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому-то он пробивался служить в армии там, где служил, перенапрягался, рвал жилы, готовил себя к этому. Ему понравилось звучание этого слова еще до того, как он узнал его значение. Толя не поступал, как сикарий, потому что считал себя еще не совсем таковым, все-таки время накладывало свой значительный фиолетовый отпечаток на окружающую жизнь и на его жизнь, конечно, тоже. Но заряд жил в нем соответствующий, наблюдательные люди это, конечно, замечали.
Он хотел восстановить погибший мир, в котором был бы защитником разрушенного храма. Из тех, что затыкали своими телами пробоины в стене, которые собственной кровью поливали камни, по которым римляне лезли и лезли неудержимо вверх к храму. Он не был кровожадным человеком, не улыбался счастливой улыбкой при виде чужой смерти. Люди, увидевшие Толю, вот так идущим и внимательно наблюдающим жизнь перед собой, могли подумать, что вот такой удивительно красивый человек попал в беду или вляпался во что-нибудь плохое, как жаль его. А он нет, не был замешан ни в чем таком грустном, просто думал, все замечал, жил своей жизнью одновременно.
Толя ходил по этому маршруту часто, но с некоторой разбросанной периодичностью. Свободного времени у него было немного. Поэтому люди, проживавшие в квартале, его узнавали, но не могли припомнить, кто, что, куда и зачем этот человек идет. Или все-таки возвращается?