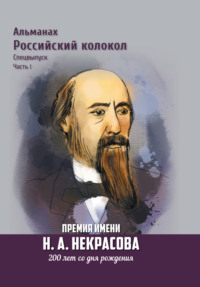Полная версия
Крещатик № 92 (2021)
Ему было важно это слово – «престижная», Толику могло показаться, что израильтяне его недостаточно уважают за жизнь, и он менял лексику и речь. Он должен был сказать, что Толик не какая-то там пьянь забулдыжная, странный человек, не знающий языка, а ученый, работник университета. Заметим только, что в середине буднего дня напиваться допьяна трудящимся людям в Иерусалиме, мало пьющем в то время населенном пункте, было очень странно. Очень.
Короче, через какое-то время Нафтали открыл глаза и не сразу понял, где он и что с ним. Он лежал на балконе, на какой-то раскладной кровати с натянутым на пружинках брезентом. Какое-то пикейное одеялко накрывало его по горло. Голова не болела, но кружила таинственные танцы под какую-то вроде бы космическую музыку. Уже смеркалось и было прохладно. На полу возле кровати стояла литровая банка с кипятком, в котором плавали куски лимона и какие-то травы. Нафтали выпил воды, которая освежила его, остановила головокружение и почти вернула к прежней жизни. Он смог встать на ноги и сделать несколько шагов до кухни. За столом сидел Толик и читал книжку в мягком переплете.
– Вот смотри, Нафталий, я тебе прочту сейчас, – сказал Толик. Он был громогласен.
Воротишься на родину. Ну что ж.Гляди вокруг, кому еще ты нужен,кому теперь в друзья ты попадешь?Воротишься, купи себе на ужинкакого-нибудь сладкого вина,смотри в окно и думай понемногу:во всем твоя одна, твоя вина,и хорошо. Спасибо. Слава Богу.Как хорошо, что некого винить,как хорошо, что ты никем не связан,как хорошо, что до смерти любитьтебя никто на свете не обязан.– Ну, и так далее, – сказал Толик. Он читал громко, напористо, как вколачивал слова стихотворения в тех, кто его слушал. Нафтали сидел напротив него, он был неподвижен, голова болела, кружилась, но кажется, слава Богу, уходила от него, как будто ее выдавливали наружу, он боялся сглазить. Толик потянулся к дальней от себя бутылке, которая была пуста, он был очень крепкий человек. На первый взгляд, Толик выглядел как обычно, только лицо казалось чуть более возбужденным, чем прежде. Ко всему, на лице его появился румянец. Но это и все.
Он извлек из портфеля черно-белую фотографию размером 10 на 15 в деревянной рамке.
– Знаешь кто это, Нафтали?
Нафтали не знал. Где-то он видел этого немолодого мужчину с зачесанными назад светлыми волосами. Но не мог вспомнить. В газете? В папиных сидениях у теленовостей? Наверное, но непонятно. Фотографии не всегда точны, это известно, что-то остается за кадром, очень многое.
– Это академик Сахаров, великий человек, – произнес Толик значительным голосом. – Я с ним хорошо знаком.
Он подвинул по столу полную неразбавленного и не закрашенного ничем посторонним чистого спирта рюмку Нафталию: «Давай, Толя, за здоровье и благополучие Андрея Дмитриевича, залпом». Он выпил, заел кусочком хлеба, ломтиком лимона и выдохнул с измененным и привлекательным лицом человека эпохи раннего Возрождения.
Он вопросительно посмотрел на Нафталия, который все еще держал рюмку, не решаясь пригубить ее, это было выше его сил. «Ну, не идет и не идет, через силу не надо, отставь», – примирительно сказал Толик.
В кухню зашла теща Толика, у нее была поступь и вид грозной Парки. В руках она держала граненый стакан. Она аккуратно налила в него воды из-под крана, положила в рот желтого цвета круглую таблетку, запила и проглотила ее. «Ну, вот, молодые люди, стоит, кажется, сделать перерыв, уже начало темнеть, а вы все в строю», – в голосе ее не было сарказма или насмешки. Можно было расслышать осуждение, если напрячься. Толик посмотрел на нее сбоку, опустив лицо к столу, но совершив некоторое усилие над собой, промолчал. Или у него силы все-таки уже кончились, не суть важно. Мир был сохранен, вот это было важно. Теща вышла из кухни обратно в другую жизнь, из которой появилась. Какой она вошла, такой и ушла, с прямой спиной, со своим мнением, со своей гордыней.
– Ты не думай, Нафтали, это она оптальгин принимает, двойную порцию. У нее после лагеря жуткие головные боли, – сказал Толик.
– Я не думаю, Толик, ничего, у меня голова тоже побаливает, если честно, – голова у Нафталия раскалывалась.
– Попей еще кипяточку с лимоном, дорогой, – отозвался Толик, он был заботливый уютный человек, пока не переставал им быть. В этом отрезке времени он был таковым. Он пожевал половинку лимона, как жуют сладкие фрукты, скажем, грушу сорта «Аллегро». Возле их домика в Мевасерете росло лимонное дерево, и Толик запасся этими плодами надолго. Забрал с собой картонку с лимонами, которые переложил старыми газетами. «Чтобы было», – пояснил он родным. «Молодец ты, Толик», – сказала теща, она ничем не рисковала.
– Мы приехали перед самой войной, ничего не понимали. Я, правда, тревожился, хотел в армию, но меня выгнали без сожаления. А ты где, Толик, был в прошлом году во время войны, а? – он был очень любопытен, ничего не мог с собой поделать.
Нафталий пожал плечами и сказал, что был на севере.
– И как было? – напирал Толик.
– Нормально, тихо, ничего особенного, – сказал Нафталий. Его отец всегда говорил, что никакого толка от этих специальных подразделений нет. «Фронт держат рядовые, пехота, а все эти ваши коварные диверсанты и их игры ничего не стоят, – говорил отец Нафталию уверенно, – я это знаю точно». У отца был опыт мировой войны, это была совсем другая война. Все эти жуткие местные конфликты были непохожи на европейские битвы, хотя, если подумать, все войны похожи друг на друга. Нафтали с ним не спорил, он его очень ценил и уважал. У него были вопросы к отцу, но он их не задавал, боясь услышать в ответ что-нибудь невообразимое.
В прошлом году Нафтали в середине октября был со своей группой на задании, которое как раз заключалось в укреплении оборонительной линии, которая вот-вот должна была быть прорвана. Командир, тот самый, с простреленной ногой, хитрый, наглый, отчаянный, остался лежать на ничейной земле, и Нафтали выдвинулся вперед, чтобы вынести его обратно. Он добрался до него довольно быстро. Идти командир не мог, пытался перебинтовать ранение, но ему было сложно дотянуться до выпрямленной ноги, и он просто затыкал кровоточащую рану куском бинта из санитарного пакета. Нафтали обработал ранение, сделал укол, перевязал ногу, разрезав штанину ножом, и спросил: «Идти сможешь?». Командир попытался встать, сразу выяснилось, что идти он не может. Все это происходило под артиллерийской насыщенной стрельбой и одиночными выстрелами ребят из его группы, прикрывавшими командира. Нужно было добраться до своих, расстояние метров 400, местность пересеченная, почва вязкая после двухдневного дождя.
Командир весил килограмм 87, Нафтали на две весовые категории меньше, то есть 75–76, плюс снаряжение. Но ему еще не исполнилось 23 лет, он был очень хорошо подготовлен физически и психологически. Короче, он взвалил командира на плечи и быстрым шагом двинулся к своим. Ребята его заметили, провели отвлекающую стрельбу метрах в ста от событий. Нафталий останавливался два раза, шел мелкий резкий дождь, который хорошо омывал его лицо и шею от пота. Командир старался не стонать, он ругался на двух языках матом. У самой цели он вдруг спросил Нафталия, придя в себя на мгновение: «Извини меня, парень, хорошо, я правильно говорю на русском языке, Нафтуль, к ебени мать? Как у меня произношение?». – «Хорошее у тебя произношение, как у русского бандита», – ответил ему Нафтали, передавая очень тяжелое, как бы каменное, тело командира ребятам – тот был без сознания.
За эту пробежку с командиром на плечах под огнем Нафтали присудили «Знак мужества», командир пожал ему руку и подарил от себя литровую бутылку виски «Teacher's» и новенький револьвер марки «Смит-Вессон» Model 469 с двумя коробками патронов. В револьвере роскошным жестом откидывался барабан и с чудным стуком прокручивался, ожидая заполнения шестью тяжеленькими пульками калибра 10, 67 мм, соблазнительный и очень красивый аппарат с опасным и непредсказуемым будущим.
Откуда и как у командира это добро появилось, было совершенно непонятно, да Нафтали и не спрашивал, он вообще старался спрашивать как можно меньше. «Не лезь не в свое дело, – твердил ему отец, – меньше болтай, это вообще главный закон жизни, не тренди понапрасну и не давай советов». Но, заметим, у командира были свои верные источники. На то он и был полковником, поднявшимся из рядовых, опытный, опасный и битый бес, никакие раны не могли его сдвинуть с этого поста, да никто и не пытался.
У родителей Нафталия был сейф, вмурованный в стену их спальни. Нафтали, показав издали подарок домашним, дав в руки отцу, сказал, что будет ходить с револьвером, а не прятать его. «Пусть будет при мне», – заявил он.
Отец это не одобрил, сразу же напомнив, что, вытащив оружие, можно из него выстрелить, а выстрелив, кого-нибудь ненароком убить. В нем жила эта советская хитрая наивность. Мать промолчала. Брат добавил: «Я уверен в Тольке», – а сестра зафырчала-зафырчала, обняла Толика за шею и сказала: «Горжусь тобой, брат мой». Но это она имела в виду «Знак мужество», о котором сообщил ей отец, а не брат. Он считал, что нечего хвастать понапрасну.
Толя взял с книжной полки в своей комнате самую толстую книгу, которую написал Сэмюэл Ричардсон и которая называлась «Кларисса, или История одной юной леди», по-английски «Clarissa, or a History of a Young Lady», изданную в 1958 году, и без сожаления, тщательными движениями вырезал клинком германской опасной бритвы марки «Зелинген», которую отец когда-то вывез из оккупированного Берлина, убежище для пистолета по диагонали листа. Как раз под обложкой точно вошел от одного угла страниц до другого угла, иначе револьвер не помещался. Захлопнул обложку, погладил ее, поставил книгу на полку – и все. Не забыл. Патроны были сложены во второй из трех ящиков письменного стола, Нафталий был аккуратист.
Из домашних о месте хранения знала лишь мать. Отец ни о чем не спрашивал Нафталия, лишь однажды заикнулся что-то вроде: «А где револьвер твой?», но сын легко ему ответил: «Оставь, папа, эти глупости, ну, что тебе за дело». Действительно, иногда Нафтали приходил домой в пятничный отпуск до воскресенья с таким личным арсеналом, включая РПГ, 20-килограммовый пояс со всем этим изощренным дерьмом для убийства, что вопрос отца был и казался не только неуместным, но и просто смешным.
– Кто-то у вас погиб в части тогда? – спросил Толик.
– Нет, никто, бог миловал, один был ранен в ногу, прихрамывает сейчас, – пробурчал Нафтали.
– А то тут болтают некоторые всякое, мол, тысячи убитых, тысячи раненых, тысячи калек, это так, Толя?
Лицо у Нафталия было спокойное, одутловатое от выпитого, без тени тревоги или неловкости.
– Я лично знаю двоих, Толик, им не повезло, учились с ними в школе вместе, – у Нафталия не было желания говорить о войне, ее результатах и обо всем, что с нею было связано.
– В начале 50-х я был чемпионом Москвы по боксу среди юношей в среднем весе, поверишь? – спросил Толя, карие глаза его блестели, как у молодого. Впрочем, они у него всегда блестели. Нафтали показал ему большой палец, что, конечно, верит, о чем речь. Толя и выглядел соответственно, энергичный боец без страха и упрека, только изредка, совсем редко, на него нападали уныние и тоска.
В кухню, стукнув походя в дверь, опять вошла теща Толика. Она подошла к столу и деловитым голосом сказала: «Вас, кажется, звать Нафтали? Мне дочка сказала. Не знаю отчества, простите. Хочу с вами поговорить, это возможно? Меня звать Елизавета Залмановна. Я теща этого господина, как вы, наверное, уже знаете».
Нафтали поднялся ей навстречу, он держался неплохо, в принципе, учитывая все сопутствующие обстоятельства. Толик же уставился в стол, скрестил руки на груди и энергично качал чубатой головой в знак того, что очень недоволен. Выражение белого широкого лица его с красными пятнами румянца на скулах и тяжкое молчание отражало полное неприятие и презрение к ситуации. «Чайник, Толя, поставь, завари покрепче, мы сейчас вернемся», – сказала она зятю. Тот сидел, не показывая вида, что слышал. Он был неподвижен, как будто спал, похожий на белолицего застывшего сфинкса, со сбившимся набок коком темных волос и зло поджатыми алыми губами.
Нафтали вышел за женщиной на улицу. Он выглядел понуро, ему было не по себе. Они остановились на автостоянке с одинокой салатного цвета машиной марки пежо-404, поставленной параллельно тротуару. Елизавета Залмановна обернулась к Нафталию, она была с ним одного роста. При ее негромких, но внятных словах:
«У меня к вам просьба, уважаемый Нафтали», – какая-то тоска схватила его за сердце цепкой жесткой рукой. Он поднял к ней лицо, и она сказала: «У нас в том поселке через дом от нас в номере 104-а живет один пожилой дядя, такой плотный неприятный персонаж, никогда не смотрит в глаза». – «Вы имеете ввиду Мевасерет Цион, да?», – спросил Нафталий. Тоска никак не отступала, он ждал чего-то необратимого, так просто эта история кончиться не могла. Женщина говорила размеренно, голос ее звучал не слишком отчаянно, но очень тревожно.
«Мне больше не к кому обратиться. Анатолий Иосифович, сами видите, настроен отрицательно ко мне, в полицию я жаловаться не пойду, это невозможно. Вы мне как подарок с неба, потому я и обращаюсь к вам, Нафтали».
Он облокачивался о новенькую бетонную тумбу, зачем-то возведенную здесь. Неисповедимы замыслы мэрии вечного города Иерусалима, отцы этого города не дремлют. Нафтали поднял голову, в глазах его был вопрос: «Что вам нужно от меня и моей жизни, Елизавета, забыл ваше отчество?». Позывы тошноты были неудержимы. «Я хочу, чтобы вы сломали ему руки, обе руки», – воскликнула Елизавета Залмановна. «Простите меня, я на минуту», – Нафтали отошел на несколько шагов, перегнулся через барьер из крашеных зеленых труб, его обильно и бурно стошнило на кустики, высаженные по вспаханному склону. У него был чистый платок, которым он утер рот, лицо, шею, глубоко вздохнул пару раз и вернулся к теще Толика. «Так чего вы хотите от меня? Обе руки ему сломать? А почему вы решили, что я могу это сделать? Кто я такой? И кто он такой? Чем он заслужил эту кару?», – Нафтали разговорился, у него не было выбора.
Елизавета Залмановна никак не смутилась от того, что произошло с Нафталием. Она производила впечатление человека, который всякое повидал в жизни. Она продолжала как ни в чем не бывало: «Этот человек допрашивал меня в кабинете конторы 37 лет назад, мучил меня, бил меня, унижал меня, угрожал убить. Не хочу его смерти, он мерзкий загнанный старый пес, его надо наказать, вы подходите для этого, как перчатка на руку. Анатолий, сами видите, какой он, и потом, он отказался, остались вы, я вас вычислила мгновенно, извините. Я в этом хорошо понимаю, вижу насквозь. Я заплачу вам из своей пенсии пять ежемесячных выплат, это все что у меня есть, это неплохо. Вы согласны?».
Шарфик ее развязался, лежал на плече, черты лица сдвинулись, она была взволнована, эта железная, наверное, безумная женщина.
– Почему вы решили, что я подхожу для вашей просьбы? – Нафталий и не думал соглашаться. Он тянул время. – Я далек от всего этого очень.
– Не скажите, я многое понимаю, вы идеально подходите.
– Знаете, Елизавета Залмановна, я все-таки откажусь, это невозможно, я не сумею, простите меня, – собрался с силами Нафтали. Мальчик лет восьми из дома напротив ловко набивал пятнистый мяч, действуя одной правой ногой. «Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь», – повторял он, стоя на крыльце у входа. Жена Толика остановилась в дверях парадного и позвала Нафталия в дом. «Идемте чай пить», – сказала она.
– Моя мама всегда говорит, что мстить нельзя, все будут наказаны сами, мы в этом не участвуем, – торопливо сказал Нафталий.
– Ваша мама не из России, наверное, простите меня, – отозвалась Елизавета Залмановна. У нее явно закончился заряд терпения для всего этого.
– Она родилась в Америке.
– Ну, конечно, в Америке, где же еще. В России думают иначе, как вы могли уже понять. Вы меня очень разочаровали, Нафталий, совсем мужчин в этом мире не осталось, это вас наш борец за справедливость всему научил, да? Рядовой демократической борьбы. Чемпион Москвы среди юношей, боксер, слабак, слизняк, вот кто он, ваш Толик, – она развернулась и пошла независимым шагом в сторону автобусной остановки. Для этого ей нужно было перейти улицу, затем главное окружное шоссе, но она преодолела все расстояние быстрым нервным сильным шагом и скрылась за углом дома, сложенного из иерусалимского мягкого бело-желтого камня. Фырча на крутом подъеме, грозно шумел желто-красный рейсовый автобус, надрываясь вдоль запыленных и заброшенных саженцев, выглядевший, как боевое транспортное средство после прохождения полосы непроходимых препятствий. В ноябре под первым ливневым дождем эти саженцы набирали цвет и мощь, как будто получали дополнительные неведомые силы с неба, да так и было, конечно, на самом деле.
Нафтали поглядел ей вслед с удивлением и одобрением. Собравшись с силами, он побрел обратно в дом. Облегчения он не почувствовал после этого разговора. Еще бы. Прямо за входом слева была квартира с полураскрытой дверью. «Лаванда, белая лаванда», – звучал певучий женский голос. Детские голоса и томившийся под мятым тазом ферганский плов говорили о ДНК хозяев дома, об их привычках и вековых жизненных устоях. «Моркови недостаточно, кажется, положили», – озабоченно говорил кому-то мужской голос. «Всего достаточно, Алик, всего, что ты переживаешь?» – отвечал мужчине голос женщины, певшей про белую лаванду.
Перед Толей стоял дымящийся чайник с заваркой, блюдце с клубничным вареньем и фаянсовая советская сахарница без крышки. «Толя, извини за вопрос, твоя фамилия как?» – неожиданно спросил Толик. Нафталий подсел к столу напротив него и сказал: «Гарц моя фамилия, а если по-русски правильно, то Харц, как тебе будет удобно, так и говори, но лучше зови меня Толей, мне так нравится больше».
«А что ты с моей тещей непоколебимой решил, будешь заниматься ее мучителем?» – спросил Толик. «У меня нет ответа, но вообще, я ей отказал, есть законы в этой стране, весьма жесткие, а я не рука закона вовсе, если честно», – признался Нафталий, он был расслаблен после выпитого и происходящего всего вокруг. «Ну, конечно, есть закон. Хотя морду этому гаду надо было бы набить», – задумчиво сказал Толик. «Все-таки еще не вечер», – Нафталий был на удивление уступчив.
Толик налил себе в хрустальную рюмку из бутылки, вытряхнув последние капли. «Ты, я знаю, уже сегодня больше не будешь, брат Гарц Нафталий, не обижайся, что обделил», – он выпил без усилия над собой. Толя выдохнул, вздохнул, глаза его широко раскрылись. «Я так и не разобрался с твоим отчеством». Нафталий смутился, ну не Джефовичем же ему называться, отец был записан в Нью-Джерси как Джеф. «В другой раз, Толя, будем все обсуждать, а я поеду, наверное, уже темно на улице. У тебя телефона нет? Надо такси вызвать». – «Какое такси, ты что! Какой телефон, мы первый день здесь! Обустраиваемся, знакомимся. Такси будет стоить сумасшедшие деньги, погоди. Я все устрою сейчас», – он поднялся и пошел ко входной двери. Нафтали шел следом.
Этажом выше Толик поговорил с кем-то, это был его сосед из квартиры с запахом кипящего плова и песней «Белая лаванда». «Алик, свози моего друга, я оплачу, у меня через три дня зарплата, ты меня знаешь», – громко говорил Толик. Алик что-то сомневался и жалобно бурчал: «Да у меня плов, гости скоро придут, да и бензина нету, ну, куда я поеду, скажи, Толя». – «Я преподаватель университета, Алик, ты это хорошо знаешь. Мы с тобой мало знакомы, но ты умный и проницательный человек, отвези моего лучшего друга Нафталия, куда он попросит, за мной не заржавеет», – напирал Толик. «А плов что?! А?! Ну, хорошо, сотню отдашь с получки, я за тобой бегать не буду, поеду, где твой друг», – спросил Алик.
Машину он вел хорошо, напевал, не гнал, не лихачил, в салоне его пикапа пахло зеленью, яблоками и свежей сукровицей, Нафтали принюхался, да это был сладковатый запах крови, смерти и сукровицы. Как в том медпункте, куда он сдал раненого командира и где стоял такой же дурманящий дух, смешанный со стонами, разговорами напряженных врачей и проклятиями на трех языках. «Не нюхай брат, не нюхай, все равно не узнаешь, это я мясо вожу с бойни на рынок, понял, привыкай, не всю же тебе жизнь на Бен-Маймоне жить», – иронизировал Алик, напевавший кудрявую мелодию со словами про арыки, любимую и алые маки на лугу в долине. Он был веселый малый, не унывавший от неприятностей, жизнь в Иерусалиме ему подходила. «Твое как отчество, аке, мы привыкли уважать старших, так как?», – Алик был старше Нафталия лет на 5–7, он просто шалил и посмеивался над этим состоятельным европейцем, одетым, как бедняк, фи на него.
Нафталий показал рукой, чтобы он ехал вперед и не разговаривал, не время. «Э-э, ты что, не хочешь говорить со мной, так скажи, я тебе везу, честь оказываю, а ты, значит, гордый, да?!», – Алик перестроил машину резким движением руля, голова Нафталия дернулась. Он взялся за панель машины двумя руками, прижался к ней лбом и не глядя на водителя тихо сказал: «Веди осторожно, не говори, пожалуйста, много, хорошо, очень прошу». Больше Алик не разговаривал, только сказал, въехав на Французскую площадь: «Вам сюда?». Нафталий показал рукой, что вон туда, вход справа, достал из кармана 50 лир и отдал их шоферу. «Э-э, спасибо, аке, много, аке», – удивился Алик своей удаче. «Ничего себе, а я-то думал…». Он перестал обижаться на состоятельного европейца в тряпье и не прощаясь от удивления или других чувств, быстро умчал вниз, чтобы не возвращаться обратно той же дорогой, он был мнительным парнем.
Нафтали дома минут десять принимал душ, меняя холодную воду на горячую, и наоборот. Это помогло, но на разговоры с мамой и папой сил у него не было. Было восемь часов вечера. Он выпил стакан ледяной газировки, забрал бутылку к себе в комнату, прихватил в кухне половинку лимона и ушел спать.
Сны у него в эту ночь были цветные, беспорядочные, странные. Начитался вот ерунды, а потом и снится черт те что, явственно услышал Нафтали голос матери.
Он проснулся среди ночи и увидел в окно кусок черного глубокого неба с четырьмя звездами, обрывком луны и какое-то растрепанное бородатое чудовище с пустыми глазницами. Чудовище сидело прямо напротив него в густой кроне лиственного дерева, шумевшего листьями под порывами ночного ветра.
Все это сменилось незнакомым городским пейзажем. Какой-то въезд в закопченное промышленное здание с открытыми воротами, из которых волнами вырывался жар. Внутри виднелась печь, из которой мужик в кожаном фартуке и руками в крагах по локоть вытаскивал щипцами раскаленный кусок металла и отбивал его монотонными ударами молота на короткой ручке. Рядом в металлическом ящике валялись десятки уже отбитых и охлажденных в ванне с черной водой заготовок, похожих на лезвия кривых и прямых ножей. Мужик поднимал лицо, вытирал его чистой холщовой тряпкой и улыбался. Это был Толик. Из кармана его фартука высовывался уголок книги в мягком черном переплете. Толик широко и неловко улыбался Нафталию и говорил: «Вот так-то, брат Толя, такие вот дела, жизнь сложна. Том Мандельштама стоит столько, сколько твое возвращение домой с этим жуликоватым Аликом». – «Но я же заплатил ему», – восклицал Нафталий. «И с меня он потребовал столько же, так что мы квиты, брат Толик. Ты не волнуйся, у меня зарплата днями, университет платит как часы». – «Я его достану, этого парня, побью его», – воскликнул Нафталий. «Да оставь ты его к черту, не будь мстительным, нам еще с ним соседствовать долгие годы, будь выше этого, Толя, на тебе еще висит мучитель моей тещи, не забудь». И он гулко захохотал.
На этом смехе Нафтали заснул опять и проснулся в шесть часов утра новым человеком, бодрым и свежим, каким просыпался в детстве. Помылся, побрился, съел кусок хлеба с маслом и омлетом и спросил у мамы: «Ну, что там в новостях пишут?». Она читала газету «Гаарец», в которой не было фотографий, а только мелко набранный сплошной текст, с которым мама не была согласна почти всегда. «У нас в Нью-Джерси брат Ребекки тоже такое болтал годами в синагоге, но все знали, что он мишугенер, потому что невесту ему вовремя не нашли. А эти что? Неужели?», – говорила мама удивленно.
Без пятнадцати семь приехал Хези с рабочими, Нафтали ждал их у тротуара, прислонясь к громоздкому почтовому ящику, поставленному на попа. Красный цвет был ему фоном. Слабо ощутимый дух осени чувствовался этим утром. Самый конец августа. «А я уж думал, что сегодня работаем без тебя», – приветствовал его хозяин. «Ты ошибался, Хези, я на смене», – коротко сказал Нафтали и немного потеснил на сиденье Йойо, чувство дистанции у него прихрамывало с утра. Йойо пробурчал вполголоса, не высказывая вслух недовольства. Он отлично понимал и знал, что для Нафтали он может быть просто перекусом, так, утренней семечкой, максимум, кислым яблочком. Так, «мошка катан», как говаривал один незабвенный дядя, живший над Толиком в новом доме, «вы не думайте, я в Москве дружил с большими людьми, с секретарями ЦК, с исполнительным директором «Праги», с заместителем директора «Елисеевского», ах, да что вы знаете о Москве, что? Скажите». Толик слушал его, нетерпеливо, как застоявшийся породистый конь, двигая подошвами новеньких сандалий по асфальту, ожидая конца воспоминаний. Потом этот человек в белой панаме, надетой на парик, неожиданно раскланивался, расшаркивался и говорил: «А вот и моя Аглаюшка вышла, прощаюсь, прощаюсь, был очень рад». Аглая в крепдешиновом платье, в парадных туфельках, со следами так называемой былой красоты на лице, благоухая французскими духами, подходила к ним, церемонно раскланивалась с Толиком, просовывала голую руку под локоть своего дорогого, и они уходили под ручку в сторону шоссе под раскрытым цветастым зонтиком, принесенным предусмотрительной Аглаей. А Толик срывался и бежал по диагонали на другую сторону улицы в лавку к Нисиму, который отпускал ему арак под запись и прибавлял к бутылке хлебушка и банку соленых огурцов. Толик, отметим, был не одинок здесь, в районе, в этих горячечных устремлениях и надеждах.