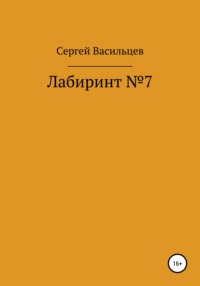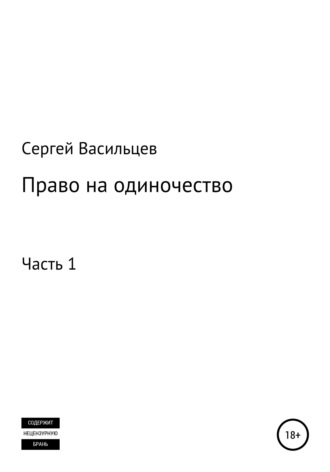 полная версия
полная версияПраво на одиночество. Часть 1
– Пошли, только осторожно.
Мы выбрались к небольшому строению явно благородных кровей, только совсем ветхому и с заколоченной дверью. Моя проводница уверенно двигалась к входу. Запоры оказались такими же бутафорскими как и вид самого здания. Внутрь вел узкий коридор, пропахший пылью и плесенью. Потом ступеньки, и мне пришлось вцепиться в тело спутницы, чтобы не загреметь.
– Осторожней, осторожней, – звучал ее шепот у самого уха. Интонации его перемешивались с шорохом ступеней и делались совершенно непонятными.
Мы поднялись на чердак. Вокруг колыхалась почти непроглядная темнота. Только через маленькое круглое окошечко со стороны фасада пробивался кусочек заката цвета мяса. Люба зажгла припасенный здесь фонарик, и с потолка сорвался пучок летучих мышей. Запах пыли стал еще более ощутимым. Вокруг лежали навалом обломки старых стульев, пара изъеденных жучком шкафов, плакаты, знамена и колченогий кожаный диван с ободранными подлокотниками. Его недавно протирали. Кожа поблескивала. И тут еще весь этот хлам. Я понял, что «все может быть», и от этого стало вдруг безумно неловко. «Даже Золя не придумал бы истории гнуснее… Это что-то сартровское: «За запертой дверью». Подумал и отмахнулся. Люба обернулась. В глазах отражались зеленые отблески звезд. Она вдруг стала похожа на кошку, решившую поиграть с выкатившимся клубком.
– Пойдем, – сказала она, снова беря меня за руку, и продолжала говорить, словно считывая уже написанное на своем лице. – Пойдем. Здесь я люблю… иногда помечтать, – но замолчала и снова резко обернулась, почувствовав, как мои пальцы начали сжимать ее ладонь.
Если кто и может удержаться, когда теплые женские глаза оказываются совсем рядом, губы приоткрываются, и от кожи плывет такой аромат, что начинает кружиться голова, то это совсем не я. Нет у меня такой выдержки. Тем более, когда сам к этому стремишься. Вот вам и печальный детектив Марлоу, господа хорошие.
Все остальное запуталось в долгом и уверенном поцелуе. Кончик моего языка сначала только касался каймы ее губ – они даже на вкус пахли спелым шиповником – потом зацепился за десны, нёбо и двигался дальше. Дальше…
– Стоп! – она оторвалась от меня и сделала пару шагов в сторону. – Нет. Давай не здесь. А то я уже плыву.
– Грязно?
– Нет. Мне не хотелось бы оставлять здесь воспоминания… Пошли.
Мы спустились по той же скрипучей лестнице, почти пробежали через парк и с деловым видом, не торопясь, проследовали через холл. Аллея, ведущая к флигелю администратора, была самой темной в парке, и я снова ухватил ее за талию. Она высвободилась только для того, чтобы открыть дверь и повернуть ключ в замке с другой стороны. Включать свет не было необходимости, но хозяйка зажгла свечу, ее блики поползли по стенам, бросив длинные, волнистые тени от мебели, которые расчертили комнату от потолка до пола. Обстановка – интимней и не бывает. И все-таки что-то порвалось в привычном ряду последовательностей.
Или мое тело уже начало отвыкать от меня. Или я сам, запутавшись в рассуждениях и рефлексии, не знал как следует, что с ним делать. Все оставшееся сейчас от прежнего самоуверенного нахала, судорожно соображало, как вообще должно быть в этой ситуации.
В меленькой комнатке летнего дома целовались взасос два человека. Я шарил руками по ее спине и ягодицам, касался губами мочек ушей, шеи, пальцев. Тянул время… Наконец, она начала раздеваться сама.
– Видимо, я хочу этого больше. – Люба улыбнулась и бросила платье на стул. Пламя свечки заплясало, по стене запрыгали силуэты, заискрились огоньки в хрустальной вазочке посреди стола. Стало уютно. И мои нервы несколько расслабились. Я провел тыльной стороной ладони по губам – они были холодные и слюнявые. Кожа на спине все так же зудела. И хотелось только одного – забыться. И значит – быть сейчас с этой женщиной.
«Да, все так оно и есть», – высветилось в голове, когда руки начали помогать ей освобождаться от черной кружевной комбинации. Эта традиционная вычурность нижнего белья женщины, отправившейся отдаваться, окончательно стерла оставшуюся напряженность. В ушах начали отдаваться гулкие удары очнувшейся сердечной мышцы. ШАМАДА… Тупое жжение поднялось от низа живота и сдавило горло. Я начал расстегивать штаны и ощутил напряженную плоть.
Мы возились долго, как будто пытались проиллюстрировать собственными телами полный самоучитель половых отношений. Молча стискивали друг друга до синяков. Женщина пыталась застонать, но я высасывал ее губы, ощущая на спине полосы ногтей, и это жжение было сродни наслаждению мазохиста.
Я отчаянно не спешил. Вернув себе чувственность собственного тела, мне хотелось насытиться ей до конца. И Люба, она также двигалась навстречу, окончательно ошалев от этой близости. Ее бедра уже третий раз судорожно схватывались и расслаблялись, когда мой организм окончательно потерял тормоза.
Отвалившись на спину, я стал рассматривать темноту. Размякшее тело было мокрым от пота. От живота пахло свежим семяизвержением, но идти в душ, просто пошевелиться вообще было невозможно. Гулливер в плену лилипутов был куда более свободный человек.
Она лежала рядом и перебирала ноготками мочку моего уха, обвела нос, губы, подбородок…
– Вот и хорошо… Вот и хорошо… – Потом увидела мое плечо. – Было больно? Прости, пожалуйста. – Но я почти не слушал. «Это физиология перешла в чувственность…» Во мне было все, что угодно, только не ощущение радости или вины. Пальчики продолжали скользить по коже. Ее давила нежность, и я не мешал.
– Вот и хорошо… – продолжали шептать губы. – Можно, ты будешь приходить сюда. Пока ты здесь. Мне ведь ничего не нужно. Только твое тело. И слова. У меня тут есть все, кроме…
– Нет проблем.
– Конечно, никаких проблем не будет, – поспешила она продолжить, даже не пытаясь разобраться, вопрос это или утверждение.
«Почти театральная сцена. Почему почти? – снова поползли ядовитые мысли, – впрочем, сейчас сантименты не в моде. Да и поздно все это. Слишком поздно».
Еще год – два назад я привязывался к любой снизошедшей до меня женщине так, что все пытался удержаться, даже когда меня пинками выпихивали прочь. Пускал слезы и слюни. А бабы-то были – просто бабы! Так – один, два исключительных экземпляра, которые, собственно, со мной особенно и не церемонились. Была еще Ника, но наши с ней отношения так и остались бликами на воде. А здесь, сейчас, рядом животное высшего порядка. Изысканное, чувственное тело вместе с «загадочной русской душой». Женщина с примесью je ne sais quoi.
Внутри было пусто как в колодце. Я притворился спящим и тут же заснул.
Пробуждение вышло поздним. Еще не открыв глаза, я ощутил, как женские пальцы перебирают мои волосы, почувствовал ее взгляд и уловил, как она поняла, что уже не сплю. И от этого стало щемяще радостно. Я потянулся и сгреб ее под одеялом. Мы успели только помыться, запихать в рот по паре помидор с белым хлебом и снова занялись друг другом. И потом снова лежали, взявшись за руки и изучали игру зайчиков на потолке. И даже боль обожженной кожи превратилась в приятный зуд.
– Ты всегда такой, – прошептала Любовь, переводя дыхание.
– Нет, но обычно еще хуже, – она засмеялась и коснулась губами моей щеки. – Скажи, почему ты вчера увела меня? Ты действительно так хотела? – Она снова засмеялась.
– Да… Не могу объяснить. Вначале, когда ты приехал… Ну тогда… Когда я сказала. У тебя был такой взгляд… Как у затравленной кошки. С этого и началось. А потом уже никак не могла выкинуть тебя из головы… Но это ничего не значит, – она поспешила оговориться. – Не могу понять, – начала после некоторой паузы. – Нет. Прости.
– Продолжай. – Просто удивительно. Как будто пропасть рухнула за плечами. Тот край еще виден, но обратной дороги нет. Пуповина оборвалась. И я уже могу говорить об этом.
– Я же видела, что с тобой было еще два дня назад. Мне всегда казалось, что ученые слишком рассудительны, чтобы быть способны на чувства. Сильные. Но тогда… Нет. И теперь. Тебе так удалось взять себя в руки? – она непроизвольно сделала ударение на слове «так», – Или что-то произошло?
«Угадала!» И вслух:
– Не могу объяснить… Мы с ней всегда находились только на полпути друг к другу. Всегда добавлялся знак вопроса. Конечно… Да… Я должен быть благодарен ей. Но никак не могу.
– Почему?
– Потому что она разбудила во мне смерть, – бросил я.
– Смерть?
– Да. Анестезия на все случаи жизни.
– Ты выражаешься очень сложно. Это не от чувства.
– И не надо.
Она попыталась прижаться ко мне, но мое тело продолжало лежать как колода.
– Что ты теперь будешь делать?
– Буду жить. В японской философии есть такое понятие «уаби» – это бытие без жажды становления.
– Вся философия сводится, в конечном счете, к изящному выражению: «Наплевать».
– Для хорошенькой женщины ты слишком умна. Это опасно. Как же с тобой говорить про любовь? Впрочем, этого слова, наверное, больше нет в моем словаре, – я поспешил сделать трагическое лицо. Потом не выдержал и улыбнулся.
Пока люди не насытились друг другом, им всегда есть, чем заняться. Поэтому целый день прошел на простынях. Без рассудочных мыслей и главное – без ощущения той чудовищной пропасти, которая зияла теперь у меня за спиной.
Последствия каждого шага непредсказуемы и никаких уроков нет. И было просто замечательно потерять голову от идиллических страстей. Растечься мыслью по древу и чувственным студнем по кровати. Вовремя завожделеть. Вовремя поиграть гранями отточенных образов. Пройти рука об руку самые счастливые годы. Пускай даже все потерять. Но в последний момент вспомнить главное, обернуться и крикнуть: «Я иду, Дея!» Отличная схема, уже поэтому не имеющая никакого отношения с действительностью. Детский сон, который затянулся.
Так и было, когда лет семь назад тот паренек, который теперь вспоминает об этом, заявился к своей единственной, femme fatale, grande amourense. «Проходи, Сергей, – встретила меня ее мать, – Ольга сказала, что ее нет дома…»
Люди говорят слишком много слов, фраз и даже речей о том, в чем в сущности ничего не смыслят. Если и есть исключения, то я к ним точно не отношусь. И было бы кромешной глупостью делать какие-то обобщения из моего куцего личного опыта. Возможно, добродетель и является панацеей от всех бед, и благодать неотвязно следует за ней. Но только это – удел одиночек. Не в смысле, что только редким избранникам можно достичь этого абсолюта, а в том, что такая категория ни в коем случае не перекладывается на двоих. Это не оправдание – скорее бандаж на то, что называется душой. Потуги акробата удержаться на поверхности, которая уже ушла из-под ног. Но улитка на то и существует, чтобы над раковиной иногда высовывались рожки.
– Ну что, дрянной мальчишка, совсем меня измучил, – в сентенциях теперешней моей женщины сквозила нежность и пресыщенность. – Подожди, мне надо подмыться.
–
Мне отвернуться?
–
Как хочешь.
Мое квелое тело застыло в робкой мечте о dolce forniente – спасительном ничего не делании… Я выдохся, выпустил пар, отдал швартовы и скрылся в тумане. Только запах кофе и тостов, поплывший вскоре с кухни, да скворчание яичницы на сковороде удерживали меня еще пока в констатированной действительности окрестного мира. Лучшего из лучших.
В каком месте он лучший? В жерле вулкана? В облаках городского смога? Или в доморощенном атомном грибе? Там, где сильный пожирает слабого. И это называется: «Закон природы». Или слабый превращает сильного в груду отходов. И это называется: «Закон цивилизации – нравственность и мораль».
Лучший из миров. И мы – «по образу и подобию» – квинтэссенция его миазмов. Помню, в детстве, еще совсем маленьким, я ловил лягушат и бросал их в костер. Мне нравилось смотреть, как с них облезает кожа. Я вылавливал рыбок из нашего аквариума и насаживал их на иглы моего любимого кактуса только для того, чтобы полюбопытствовать, что же будет. Жертвоприношение? Откуда! Я шинковал червяков, расстреливал голубей из рогатки. Вместе со всеми… Комары и тараканы не в счет. Откуда бралась эта природная жестокость маленьких извергов? Действительно, откуда?
«Лучший из миров» и «по образу и подобию» – мысли тавтологически повторяющие друг друга. Потому и лучший, что сам я по образу его и подобию. Будь он даже бесконечно гадок, все равно для «образа и подобия» – это «лучший из миров». И все равно здесь что-то не так. Даже в нем мы респектабельные монстры. Вирусы, беззаботно разрушающие приютившее нас существо.
Кто-то мне долго втолковывал про гомеостаз. Болезнь уже внутри и развивается. Защита разрушена, но организм до последней возможности держит марку. Потом происходит обвал, крушение, кризис, бойня, которая в любом случае разрешается. Либо ты, либо тебя. И в любом же случае те, кто был внутри, выходят в тираж. Это не оправдание собственной подлости и не оправдание вообще. Для того чтобы начать делать это, нужно заведомо ощущать себя виноватым. Мне надоело! Тошнит. И поцелуй молоденькой потаскушки для меня во всяком случае ценней и возвышенней всех лживых человеческих космогоний…
– Завтрак! (Он же обед и ужин), – Люба виновато ухмыльнулась, – подан, – и проследовала в комнату с подносом, нагруженными большими дымящимися чашками кофе и всякой снедью.
Мы соорудили из собственных коленей импровизированный столик и принялись восстанавливать растраченную энергию. Соседка засовывала мне в рот самые лакомые кусочки – маринованные мидии собственного производства, которые оказались чертовски вкусными, и перекладывала их ломтиками поджаренного хлеба. Яичница с помидорами закончила свое существование в мгновение ока. Допив кофе, я перемазал ее губы в вишневом джеме и скрупулезно слизывал приторную массу, стекающую по щекам к изгибу шеи. Люба хохотала и делала вид, что вырывается.
– Стой, глупая, всю кровать перемажем.
– Поздно, перемазали уже… Да. Да. Ой, нет, я щекотки боюсь! Все. ВСЕ! Не могу больше.
– Ладно, не буду тебя мучить.
– Вот уж нет!
После непродолжительной возни Люба вдруг, вспомнив, приподнялась на локте:
– Что ты будешь делать с тем мужиком?
У меня всегда захватывало дух от того, как грациозно умеют женщины убирать от глаз растрепавшиеся пряди волос. Поэтому потребовалась изрядная пауза, чтобы сообразить, о чем идет речь.
– Мужиком? Это не с ним, а со мной. Да и с чего бы? Не о чем спорить. У него в голове, возможно, и слишком серое вещество. Но только он не злой. Мужик и мужик. Тут женщину искать надо.
– Тебе?
– Я уже нашел.
– На долго ли… – если это был вопрос, то он остался без ответа.
Наш разговор продолжался от одного лица. Я решил мечтательно помолчать. Она могла бы так говорить, наверно, если бы меня и не было рядом. Только перебирала, лежа на груди, мои пальцы и почти шептала долгую историю своих петербургских перерождений. Друзья. Подруги. Романы. Неудачи. Жизнь, одним словом, которая теперь должна была впихнуться в трудовые будни этого пансионата. Я понимал ее. Мы были одного поля ягоды. И она это знала. Ощущала на уровне инстинкта. И поэтому можно было не отвечать, а только смотреть в наползающий сумрак, слушать ее голос, перемешанный с трескотней кузнечиков, и хоть на некоторое время забыть, что я не принадлежу больше этой реальности. Но, как не оттягивай сроки, все равно от них никуда не денешься.
Потом было утро. Утро нового для Любы рабочего дня. Мне оставалось только выскользнуть из ее квартиры и, пробравшись к себе, отсыпаться там до обеда. Отпуск как-никак. И еще было время хоть немного остыть и подумать о происшедшем. Стараясь нарочито не попадаться никому на глаза, я убрел в прибрежные скалы и занялся ловлей крабов на мелководье. Потом отпускал их в прозрачную уже воду, смотрел на морскую поверхность, так похожую на игру в бисер. Она не дает никаких ответов. Да и надо ли? Кожа слезала с меня чулком и зудела немилосердно. Но солнце уже не обжигало так жестоко. По высокому небу плыли редкие облака. Сотни рачков копошились под ногами в полосе прибоя. Мне нравилось наблюдать за ними. Нравилось двигаться. Лишь бы не думать.
Была уже кромешная темнота, когда я опять постучался в Любину дверь.
– Я уже думала, что ты не придешь.
– Я тоже так думал, – но, видя, как она опешила, поспешил добавить, – боялся чего-то.
– Чего?
– Себя, наверное…
Она сделала шаг назад и закрыла за мной дверь. Новое свидание было ничуть не хуже, чем воспоминание о первом.
Следующие дни потекли почти обыденной жизнью. Подъем. Завтрак. И снова в мою камерную постель. Долгое лежанье. И постоянные тренировки. Возня с фантастически нереальной способностью, которая обрушилась на мою сущность. С каждым разом делать это становилось все легче. Канал разработался, и уже не нужно было впадать в истерику или тратиться на испуг, чтобы протиснуться сквозь него. «Старик Павлов, – вспомнил я бабушкины слова, – оказался совершенно прав». Все безусловные рефлексы существовали вне какой-либо зависимости от присутствия сознания. Тело продолжало выполнять элементарные функции. Миллионы церебральных клеток напряженно исполняли свою работу. Сердце билось, дыхание сохранялось, желудок непрерывно переваривал пищу, а кишечник – даже выпускал газы. Не сомневаюсь, что если бы к пятке приложить горячий утюг, мышцы сократятся. Но меня прежде всего интересовал мир вокруг.
Во дворце действительно жили привидения. И как только сознание вырывалось из-за спасительных барьеров телесной защиты, они сразу же начинали сползаться отовсюду, творя ужас. Жуткий, липкий ужас. Он окутывал все ощущаемое пространство, от него несло нежитью, и к нему невозможно было притерпеться. Вот уже и ад под боком. И для этого вовсе не обязательно получать приглашение к Аиду.
Тяжелый туман, тянущий вверх свои щупальца, и прозрачные амебообразные тени были везде. Даже если я уходил в своих одиночных блужданиях на несколько километров от любых строений по почти пустынному берегу. Они существовали, то скапливаясь, то расползаясь, своеобразной изнанкой, скрытой переливающимися красками внешней стороны мира. Они рыскали по обратной стороне пространства, не в силах реализоваться. И Боже упаси нас от этой реализации.
Мое сознание не совершило прорыв назад, не стерло границы между мной и действительностью, не вернулось к тому состоянию, когда мир со всеми его духами и человек существовали в едином целом. Нет, оно еще более индивидуализировалось. Оно оторвалось не только от ощущения первозданного бытия, что сделали уже почти все, очутившиеся в этот временной промежуток в качестве живых людей планеты Земля. Оно уже не сознавало себя и тем, что кровь от крови, плоть от плоти. Все мое существо собралось в некую капсулу. И это яйцо становилось золотым, и зародыш больше не желал выходить наружу.
В любой выдуманной системе мироздания есть точка, за которой теряются все объяснения. Если у одной части рассуждающих в основании всего лежит материя, которая первична и бесконечна (на последнем слове почва окончательно уходит у меня из под ног), то другая упирается в Демиурга, Бога, Брахму, кастанедовского Орла Творения, наконец. И каждый из них точно так же необъясним. Порожденные ими монады, энергетические коконы или еще чего похлеще соединяются с нашими бренными телами и вот он я – человек? «Что есть человек?» – выплывает ехидный вопрос сфинкса. Но я не Эдип, хотя и его судьба не скупилась на метаморфозы.
Какого черта! Мое «я» вперли в мое же новорожденное тело. И это насовсем? А что потом? Ладно, всерьез заниматься всеобщими вопросами, только увеличивать количество глупости на земле. Но вот конкретное маленькое эго с душой в оболочке. Получается, что оно одиноко по природе. И только тело может собирать в себе частички своих близких: «На кого это наш Васенька похож – на папу или на маму? А может на прапрадедушку? Ну, вылитый он!» В моем сознании нет памяти поколений. Содержание сосудов не сообщается. «Оно» – это «оно». От начала и до конца. И, видимо, это к лучшему. Оно – спасение от жуткого опыта человеческого существования, скепсиса и разочарования стареющих эпох. Новая жизнь приносит с собой максимализм нового созидания. Или разрушения. К лучшему, к худшему, только я существую – цельная сущность, а не стечение обстоятельств. Смертная, бессмертная – наплевать. Одно это и сохраняет мою надежду.
Я продолжал слоняться по берегу. И обмусоливать свои новые возможности. Способность по желанию стать «другим человеком» могла освободить от любых устоев человеческого общества, даже от смерти. Не могла только освободить меня от меня. Переселившись в англичанина, я смог бы, наверно, говорить на чисто британском диалекте, но только после того, как выучу английский язык. Да, менять тела как костюмы на выход – довольно забавно. Развлекает даже. Но ведь это – не детская сказка, где можно рубить головы направо и налево. Подумаешь! Потом новые отрастут.
Все дальнейшее сливалось в несуразную беспорядочную кашу. Смесь из пейзажей, начерченных на ослепших от солнца страницах, обрывков фраз, моря, урчащего под обрывом, соленого ветра, несущихся по степи шаров перекати-поля, стада гусей и двух индюков со свитой, обитающих у хозяйственных пристроек. Мельтешение жизни медленно тонуло в водовороте времени. И, облокачиваясь взглядом на расцветающий закат, я поднимался и шел к столовой за очередной порцией курятины. Потом была Люба. Для того, чтобы удовлетвориться друг другом, нам уже не нужна была целая ночь. Мир не переставал существовать вокруг. Хватало и двух часов интенсивного выжимания чувственности из тел. Иногда мы встречались и днем. Пили чай в ее комнате и болтали ни о чем. И всякий раз я перехватывал ее брошенные украдкой напряженные взгляды. Потом снова был Любин выходной, и мы поехали в город. Залезли на гору, где у самой вершины еще со времен греческой цивилизации торчали несколько колонн дорического стиля. Местный тиран, давший имя горе, по преданиям историков так приучил себя к яду, что в нужный момент не смог умереть спокойно и был заколот невольником. Бедный раб! Что-то потом с ним стало? Спросить бы моего всезнайку-археолога. И не только об этом.
Исторический музей оказался слишком официозен. Черепки, осколки, подвиги защитников, скелет маленькой девочки, принесенной в жертву упрочению стен местной цитадели. С человеческой жизнью никогда не церемонились. Вот смерть – совсем другое дело. Потом мы отправились в тот самый бар и пили кофе с пирожными и птичьим молоком. У стойки скучал все тот же бармен. И потом, когда я решил добавить к посиделкам немного коньяку и подошел к стойке, вопрос слетел сам собой, не удержавшись на языке:
– Скажите, а с тем мужчиной, которому тут было плохо неделю назад, что теперь?
– А? – Он присмотрелся ко мне. – Ты тоже тогда приходил. Угу. Михал Иваныч? Лежит как бревно, ни на что не реагирует. Врачи талдычат: «Кома. Нужно подождать». Не очень-то я в это верю.
– Да. Дела.
«Значит, не возвращается. Никогда».
Прошло двенадцать дней. Вечером мы пошли гулять подальше от пансионата, парка и отдыхающих. Вокруг была только степь и море под глинистым обрывом. Звезды еще только начали проступать на фиолетовом небе. Дойдя до пригорка с обломанными клыками нескольких скальных выступов, Люба остановилась:
– Прощай! – вдруг выдавила она. Я поднял глаза. – Не приходи больше. Я начинаю к тебе привязываться, а это бессмысленно… Уже не зн аю, смеяться мне или плакать, когда ты являешься.
– Остался один день.
– Тем более… Уходи…
И все-таки я сделал шаг, задрал ей подбородок и поцеловал в губы. А потом развернулся и пошел в темноту, очень надеясь услышать всхлипывания за спиной, и кроме шелеста моря ничего не услышал. Все более толстые пласты темноты ложились между нами. Но они только усиливали напряжение. Альтернатив не существовало. Что можно сейчас предложить взамен?! Тупая ярость вползала в меня и шаг за шагом только сильней распалялась внутри.
Пансионат проступил на фоне почти черного неба силуэтом средневекового замка, очертанием пристани в море обетованного, точкой отсчета для следующего скачка.
«Все равно завтра уезжать. Все равно». Коридор второго этажа оказался совершенно пуст. И оставалось пройти всего несколько метров до моего обиталища, когда из соседнего номера вышагнула соседка – она была здорово пьяна – и уставилась на меня. Глазки поблескивали.
– А, соплячек. Что, отшила тебя наша маленькая шлюшка? – Губы расплылись в слюнявой улыбке. Не нужно было ей этого делать! Поравнявшись, я шандарахнул ее кулаком в ухо и проникновенно выдохнул:
– Гуляй, родная!
Она отлетела к стене и замерла там на несколько секунд, соображая, что делать. Мне надо было поскорей убраться восвояси, но время уже ушло. Тетка опомнилась, заверещала и бросилась на меня, растопырив ногти. Я лишь успел перехватить руки и уклониться от зубов. Только след помады размазался по щеке от носа до уха. Прежде чем она успела еще что-нибудь натворить, мне удалось резко завернуть ее руку за спину и, ухватившись за волосы, протолкнуть в проем приоткрытой двери. Она налетела на комнатное кресло и запуталась в собственных тряпках.