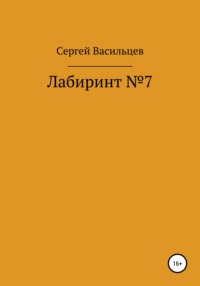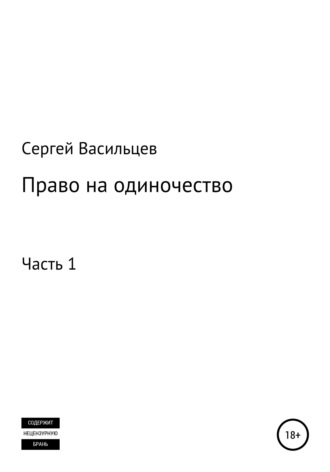 полная версия
полная версияПраво на одиночество. Часть 1
– У него и деньги есть! – Наш командир обрадовался возможности бортонуть членовредителя. – И ехать всего три остановки.
– Трамвайных. – Серьезно добавил я – для убедительности.
– Черт с вами! – мужик проникся ситуацией, – Грузите багаж.
И мы втиснули внутрь снова обмякшего математика и дружно смотрели вслед, якобы запоминая номер…
– Откуда ты знаешь, что только три остановки? – спросил я Николая, когда машина отчалила.
– Дальше бы не повез. Как пить дать! – И мы пошли считать фонари на ночных улицах.
Следующие несколько недель напоминали игру в крестики – нолики. Дни то перечеркивались набором проблем и действий, то зияли тянущей пустотой. Наша компания за все это время собралась лишь однажды. Инициатором оказался Николай. Он уже около года как перевелся из округа в штат одной из Военных Академий. И та (милитаристская же контора!) имела отличную базу на Карельском перешейке со спорткомплексом, двумя банями, озером по соседству и даже конюшней.
Добирались на казенном «УАЗике» – жестковато, зато надежно. Полная комплектность к тому же. Доехали, короче. И для начала решили размяться. Николай, как положено, гарцевал на ухоженном ахалтыкинце. Остальные, поглядев на Сашку, который выглядел куль-кулем даже на самой смирной тамошней кобыле, решили ограничиться лыжами. Сашка поездил минут десять, задницу себе отшиб и к нам присоединился.
– Шенкеля у меня не тренированные, – резонировал он под прибаутки остальных членов нашей маленькой банды. – В этом все и дело.
Так и двигались – Николай впереди на лихом коне. Остальные следом – гуськом на лыжах – кто как умеет. Лес, только что принявший обильный снегопад, был великолепен. Воздух почти прозрачен. И даже солнце иногда показывалось из-за высоких белых облаков, обжигая наши глаза своим помноженным на мириады отражений блеском. Прогулка удалась. Все вымотались, вывалились в снегу и были чрезвычайно довольны.
По программе следовала банька с можжевеловыми вениками и прыганьем в снег прямо из парной – лежишь себе в свежем сугробе, пока холод тысячами иголочек не начнет впиваться в тело, подскакиваешь и опять в жар парилки. Или еще лучше – влетаешь с холода и тебя тут же тазиком горячей воды – почти кипятка – заорать еще не успел, а уже летит вторая порция – ледяная, аж со снегом перемешанная. Кайф!!! Лучше всех душей Шарко вместе взятых. Но и про передых забывать не стоит.
Так и присели мы с Николаем, покуда остальные догонялись в парной, и там распространялось дружное кряхтение и свист добротных веников.
–
Каменею, Серега, – говорил присевший на притолоку Николай. – Если оставаться в этой системе, надо готовиться к полковничьей должности до отставки и вживаться в неуставные взаимоотношения. Знаешь, старик, что тут главное? Тебя уже дрюкнули, а ты продолжаешь задорно улыбаться. – Он махнул рукой и поплотнее закутался в простыню. – Звездчатые карьеры делаются теперь не в горячих точках. Но и не здесь! А что делать – сокращаться? И куда? С моей специальностью – только к браткам под крыло. Да еще с языками. Сечешь.
–
Не очень.
–
И не надо. Детей хочу. Не меньше двух. И главное – мальчика. Надо бы для них мамашу подыскать. Домовитую бы – по деньгам. И чтоб с изюминкой. Вот твоя Катенька мне бы как раз подошла.
–
А мне?
–
А тебе нет…
Я промолчал. Холод уже продрался через распаренную кожу. И мы дернули к дверям, затянутым облаками пара, навстречу уже вылетавшей из них троице.
Не знаю, отчего память выдернула эту сцену из ряда других событий. У нее – у памяти – свои пристрастия. Но именно тот день остался в мозаике прожитой жизни ограненным особенно тщательно.
Прошло три месяца, норовившие свернуться в завитки бесконечности. И все-таки прошли. И теперь кроме ночи в моей комнате оставались только двое – я и Катино письмо. Что ж, можно было подвести итоги.
Все это время я знал, что именно так оно и должно было произойти. И не хотел этому верить. Забивал себе голову попытками трудиться, болтовней и разовыми развлечениями, на которые почти не обращал внимания. И главное – они тоже оставляли меня в стороне. И еще – я ни на секунду не забывал о своих возможностях и не переставал заниматься их тренировкой. Как бы невзначай, от нечего делать, но снова и снова, и без конца, и где только можно. Если удавалось усесться в метро по дороге на работу. Сидя за рабочим столом, будто в глубокой задумчивости. А уж дома на диване – и подавно. Это было сродни оргазму, очищению, обновлению, вылуплению из куколки собственной жизни.
Голова заваливалась на бок, руки безвольно свешивались вдоль тела, если их не удавалось пристроить в качестве подпорок для подбородка… Народ реагировал спокойно. «Начифанился парень. Бывает». И я уходил из себя и возвращался. Уходил и возвращался. И так без конца. И следил за происходящим с одержимостью естествоиспытателя.
В результате появилось умение блестяще ориентироваться в пространстве, четко различать предметы и даже отделять живое от неживого. То, что стало моим новым зрением, без труда отличало человека полного сил от того, который умрет уже через пару месяцев. Я видел, как жизнь пульсирует внутри человеческих тел. Из меня мог бы выйти блестящий диагност, но сладить с ужасом пустоты так и не удавалось. Сероватые амебы с обратной стороны пространства не давали мне этого сделать. Не успеешь как следует оглядеться по сторонам, а запредельная жуть уже гонит обратно в спасительный кокон тела. И этот непробиваемый доспех сразу делал потусторонними все бушевавшие в пространстве энергетические потоки. Я жил в нем, действовал в материальном мире и все-таки начинал ощущать свое узилище как рак панцирь во время линьки.
Двигаться вовне оказалось проще простого. Сила желания порождала событие. Но куда сбежишь от того, что всегда с тобой… И только раз мне удалось задержаться в пространстве между жизнью и смертью. В Доме Господнем. Мое тело примостилось на сундуке уборщицы в укромном уголке Казанского собора. Шла служба, и народ – по большей части любопытствующие и туристы – толпился у алтаря. Мне ничего не стоило прикинуться задремавшим бродягой, притулиться к стенке для большего равновесия и броситься вон от тела…
Собор со всеми архитектурными изысками тянулся в высоту. Люди продолжали стоять плотной массой, но перестали делиться на молодых и старых, а различались лишь оттенками живого и неживого. У меня было достаточно времени оглядеться по сторонам – холодных, серых теней, всюду тянущих свои щупальца к моему высвобождавшемуся существу, здесь почти не было. Зато было нечто, простирающееся вверх – сквозь габариты здания во внешнее пространство. Путь, лестница, лифт – если оперировать терминами нашей технократической цивилизации. И такие же амебообразные создания, только светящиеся – я чувствовал это – изнутри теплым розоватым светом, двигались вверх и вниз вдоль этой протяженности, отгороженные от остального пространства неощутимым, но непреодолимым барьером.
«Лестница Иакова…» – мелькнуло во мне. И я замер, вглядываясь в ее движение, пока новый ужас помноженный на боязнь обнаружить собственное тело уже занятым сгустком серой субстанции не погнал меня прочь.
Лестница Иакова. Почему бы и нет? Попробуй, опиши образами многотысячелетней давности самолет или танк. А мировая война? – Армагедон, Ригнарёк и Апокалипсис вместе взятые. Древние выражали себя как умели. И мы тоже. Разные слова об одном и том же. Тем более, если речь идет о постижении чуда.
Я так и сидел на подвернувшемся сундучке и смотрел на алтарь, туда, где опирался на землю тоннель в запредельность. Смотрел и ничего не видел. Служба продолжалась, пока не кончилась. И горожане покидали своды собора, чтобы под сводом питерского неба, источавшего снег с дождем, расползтись по своим закуткам. И я брел под этим небом, а перед глазами медленно пульсировал упертый в небо сияющий столп. Губы сами перебирали бусины слов, составляя рамку для этого образа.
А рядом, почти отражаясь в залепленных снегом витринах, шествовал волшебник Гурджиев, и его голос с мягкими восточными интонациями воспроизводил историю о том, как беседуют два господина на темы мироздания. Их рассказ слышит ключница и пересказывает его конюху. А тот идет в деревню поразвлечь своих приятелей. И вся компания ржет до колик, потешаясь глупости своих хозяев. Как же – мужик барина ущучил.
Маэстро делает паузу. «Вот так, молодой человек, – отдается в моих ушах его акцент, – и с Писанием, которое уже тысячелетия делают программой жизни целого человечества. Так-то-с. Моисей, он же Мозес, был сводным братом Фараона и египетским первосвященником. То есть религия, преподанная в Ветхом Завете, идет прямо от Египта и от него же восходит к Атлантиде и истокам человечества. Что он писал, опальный посвященный? Шифр. Криптограмма. Прейскурант жизненных ценностей. Да-с. Еврейского народа и не существовало, пока Мозес не создал его, собрав разрозненные племена кочевников и рабов для поклонения своему Богу. Но что же дальше? Пророк ломал людей и создавал новый уклад. Новый закон ложился в тексты, записанные языком храмов древних богов. И значит, они имели не менее четырех смысловых уровней, начиная от традиционного повествования и кончая символами, понятными лишь узкому кругу, впитавшему всю мощь знания предшествующих поколений».
И что же потом? Потом ее – Библию переводили на греческий и …, и …, и, наконец, мы читаем, что «Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было Бог». И мир создан за шесть дней, а на седьмой Творец увидел, что это хорошо, и решил отдохнуть. И мы возмущаемся: «Что за чушь!» Но догматы незыблемы, и нам остается думать только, что Бог «так захотел», а «пути Господни неисповедимы».
–
Смотрите, что написано в стихе таком-то! – говорят мне Свидетели Иеговы. – Вчитайтесь, и Вы поймете, сколь велика мощь Слова Божьего.
–
Где тут хоть одно Божье Слово? – интересуюсь я.
–
Ну как же, – удивляются они. – Это же БИБЛИЯ! Давайте, мы Вам поможем.
–
Заходите, отчего же, – говорю я, – у меня как раз ремонт, и мебель нужно двигать.
…
Тем не менее, сила учения была такова, что сумела тысячелетия сохранять единство созданного им народа, лишенного собственной территории. Народа разбредшегося по всем странам и континентам. Народа гонимого и тем не менее прямо или косвенно навязавшего свои традиции развитию всего человечества. Традиции более прочные и незыблемые, чем камни Стоунхенжа.
Но что же все-таки потом? Явился Спаситель, но сам ничего не писал. Собрал вокруг себя компанию всякого отребья – от рыбаков до мытарей – и притчи им рассказывал, устроил скандал с почти что сознательным суицидом и был таков. Остались только тексты, которые его же ученики и передавали. Своими словами, разумеется.
И теперь, когда учение бродяги-проповедника, проникнутое величайшим презрением к земной жизни, действительно разнеслось по миру, став фундаментом человеческой культуры, все ищут истоки чуда. Где оно? В воскрешении Лазаря? В Воскресении?
Религия Рима умирала. Умерла и уже разлагалась. Но разве это может быть единственной причиной? И до, и после проповедники приходили и умирали. Мучительно и бесполезно. Время и место? Или путь? Воскреснуть в собственном теле? А зачем? Было и остается что-то еще. Что-то еще, которое помимо привычек и традиций вынимает сознание из скорлупы быта, опрокидывая в бытие. Расплывчатая надежда, которая двигается рядом с Христианством даже сквозь эпоху воцарившегося нигилизма.
Чем больше достаток, тем прочнее его скорлупа. Человеку самодостаточному уже нет необходимости искать дополнительные стимула. А самодостаточность может статься и материальной – от «Мерседеса» до золотого унитаза. Но в этом огромном человеческом муравейнике всегда найдутся судьбы с развороченным и кровоточащим духом. И даже отравившись ядом новых чужеродных культов и сект, все равно человек не может уйти от опеки эгрегора (ангелов-хранителей, если не выражаться) своего собственного народа, неразрывно связанного для русских с тысячелетней историей православия.
И потому я ходил в храмы, пытаясь угадать за вычурной декоративностью мощь духовности. А находил лишь силу традиций. Намоленные иконы не брали в себя жизнь. Там было другое, уже вне моего восприятия. Лестница Иакова, тянущаяся за пространство и время.
Она гнала меня прочь. И каждый следующий шаг делал сознание все более чуждым этому миру. Живущий во мне человек изо всех сил пытался удержать рамки окружающей действительности. Но та, другая часть моего существа все настойчивее требовала только одного: «Делай, раз ты на это способен!»
И я не лез к судьбе за разъяснениями – она этого не любит. Так и метался между смертью и бессмертием – сентиментальный убийца, зараженный толстовщиной. Жизнь окончательно запуталась. Но я не чувствовал, что хотя бы день, хотя бы час в ней оказался лишним. «О чем жалеть?!» О том, что я не превратился в каменного истукана после смерти Ники? Поигрался. Причинил боль другой женщине? Кому-то еще? Но ведь была же и радость! А все происшедшее потом? Случилось то, что случилось.
Гнусное оправдание. Но и его мне оказалось достаточным. Выходит, что я и не любил никого. Кроме себя… Но раз никого, значит и себя тоже. Игра в слова для форсу? Может быть и так. Все это было уже отчеркнуто за спиной жирной линией неопределенного цвета.
Tant mieux – тем лучше, как говорят французы. История продолжалась. И я вошел в дом и раздернул шторы навстречу хлипкому зимнему свету, скупо облизавшему стены нашего двора-колодца. Скоро новый год. Потом новый век. Новое тысячелетие. Новая жизнь.