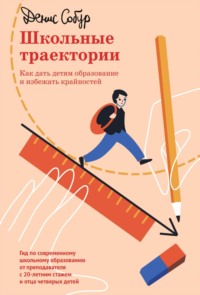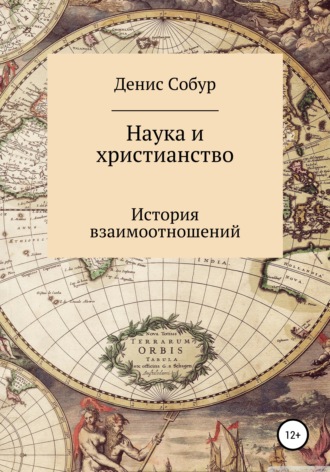 полная версия
полная версияНаука и христианство: история взаимоотношений
В зависимости от того, какой смысл мы вкладываем в понятие веры, мы получаем упомянутые выше четыре модели: августиновское «верю, чтобы понимать», «понимаю, чтобы верить» Абеляра, «верую ибо абсурдно» Тертуллиана и концепцию «двойной истины» у Сигера.
Для Православной Церкви споры о соотношении веры и разума не были столь актуальны. На Западе достаточно рано человек начал восприниматься как совокупность независимых душевных сил. Разум, воля и чувства воспринимались скорее как автономные аспекты человека нежели как его различные грани. Восток же, напротив, предпочитал говорить о единстве личности, в которой чувства, вера и разум не противопоставляются. Западному взгляду на веру, как на акт воли, было противопоставлено понимание веры, как образа жизни всего человека, состояния его бытия.209 Различия между восточным и западным пониманием личности отчетливо проявились в XIV во время спора Варлаама Калабрийского и святителя Григория Паламы, речь о котором пойдет позднее.
Если мы придерживаемся Православного понимания термина «вера», то данные модели соотнесения веры и разума воспринимаются как его частные проекции. Действительно, познание начинается с доверия авторитету, как считал блаж. Августин. Следуя Абеляру, разум помогает человеку усваивать истину веры. Но, дойдя до некоторой грани, разум признает свою ограниченность и неспособность объяснять глубины Божественного бытия, согласно Тертуллиану. В то же время, в области естественных наук, разум получает относительную автономию, допуская, что научные вопросы могут быть разрешены с опорой исключительно на разум. Основной недостаток позиции Сигера Брабантского состоял в том, что он допускал возможность противоречия истин веры и разума. В то же время, как будут неоднократно подчеркивать великие ученые-христиане, истины разума и истины веры не могут противоречить друг другу, поскольку имеют своим источником одного Творца.
Преодоление аверроизма. Фома Аквинский и Бонавентура
Изучение наследия Аристотеля приводило к бурным философским диспутам. Если Сигер Брабантский и его последователи допускали возможность существования двух противоречащих друг другу истин, то для большинства это выглядело абсурдом. Первые осуждения некоторых положений Аристотеля происходят уже в начале XIII века. Так в 1231 году, по распоряжению Григория IX аристотелевские работы были выведены из университетских программ до исправления. В результате наметилось два основных пути усвоения Аристотеля: 1) христианское осмысление аристотелевских тезисов, близкое к тексту, 2) усвоение Аристотеля через призму Августина. Первый – путь доминиканца Фомы Аквинского, второй – францисканца Бонавентуры. Общим для обоих монахов был поиск гармонии разума и веры.210
Фома Аквинский
Фома Аквинский по праву может быть назван одним из крупнейших философов Запада. Именно ему удалось примирить философию Аристотеля с христианским Откровением. Для Аквината философия не противоречит вере, напротив, она есть предтеча веры. И философия, и вера говорят об одном и том же предмете: о мире, о человеке, о Боге, но делают это разными методами. Путем философских рассуждений, полагал Фома Аквинский, можно доказать некоторые богословские истины, например, существование Бога, бессмертие души, сотворение мира. В то же время, возможности рационального познания человека ограничены. Например, философия не может доказать Троичности Бога, тайны Воплощения, Искупления. Это не значит, что эти догматы противоречат разуму. Правильнее было бы сказать, что они превосходят разум, указывают на его ограниченность. Теология, имея своим источником Божественное откровение, способна говорить об этих тайнах.
В своей полноте богопознание доступно лишь самому Богу. Но, поскольку Бог сам желает открыть Себя человеку, человек через Откровение способен познать Бога. Фома Аквинский не отвергает научного знания. Напротив, на научное знание можно опереться для защиты христианства от язычников и иноверцев.211 Именно в таком смысле Фома повторяет популярный в Средние века тезис: «философия – служанка богословия» Но понимание ограниченности человеческого разума приводит Аквината к учению о подчиненности научного знания богословскому. Как пишет о его позиции В.П. Лега: «теология всегда может контролировать истины, которые открываются наукой. Если эти истины противоречат христианским положениям, то Церковь должна поправить науку и указать ей на более истинную точку зрения».212 «Заблуждение, разделяемое многими», поясняет мысль Фомы Жильсон, «состоит в принятии того, что благодать морально облагораживает людей, и неприятии того, что откровение может облагораживать философию как философию, – в такой позиции нет логики. Благодать не подменяет, но облагораживает природу».213 Воздействие теологии не уничтожает философии, вера не подменяет собой разум, но обновляет его, открывая ему новые вершины. Дж. Реале так поясняет позицию Аквината: «будучи апологетом, не следует упускать из внимания то, что разум образует нашу сущностную характеристику: не пользоваться им, значит, не уважать его природных требований. Такое умаление не оправдывает даже ссылка на Всевышнего».214 Таким образом, Фома Аквинский продолжает традицию «разумной веры», восходящую Клименту Александрийскому. Разум является преамбулой веры, ступенькой на пути к ней.
Бонавентура
Другую позицию по отношению к трудам Аристотеля занял знаменитый францисканский философ Бонавентура (1217-1274). Бонавентура в своей философии опирается на традицию платонизма в преломлении блаж. Августина. Признавая авторитет Аристотеля в области физики, в области философии Бонавентура предпочитал Платона. Труды блаж. Августина он предпочитал им обоим. Для Бонавентуры познание внешнего мира не является самостоятельной ценностью. Оно имеет смысл лишь как поиск семян божественного замысла в сотворенном мире. Главным недостатком аверроистов и Аристотеля Бонавентура считал забвение платоновской теории идей. «Не брать в расчет идеи, посредством которых Бог, по мысли Платона, сотворил мир, значит, видеть в Творце только финальную причину, понимать его как Творца без творчества, высокомерно замкнутого в самом себе и безразличного к происходящему в мироздании», – уточняет его позицию Дж. Реале.215 Отсюда, по мнению Бонавентуры, и вытекают все заблуждения аверроистов.
Познание Бога для Бонавентуры происходит на основе глубинного внутреннего опыта. И философия и Откровение ведут человека к Богу. Даже идущий путем философии все равно использует в своих рассуждениях некий критерий истинности. Для Бонавентуры этот критерий истинности и есть Божественный свет, помогающий отличать истину и ложь. Для вступления на путь философии необходимо поверить, что истина существует и что разум может найти истину. Как верный последователь блаж. Августина, Бонавентура верит, дабы начать понимать. Продолжая свои рассуждения, Бонавентура утверждает, что даже те, которые верят в Бога неправильно, все равно верят именно в Бога, верят в Его существование. Человеку врождена идея существования Бога, поэтому любой искренний человек стремится к истине, к Богу. Чувственный опыт и рациональные рассуждения помогают человеку лучше понять имеющееся у него от зачатия представление о Боге. Но философия не дает человеку идею Бога, идею истины – все это есть в нем изначально.
Доказательства бытия Бога
И францисканцы, и доминиканцы были согласны с тем, что разум и вера находятся в тесной взаимосвязи. Разум может помочь людям, ищущим Бога, пытающимся прийти к нему. В то же время и те и другие признавали, что сам по себе разум является лишь помощником, и сам по себе веры дать не может. Его роль заключается как в устранении рациональных препятствий на пути веры, так и, напротив, поиске аргументов в пользу веры и Откровения. В истории философии логические аргументы в пользу существования Бога получили название «доказательств».
Проблема доказательств бытия Бога широко обсуждалась в эпоху схоластики. В то же время нужно отметить, что термин «доказательство» здесь не вполне удачен. «Доказательства» бытия Бога не являются доказательствами в смысле, скажем, теорем математики. Математика говорит нам о вопросах, которые могут быть познаны человеческим разумом. Бытие Бога заведомо превосходит рамки человеческого познания. В математике можно допустить, что процесс доказательства приводит от исходных положений к результату с логической необходимостью. Когда же логика применяется к познанию божественного, она может лишь помочь ищущему истину человеку. Но бытие Бога в любом случае не может быть познано разумом человека. В этой области познание инструментом познания становится вера. Конечно, это не значит противоразумности веры, но, скорее, означает ее сверхразумность. Человек становится перед необходимостью делать тот или иной выбор в ситуации, когда рациональных аргументов недостаточно.216 Таким образом, правильнее было бы назвать эти рассуждения не доказательствами, а аргументами в пользу бытия Бога. Эти аргументы не доказывают, а лишь указывают на бытие Бога, основываясь на нашем разуме.
В Средние века выделяли две категории аргументов в пользу бытия Бога: априорные217 и апостериорные218. Апостериорные доказательства основываются на внешнем опыте человека, на наблюдениях за окружающим миром. Априорные аргументы, напротив, основываются на рефлексии, на изучении человеком своего внутреннего мира. Как и следовало ожидать, своими корнями, апостериорные доказательства восходят к Аристотелю, а априорные к Платону и Плотину. Доминиканец Фома Аквинский в своих трудах предпочитает доказывать бытие Бога на основе внешнего мира. А его современник, францисканец Бонавентура предлагает искать Бога через внутренний мир человека.219
Апостериорные доказательства
В своих рассуждениях Фома Аквинский исходит из того, что мир неизбежно несет на себе печать Создателя. Мир подобен стреле, наблюдая полет которой мы неизбежно приходим к выводу, что, во-первых, некто эту стрелу запустил, а во-вторых, что этот некто хотел поразить стрелою некую мишень. Аквинат, следуя Аристотелевской философии, формулирует следующие доказательства бытия Бога:
Кинетическое. Жизненный опыт свидетельствует нам, что всякое движение возникает лишь за счет внешнего воздействия. Действительно, ни одно тело не может быть источником собственного движения. Поскольку мы видим, что мир движется и изменяется, то, очевидно, существует Перводвигатель, неподвижный и являющийся источником движения в мире.
Всякое действие в мире имеет свою причину, которая в свою очередь также имеет причину. Продолжая такой ряд, мы либо уйдем в бесконечность, либо придем к Первопричине. Но, рассуждает Фома Аквинский, бесконечный ряд причин делает саму концепцию причинности бессмысленной. Если не было бы первой действующей причины, то не было бы ни промежуточной причины, ни последнего действия.
Все окружающие нас вещи возникают и исчезают. Они могут, как существовать, так и не существовать. Но ведь в таком случае, за время существования мира, все могло бы уже исчезнуть. Более того, начать существовать нечто может лишь благодаря тому, что уже существует. Ведь если бы изначально ничего не было, то сам по себе мир не мог возникнуть из ничего. Значит, должно быть что-то, чье существование не только возможно, но и необходимо. Конечно, речь идет о Боге.
Окружающий нас мир иерархичен. Есть, например, более добрые и менее добрые люди. Но сама идея сравнения подразумевает наличие некоего эталона, абсолютной доброты, благородства, совершенства. Для Аквината таким эталоном добра, благородства, красоты выступает Бог.
Телеологическое. Наблюдая окружающий мир, мы видим, что даже неразумные вещи ведут себя так, будто стремятся к некой цели. Если мы видим стрелу, попадающую в цель, то предполагаем существование лучника, пославшего ее туда. Подобным образом, за удивительным порядком неодушевленного мира, Фома Аквинский усматривает существование его Творца.
Онтологическое доказательство
В то время как последователи Аристотеля стремились обнаружить Божественную премудрость через рассматривание Творения, сторонники Платона шли другим путем. Ими было сформулировано т.н. онтологическое220 доказательство бытия Бога. Данное доказательство, опирающееся на существующую в душе каждого человека идею существования Бога, встречается уже у Плотина и блаж. Августина. Оно было четко сформулировано в трудах Ансельма Кентерберийского (1033 – 1109).
Сама идея онтологического доказательства пришла к Ансельму во время размышления над стихом Псалтыри «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога» (Пс 13.1). Ансельм пришел к выводу, что высказывание «Бога нет» содержит в себе некое логическое противоречие, почему говорящий так и назван безумцем.221 Действительно, рассуждает Ансельм, адекватное мышление не может помыслить Бога несуществующим. Следующее рассуждение иллюстрирует ход его мыслей.
Всякий, кто говорит: «Бога нет» (атеист или упрямый глупец из Псалма), знает, что речь идет о наивеличайшем из всего мыслимого существе. Но тут Ансельм приходит к противоречию: Если Бог тот, больше которого нельзя помыслить, то мысль о Нем неизбежно содержит в себе его бытие. Ведь человеческий разум не может адекватно мыслить Того, больше которого не может быть, существующим лишь в ограниченном человеческом разуме. Когда мы рассуждаем о наивеличайшем из всех существ, мы всегда воспринимаем его как реально существующее. Не один человек не признает величайшим из всех существ выдумку, существующую лишь в человеческом разуме. Отрицая бытие Бога, безумец из Псалма совершает логическую ошибку. Либо он должен отрицать бытие не Бога, а некоего ограниченного плода своей фантазии. Либо он действительно говорит о Боге, но тогда ему придется признать, что он может помыслить Бога лишь реально существующим. Идея Бога не может быть промыслена как несуществующая. Как писал Декарт: «Отделять существование Бога от его сущности столь же немыслимо, как отделять от сущности треугольника свойство равенства трех его углов двум прямым или от идеи горы – идею долины: ведь мыслить Бога (то есть наисовершеннейшее бытие) лишенным существования (то есть некоего совершенства) так же нелепо, как мыслить гору без долины».222
Рене Декарт XVII веке выразит рассуждения Ансельма в несколько другой форме: «Бог, «по определению», есть наиболее совершенное Существо и поэтому обладает всеми положительными свойствами (знанием, могуществом, благостью и т.п.). Существование есть одно из положительных свойств, поэтому Бог обладает существованием».223 Невозможно представить себе Бога несуществующим, ибо это противоречит самому понятию Бога. Если мы мыслим себе Бога, то мы мыслим Его Всесовершенным, а значит существующим. То есть понятие существования Бога выводится из самого понятия Бога.224
Для лучшего восприятия, С.Л. Франк сравнивает логику онтологического доказательства бытия Бога с другим онтологическим доказательством. Рассуждая об изучении мира, Декарт ищет надежное основание, на котором можно построить знание. Он начинает сомневаться во всем: в существовании окружающего мира, в достоверности органов чувств, наконец, в достоверности логики. Возможно, рассуждает Декарт, «злой гений, столь же хитрый и лживый, сколь и сильный, чтобы обмануть меня, изобрел всю эту индустрию лжи».225, 226 Но, даже если действительно это так, продолжает он, то, значит, существует мыслящий, тот, кого этот дух пытается обмануть. Следовательно, заключает Декарт, я могу быть уверен в том, что сам я, тот который мыслит, существую. Cogito ergo sum – я мыслю, значит я существую. С.Л. Франк приводит это рассуждение как типичный пример онтологического доказательства: понятие о мыслящем не может быть отделено от его бытия. Он пишет: «Декарт говорит нам: кто раз имеет понятие «я», кто мысленно уяснил себе, что такое есть «я» (т. е. имеет содержание этого понятия), тот тем самым сразу и необходимо имеет и реальность «я».227 Собственное «я» невозможно адекватно помыслить несуществующим. Человек утверждающий: «меня – нет», совершает явную логическую ошибку.228 Рассуждения Ансельма ставят целью показать, что таким же нарушением логики является утверждение «Бога – нет». Это доказательство обращено не во внешний мир, а, напротив, обращается к внутреннему опыту. Из внешнего мира невозможно познать, что «я – существую». Так же и истина бытия Бога познается человеком в глубинах его души.
Онтологическое доказательство в дальнейшем встречается у многих философов, в частности, у Бонавентуры, Декарта, Лейбница. С самого своего возникновения оно вызвало бурную критику – его отрицал, скажем, Фома Аквинский. И. Кант считал, что ему удалось опровергнуть и рассуждения Фомы и доводы Ансельма. Но онтологическое доказательство получило дальнейшую жизнь в трудах Гегеля, С.Л. Франка, Н.О. Лосского.229 Исследования Норманна Малькольма, опубликованные в 1960 г., показали, что Ансельму удалось доказать, что «понятие возможного существования или возможного несуществования не могут быть применимы к Богу. Существование Бога либо логически возможно, либо логически невозможно».230 То есть, согласно Малкольму, утверждение «может быть Бог есть, а может и нет» лишено логического смысла.231 Ни кто иной как, знаменитый философ и атеист Б. Рассел признал: «Ясно, что к аргументу с таким историческим шлейфом следует отнестись со всем уважением, имеет он доказательную силу или нет. Никто до Ансельма не выразил его в такой обнаженной логической форме. Стремясь к чистоте, он, возможно, не досчитал похвал: но даже это нужно поставить ему в заслугу».232
Осуждение тезисов Аристотеля – рассвет новой науки
В XIII веке схоластическая философия достигла своего максимального развития. Эпоха Средневековья подходила к концу, европейская цивилизация вступала в новую эпоху своего развития. Знаменательной датой становится 1270 год, когда парижский епископ Этьен Тампье издает указ, осуждающий ряд положений Аристотеля.233 Указ содержит 13 тезисов, среди которых учение о вечности мира, о влиянии звезд на судьбу, об отсутствии свободы воли и т.д. В 1277 году выходит второй указ осуждающий уже 219 тезисов, среди которых были и тезисы Аверроэса и даже некоторые положения Фомы Аквинского. Таким образом, авторитет Аристотеля в области философии был поставлен под сомнение. Это осуждение сыграло огромную роль в истории науки, став первым серьезным выступлением против авторитета Стагирита. Историк науки Пьер Дюгем справедливо считал этот указ – «зачатием» новоевропейской науки.234
Роль трудов Аристотеля в создании европейской науки невозможно переоценить. Но, усвоив Аристотеля, европейцам нужно было двигаться дальше. Осуждение тезисов Аристотеля сделало еще более актуальной задачу дальнейшего развития философии. Как пишет В.Н. Катасонов, после осуждения, «строить космологию по Аристотелю было уже невозможно… И парадоксальным образом это осуждение, это, казалось бы, внешнее препятствие для мысли, вдруг оказалось стимулом для разработки новых плодотворных точек зрения».235
Как показал Дюгем, осуждение 1277 года способствовало изменению самого метода физики. В Аристотелевской науке не было места эксперименту.236 В целом она строила науку изначально исходящую из логических предпосылок. Аристотель исходил из причин вещей и только потом переходил к самим вещам. Но осуждение 1277 года ударило как раз по метафизическим предпосылкам Аристотелевской науки, что неизбежно ставило под сомнение всю систему. Как пишет В.Н. Катасонов: «Начала физики превращаются из достоверных, необходимых посылок в гипотезы, а сами космологические теории постепенно приобретают тот смысл слова «теории», который она имеет для нас сегодня: как некоторой предположительной, одной из возможных схем действительности, более или менее удачно описывающей, «спасающей» феномены».237 Для выяснения какая схема используется в действительности бесполезно ограничиваться лишь теоретическими рассуждениями. Всемогущий Творец мог сотворить мир различными способами. Для того чтобы выяснить, какой из множества логически возможных способов Он предпочел, необходимо обратиться к самому Божественному творению.238 Таким образом, как показал Дюгем, истоки новой европейской науки лежат вовсе не в XVII веке, а гораздо ранее, в трудах схоластах XIII-XIV столетий.
Вот как историк философии Дж. Реале характеризует технические достижения XIII века: «В трудах Альберта Великого, Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Целека Витело, Теодорика Фрайбургского медленно прорисовываются очертания экспериментальной науки. О чем бы ни зашла речь – о системах рычагов, гидравлическом прессе, механических часах, ткацких станках, дробилках, ветряных мельницах, линзах, бумагопроизводстве, рудниках, порохе, – все это в экономически развитых формах вклад европейского Средневековья. И хотя современные научные технологии обитают вне царства философии, останется фактом истории, что гении экспериментальной науки, будучи теологами, были внутри традиции, освещавшей равновесие мирского и божественного». Наиболее яркой фигурой знаменующей переход европейской науки к новой эпохе является францисканец Уильям Оккам.
Уильям Оккам – автономия веры и разума
Уильям Оккам (1280-1349) является последним крупным философом эпохи схоластики и одним из родоначальников нового научного метода. Оккам также знаменует собой поворот и в духовном мире западных европейцев. Он начисто отвергает все попытки согласования веры и разума. Истины веры и доводы разума несовместимы. Между ограниченным человеческим разумом и Божественным Откровением лежит пропасть. Вера настолько превосходит любые доводы разума, что опираться на его помощь – бессмысленно. Разуму остается лишь изучение окружающего мира.
Оккам изгоняет разум из области веры: с этого момента их границы более не пересекаются. «Откровение – единственное зеркало, где можно увидеть подлинный лик Бога».239 Богослов, по Оккаму, не должен заниматься ссылками на разум. Напротив, он должен показать недостижимость для разума истин веры. Принятие или непринятие христианского Откровения становится уделом исключительно воли, разуму остается лишь заниматься областью наук. Философия и богословие имеют и разные области, и разные методы. Оккам дает новую жизнь теории двойной истины, провозглашая «верю и понимаю». Как заключает Дж. Реале: «На усилиях поколений схоластов, мучительно добивавшихся примирения разума с верой, поставлен крест».240 Трещина, между волей человека и его разумом, существовала всегда. Оккам превратил ее в пропасть.
Отказ Оккама от рационального познания Бога приводит к изменению жизненных приоритетов западных исследователей. Признание непостижимости Бога приводит к потере интереса к нему. Непостижимый Бог постепенно становится неведомым Богом. Европейская наука углубляется в изучение окружающего мира, начиная забывать его Создателя. С одной стороны, такое развитие приводит к выдающимся успехам в области естествознания. Но с другой стороны, это приводит к разделению прежде единой человеческой личности на автономные части. Области разума и веры становятся независимыми, а со временем начинают и противопоставляться друг другу. В это же время Православная Церковь отвергает подобное восприятие отношений веры и разума, человека и Бога. Выдающаяся роль в этом принадлежит свт. Григорию Паламе.
Уильям Оккам стал автором метода, оказавшегося чрезвычайно продуктивным в научном познании мира. Обычно его называют «бритва Оккама». Согласно этому принципу, если две теории приводят к одинаковым практическим следствиям, то из них нужно выбрать наиболее простую. Сам Оккам формулировал принцип, например, так: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»241 «Не стоит умножать сущности сверх необходимого», – вот как нужно использовать бритву Оккама.242
Бритва оказалась крайне эффективным оружием против аристотелевской системы мира. Оккаму не было никаких оснований полагать, будто бы небесные тела состоят из другой материи, чем тела подлунного мира. Он вполне допускал, что звезды состоят из тех же четырех элементов, что и вещи подлунного мира. 243 П.П. Гайденко подводит итог: «снятие принципиального различия между надлунной и подлунной сферами, которое историки науки считали одним из революционных открытий Галилея, произошло двумя столетиями ранее».244
Одной из отличительных особенностей новой науки возникшей в XVII веке стал эксперимент. В трудах Уильяма Оккама мы также видим указание на необходимость экспериментов для изучения того, каким из бесчисленного числа способов Господь сотворил мир. Воля Творца не ограничена никакими законами, поэтому узнать ее можно лишь через изучение творения. Бесконечные логические рассуждения схоластов, согласно Оккаму, никуда не ведут.