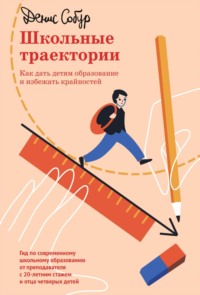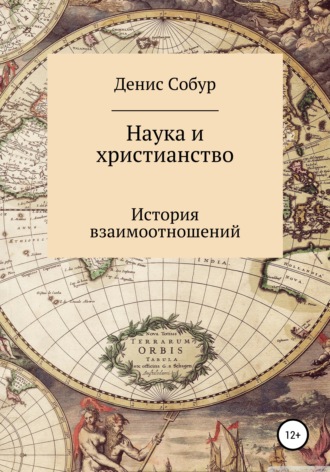 полная версия
полная версияНаука и христианство: история взаимоотношений
Разрушение государства не привело к разрушению Церкви. Церковь оказалась едва ли не единственным институтом, который напоминал о прежнем единстве Европы. Даже Б. Рассел, известный своими атеистическими взглядами, подчеркивает роль Церкви в преодолении Темных веков: «С большим трудом, начиная с XI столетия Церкви удается освободиться от контроля феодальной аристократии, и это освобождение является одной из причин выхода Европы из веков мрака».181
Отдаленность от власти византийского императора породило для Римских первосвященников искушение объявить себя носителями не только духовной, но и светской власти. Чрезмерное властолюбие римских пап привело в 1054 году к отделению Римско-католической Церкви от Церкви Вселенской. Эта величайшая трагедия в истории Церкви, разорвала последние нити, связывавшие Восток и Запад некогда единой империи. Следствием Великого раскола стал не только политический и духовный разрыв, но и разрыв культурный. А. Койре подчеркивал это: «Средневековое экономическое и политическое варварство… имело в своей основе не столько завоевание романского мира германскими племенами, сколько разрыв отношений между Востоком и Западом, между латинским миром и миром греческим. И та же причина – отсутствие отношений с эллинистическим Востоком – породила интеллектуальное варварство Запада».182 Преодоление этого «интеллектуального варварства» было осуществлено в лоне католической Церкви, через знакомство с античной культурой. В то же время, античная философия первоначально была слишком сложна для понимания латинскими авторами. Неоценимую помощь в осмыслении наследства Аристотеля и Платона европейцам оказали арабские комментаторы, подробно истолковавшие труды философов и ставшие «учителями и воспитателями латинского Запада».183
Образование в Средние века
Термином «схоластика»184 обычно называют философию и теологию преподаваемые в средневековых школах.185 Новая европейская культура началась со школьной скамьи, возмужала в университетах и, наконец, создала в XVII веке новую науку. Вплоть до XIII века большинство европейских школ создавались при монастырях или при кафедральных соборах. Монастырские школы были чем-то вроде убежищ и хранилищ памятников классической культуры в период варварских нашествий. На культурную жизнь общества наибольшее влияние оказывали придворные школы, в которых было организовано трехступенчатое образование. На первой ступени изучалось чтение, письмо, общее представление о Библии и литургических текстах. Далее шло изучение семи свободных искусств (сначала трио грамматики, риторики и диалектики (логики), затем квартет арифметики, геометрии, астрономии, музыки). Наконец, на третьей ступени, шло углубленное изучение Священного Писания.
Школы не были изобретением христианской Европы, они существовали и в античности. Но следующий шаг в развитии системы образования стал оригинальным изобретением европейцев. На протяжении XI-XIII веков крупные средневековые школы, постепенно развиваясь, превращаются в университеты. Первоначально университет понимался как своего рода корпорация, объединяющая учеников и наставников с их привилегиями, установленными программами, дипломами, званиям. Роль университетов состояла, прежде всего, в защите интересов и привилегий членов корпораций. Университеты не подлежали контролю и суду местных властей, их автономия осуществлялась под опекой короля и епископа. Стоит отметить, что стремление к свободе преподавания в противовес давлению местных властей, нашло ощутимую поддержку в виде папской протекции. «Клерикальный» характер университета состоял, прежде всего, в принятии авторитета Церкви и Священного Писания.186
Возникновение университетов привело к рождению нового сословия интеллектуалов, которое начинало играть все более значительную роль в жизни общества. Магистрам, зачастую не имевшим священного сана, было дано право преподавать и толковать учение Церкви. Кроме того, университеты стали играть роль «социальной лестницы» позволявшей талантливым людям занимать высокие места в обществе, независимо от своего происхождения. В университетах не знали социальных различий – о человеке судили по его знаниям. Посредством системы льгот в университет могли поступать даже дети из небогатых семей крестьян и ремесленников. Методом обучения были лекции и семинары. Семинар состоял из дискуссии, в которой тема предлагалась студентами в форме вопроса. Далее предлагались ответы: сначала студентами, а затем и преподавателем-магистром. Общение на территории университета шло исключительно на латыни, даже за пределами аудиторий. Таким образом, латынь стала универсальным языком общения, на котором могли общаться образованные люди всей Европы.
Средневековый университет делился на факультет свободных искусств с шестигодичным обучением и факультет теологии, где учились не менее восьми лет. Для поступления на факультет теологии необходимо было сначала закончить первый факультет, основательно изучив грамматику, логику, математику, физику и этику получив звание магистра искусств. Магистр искусств в своей деятельности опирался только на разум, не касаясь истин Откровения. Помимо теологического факультета, он мог продолжить свое образование на факультете медицины или юриспруденции.
В монастырских, кафедральных и придворных школах обычно ограничивались лишь изучением логики как введением в теологию. На факультетах искусств обычно изучались научно-философские трактаты, как правило, арабского происхождения. Факультет теологии занимался подробным изучением Священного Писания, его толкования и церковного вероучения. Магистрами теологии могли стать лишь люди уже имеющие степень магистра искусств, которые хорошо разбирались и в научно-философских вопросах и в истине Откровения.187
Одной из основных проблем обсуждавшихся в эпоху схоластики стал вопрос о соотношении веры и разума. Философские методы188 в это время начинают все шире использоваться для рационального изучения Откровения. Также аргументы, опирающиеся только на разум, имеют огромное значение в спорах с людьми, не признающими истинность христианского Откровения. Если в спорах с еретиками можно апеллировать к авторитету Священного Писания, то в спорах с мусульманами или язычниками остается лишь опираться на разум. Использование рациональных принципов призвано доказать, что истины христианского Откровения не противоречат устоям человеческого разума. Более того, схоласты показывали, что именно в Откровении человеческий разум раскрывает себя во всей полноте.189
В эпоху схоластики стремились систематизировать и представить в доступной для изучения форме как истины Откровения, так и знания, сохранившиеся с эпохи античности. Такая систематизация была характерна уже для Аристотеля, но в университетах она вышла на новый уровень. Как пишет об этом В.П. Лега: «Умение разделять, четко определять, «раскладывать все по полочкам» было одним из основных методов философов средневековой Европы».190 Конечно, систематизация приводила к упрощенному толкованию сложной проблемы, но при этом ее изучение становилось значительно проще, особенно для вчерашних крестьян. Такая привычка раскладывать по полочкам, в XVII веке была использована при создании Декартом новой европейской науки. Декарт, в своих методологических правилах, утверждал, что, для решения сложной проблемы мы должны разложить ее на простые. Когда мы решим набор простых проблем, тогда, объединив эти решения, мы сможем справиться и со сложной задачей. Метод Декарта не потерял своей актуальности в науке и по сей день. Однако, Декарт не изобрел этот метод самостоятельно, а познакомился с ним во время учебы в иезуитском колледже.
Шартрская и Сен-Викторская школы
Основные направления средневековой мысли могут быть хорошо проиллюстрированы сравнением двух школ Шартрской и Сен-Викторской. Шартрская школа была основана около 990 г. Именно в ней происходит тесное знакомство с античной философией, особенно с Платоном. В конце XI – начале XII века Шартрская школа приобретает большую известность в Европе. Основными предметами в школе были грамматика, риторика, математика и астрономия.
Отношение школы к античной философии можно выразить словами Бернара, бывшего главой школы с 1114 по 1124 год: «Мы – словно карлики, сидящие на плечах гигантов. Мы видим больше вещей и вещи более удаленные по сравнению с тем, что видели древние, но не благодаря остроте нашего собственного зрения или нашему высокому росту, а потому, что древние поднимают нас до своей огромной высоты».191 Представители школы в своих трудах стремились согласовать учение Платона с истиной Откровения. Дж. Реале отмечает: «Шартрскую школу характеризует обостренное внимание к натуральной философии, контекст и направленность которой были отчетливо теологическими. Здесь мы находим максимальное понимание восхитительного творения Троицы».192 Философы Шартрской школы всегда стремились искать разумное объяснение устройства мира, сотворенного Богом. «Так неужели мы противоречим Священному Писанию, когда объясняем, как было создано то, о чем оно говорит как о созданном?» – восклицал Гильом из Конша.193
Если в Шартрской школе основное внимание уделялось научно-культурным аспектам философии, то их коллег из школы при аббатстве святого Виктора больше интересовал личный мистический поиск. Сен-Викторская школа подробно изучала молитву, божественное созерцание и глубины духовного мира. Один из величайших представителей школы Гуго Сен-Викторский четко ограничивал возможности философского познания мира: «Два образа даны человеку, способному двигаться к истинам неосязаемым: образ природы и образ благодати. Первый – аспект мира, в котором мы живем, второй – воплощенное Слово. Но ни тот, ни другой не доводят до последнего постижения… Мир не исчерпывает собой постижимой истины».194 Гуго утверждает, что чувственный опыт может дать нам лишь несовершенную истину. Это лишь ступенька на пути к истине, которую можно преодолеть посредством разума. Следующая ступень – это мудрость достигаемая посредством союза разума и духа человека. Но вершину познания человек обретает внутри себя, раскрывая в себе образ Святой Троицы при помощи веры и Божественной благодати. «Мистериозный момент школы Сен-Виктора проникал во все научные, философские и теологические изыскания, символизируя собой кульминацию интеллектуальной и моральной жизни», – заключает Дж. Реале.195 Таким образом, если Шартрская школа ставила целью изучение внешнего мира, то в аббатстве святого Виктора в центр исследований ставился внутренний мир. Данные исследовательские программы будут продолжены в монашеских орденах св. Доминика и св. Франциска соответственно.
Арабское Возрождение
Античная римская культура достаточно прохладно относилась к греческой философии. Прагматичных римлян значительно сильнее интересовали вопросы военного дела, экономики, сельского хозяйства, нежели философские или научные рассуждения. Вызывает удивление тот факт, что за долгие годы существования империи даже не были сделаны переводы греческих классиков на латынь, за исключением нескольких произведений.196
После победы христианства в римской империи, языческие философские школы были закрыты. Ряд философов переезжают в это время в Сирию. В Дамаске и Багдаде продолжают свое существование античные философские школы. Возникший в начале VII века ислам объединил племена арабов под знаменем монотеизма. После серии успешных военных походов, арабы создали Арабский Халифат – огромное государство, простиравшееся в свои лучшие годы от Испании на западе до Индии на востоке. Закончив эпоху завоеваний, арабо-исламский мир занялся изучением греческой культуры, науки, философии. Была проведена огромная работа по переводу на арабский язык трудов античных философов.
Эпоха обращения исламского мира к античной культуре вполне заслуживает названия арабского Возрождения. Христиане, жившие под властью Арабского Халифата, также внесли существенный вклад в создание и развитие арабской культуры.197 Христиане нередко занимали высокие должности при дворе,198 создавали медицинские школы, помогали осуществлять переводы античных авторов на арабский. Низибийская богословская школа преобразовалась в подобие университета, где изучалась не только религия, но и философия, история, география, естественные науки.199 В то же время, в создании арабской культуры Халифата, ведущую роль играли, безусловно, мусульмане.
Основным достижением арабских философов стали подробные комментарии к трудам классиков, через которые глубины мысли Аристотеля и Платона становились доступными для понимания обычных людей. Комментарии, сделанные арабскими философами, позволили европейцам понять и принять учение античных философов. Местом встречи латинской и арабской цивилизаций стали города в Испании и, особенно, Сицилия. Как правило, в XI-XIII веке там осуществлялись переводы с арабского на латынь трудов античных философов и их комментаторов. Непосредственно с греческого переводы начнут делать позднее, в XIV-XV веках, благодаря более тесным контактам с Византией.
Расцвет арабо-исламской цивилизации длился недолго. Передав наследие античных классиков латинскому Западу, арабская цивилизация утратила к нему интерес. В начале существования Арабского халифата, ислам не оказывал значительного влияния на философские диспуты. Но уже в XI веке аль-Газали пишет работу «Самоопровержение философов», в которой указывает на несовместимость ряда философских воззрений с исламским вероучением. Конечно, аль-Газали считал, что естественные науки (математика, астрономия, медицина) имеют практическую пользу и нужны людям. Но, когда методы естественных наук начинают применяться к познанию божественного, начинают возникать сложности. Результатом этого, по мнению аль-Газали, становится неправильное знание о Боге, ереси и безбожие.200
Проблемы, возникшие у мусульманских философов при освоении античных классиков, возникли и на западе. Учение о вечности мира, об отсутствии бессмертия отдельной души и т.д. равно противоречили и христианскому и исламскому вероучению. Но у европейцев было достаточно времени, чтобы переосмыслить труды философов в согласии с истиной Откровения. Арабская же цивилизация испытала тяжелый кризис в результате опустошающих нашествий варваров, турок, монголов. По мнению А. Койре, эти нашествия «разрушили арабскую цивилизацию и преобразовали ислам в фанатическую религию, непримиримо враждебную философии».201 Он считает, что если бы не сложная политическая ситуация, арабская философия развивалась бы в направлении аналогичном латинской схоластике.
Культура Европы XIII века
Золотым веком развития схоластической теологии и философии стал XIII век. К этой эпохе относится расцвет университетов. Именно в XIII веке возникают знаменитые монашеские ордена доминиканцев и францисканцев. Именно монашеские ордена, в эпоху нравственного упадка папства, стремятся поддержать нравственный престиж Церкви. С самого возникновения эти монастырские традиции разворачивали свою деятельность среди мирян, зачастую становясь центрами интеллектуальной, культурной и экономической жизни. Орден св. Доминика ставит своей целью борьбу с ересями, а значит и изучение философии, которое необходимо для опровержения учения еретиков. В целом, доминиканцы продолжают традицию Шартрской школы. Францисканцы, напротив, ставят своей основной целью внутреннее духовное развитие, возврат к образу жизни раннехристианской Церкви. За строгий отказ от собственности, францисканцы получили название «нищенствующего» ордена. Можно заметить духовную близость ордена св. Франциска к традиции Сен-Викторской школы.
«Открытие» Аристотеля схоластами
Огромное влияние на развитие схоластики в XIII веке оказали арабские комментаторы. Труды Аристотеля с толкованиями Авиценны (980-1037) и Аверроэса (1126–1198) получили большую известность. По словам В.П. Леги: «Многие годы в различных учебных заведениях студентов учили мыслить по аристотелевским логическим трактатам, не подозревая, что у Аристотеля есть и собственные работы по философии и физике. Наконец они получили возможность ознакомиться с учением о природе того философа, на работах которого учились правильно мыслить!»202 Физика Аристотеля была наукой, дававшей метод для объяснения всех явлений природы: от астрономии до медицины. Кроме того, европейцы получали разработанные учебные пособия, не потерявшие своей актуальности за полторы тысячи лет. Все это вызывало восхищение у представителей интеллектуальной элиты. Знакомство с Аристотелем в комментариях арабских толкователей, дало мощный импульс развитию западной философии.
Принятие христианской Европой Аристотеля было в значительной мере облегчено комментариями Авиценны. В этих комментариях оставались в тени взгляды Стагирита203 на происхождение вещей и мира, а также его учение о Боге. Этим Авиценна значительно упростил принятие Аристотеля, как среди мусульманских, так и среди христианских философов. Однако, другой великий исламский философ Аверроэс обратил общее внимание на явное противоречие положений Аристотеля учению ислама. В своих рассуждениях, Аверроэс пришел к выводу, что главная роль в познании Бога принадлежит философии. Откровение, выраженное в буквальном толковании текста Корана, предназначено лишь для людей необразованных. Философ же должен возвышаться над буквальным смыслом посредством аллегорического толкования, недоступного простым людям. Следуя Аристотелю, Аверроэс считает, что мир существовал вечно, а Бога как замкнутый в себе Абсолют, занятый исключительно самопознанием. Отрицал Аверроэс и личное бессмертие души человека. Для него бессмертие мыслится лишь как слияние с Божественным разумом.
Итак, в XIII веке произошла смена философских ориентиров. Как мы говорили ранее, со времен блаж. Августина в качестве наиболее изучаемого философа выступает Платон. На учении Платона строилась философия Шартрской школы. Теперь же Европа с восхищением открывает для себя великолепное здание философии и науки Аристотеля. Труды Стагирита охватывают все области человеческого знания от богословия до законов движения тел. Хотя на сегодня научная система Аристотеля бесконечно устарела, но она и по сей день выглядит впечатляюще, четко объясняя устройство природы с точки зрения повседневных наблюдения. Вместе с тем, крупные философы эпохи схоластики были искренними христианами, поэтому перед ними отчетливо встала проблема согласования научных взглядов Аристотеля с личной верой.
Поиск соотношения веры и разума
204
Проблема соотношения между верой и разумом существует с древнейших времен. Основной сложностью в этой проблеме является определение значения слова «вера». Под верою может пониматься и доверие авторитету, и усилие воли, действующей вопреки разуму. Также к области веры относится и внутренняя уверенность в выборе, если рациональных аргументов недостаточно для принятия той или иной позиции. Также существует понимание веры, как объединения всех сил человеческой личности. В зависимости от того, какое определение веры мы выбираем, возникает та или иная модель взаимоотношений веры и разума. В эпоху схоластики, поиск баланса между верой и разумом стал одной из наиболее актуальных философских задач.
В христианской традиции были предложены различные модели соотнесения веры и разума. Наиболее непримиримой является позиция, сформированная Тертуллианом. Обычно эту позицию формулируют как «верую, ибо абсурдно». Хотя таких слов Тертуллиан не произносил, но в его произведениях подобная позиция несоизмеримости веры и разума формулируется достаточно четко: «Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес – это несомненно, ибо невозможно».205 Согласно Тертуллиану истина христианского Откровения превосходит всякое разумное объяснение. Такая несоразмерность Евангелия человеческому разуму служит для Тертуллиана подтверждением истинности христианства. Действительно, Евангельское повествование о распятии Сына Божьего, противоречит здравому смыслу. Если бы оно было придумано людьми, то ему постарались бы придать более правдоподобные черты. В целом же, Тертуллиан отрицает научное знание, как не имеющее особой ценности.
Другая традиция соотнесения веры и разума восходит к Клименту Александрийскому и продолжается в трудах блаж. Августина, Ансельма Кентерберийского, Бонавентуры. Данная традиция может быть выражена словами «верю, чтобы понимать». Действительно, возможность знания основывается на доверии. Ребенок при обучении верит учителям. Студент обычно верит учебникам. Знания о событиях произошедших до его рождения, человек получает лишь благодаря доверию историческим источникам. Конечно, доверие это не безгранично: ребенок, повзрослев, начинает сомневаться в авторитете родителей. Ученый может повторить спорные эксперименты предшественников. Однако, необходимым условием для такого недоверия является багаж знаний, полученный на основе первоначального доверия. Поэтому в развернутом виде августиновская формула взаимосвязи веры и разума, может быть выражена словами «верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить».206
Все науки блаж. Августин делит на три типа:
1) Науки, основанные только на вере и не допускающие понимания (напр. история)
2) Науки, в которых вера равна пониманию (науки со строгими доказательствами – логика, математика)
3) Науки, в которых понимание возможно только посредством веры (богословие)
Блаж. Августин не считает веру противоречащей разуму. Для него и вера и разум являются различными способностями человека к познанию, каждой из которых присущи свои особенности. В.П. Лега подчеркивает, что согласно Августину «вера не противоразумна, а сверхразумна. Это значит, что если положения веры кажутся человеку нелепыми, то только потому, что человек не до конца понимает их. Человек не может всего понять, во многое он может лишь верить; глубокая вера и истинный разум тождественны».207 В целом же, согласно блаж. Августину, вера выше разума и всегда разумному познанию предшествует вера, будь то доверие учителю или согласие с научными аксиомами. Разум человека способен помочь ему глубже понять истины веры, но не может привести к вере. В истории философии позицию блаж. Августина принимали философы, следовавшие традиции Платона и изучавшие, прежде всего, собственный внутренний мир. К ним относятся Ансельм Кентрберийский, представители Сен-Викторской школы и францисканского ордена.
Если блаж. Августин в первую очередь подчеркивал роль веры в познании, то Пьер Абеляр (1079—1142), напротив, основывался на разуме. Основным методом исследований для Абеляра становится сомнение. Для него недостаточно слепого доверия авторитету, вера должна пройти через испытание аргументами разума. Дж. Реале так поясняет это: «Не разум поглощает веру, напротив, вера включает в себя разум, философский дискурс не подменяет собой теологического, но делает его приемлемым, способствует усвоению».208
Абеляр разделял понятия «понимать» и «принимать». Первое заслуга разума, второе – Божественный дар. Признавая авторитет Священного Писания, Абеляр, в то же время, настаивает на использовании разума для лучшего понимания текста. Каждый верующий должен уметь, по слову апостола Петра «дать отчет в своем уповании» (1Петр 3.15), поэтому позиция Абеляра также выглядит вполне обоснованной. Рациональному обоснованию Откровения посвятят свои труды величайшие философы эпохи схоластики. Среди них доминиканцы Альберт Великий и Фома Аквинский.
Наконец, четвертая модель соотнесения веры и разума получила названия концепции «двух истин». В законченной форме теория «двух истин» появляется у Аверроэса и получает популярность среди его латинских последователей, наиболее известным из которых является Сигер Брабантский (1240-1284). Здесь мы видим окончательное противопоставление воли и разума человека. Сигер, безусловно, признает истинность христианского Откровения. Однако, рассуждения Аристотеля звучат более чем убедительно. Философ абсолютно логично и научно доказывал, что мир вечен, что Богу нет дела до людей и т.д. В результате попавшему в логический тупик Сигеру не остается ничего другого, кроме как признать оба мнения истинными. Такая половинчатая концепция, по сути, не устраивала ни верующих, ни философов. Но ничего лучшего Сигер предложить не мог. Выход из ситуации был найден Фомой Аквинским, сумевшим переработать философию Аристотеля в согласии с христианским Откровением. Философия Аквината в форме неотомизма сегодня является официальной философской системой католической Церкви.
«Верую, ибо абсурдно» Тертуллиана также близко к концепции «двух истин». Главное отличие заключается в выводах из этого положения. Для Тертуллиана научное познание не имеет особой ценности. Для аввероистов, напротив, личная вера отходит на второй план, а главным в жизни становится интеллектуальное познание мира.