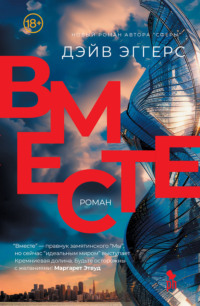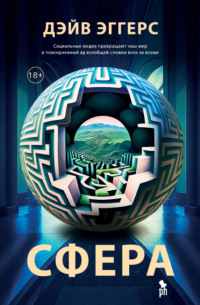Полная версия
Захватывающие деяния искрометного гения
Она ворочается, и глаза ее слегка приоткрываются.
Я встаю, диван скрипит. Пол холодный. Без двадцати пять. Тоф перекатывается на то место, где я только что лежал. Я подхожу к матери. Она смотрит на меня. Я наклоняюсь и касаюсь ее руки. Рука горячая.
– С днем рождения, – шепчу я.
Она не смотрит на меня. Глаза ее закрыты. Она их слегка приоткрыла, но сейчас они закрыты. Не уверен, что она меня видит. Я подхожу к окну и задергиваю шторы. Деревья голые и черные, как на карандашном наброске. Я сижу в углу, в кресле из жесткого кожзаменителя, и смотрю на нее и на светло-голубой аппарат искусственной вентиляции легких. Ритмично работающий светло-голубой аппарат выглядит фальшивкой, элементом театральной декорации. Я усаживаюсь в кресло поглубже и откидываюсь на спинку. Потолок плывет. Молочный потолок, оштукатуренный широкими полукругами, которые медленно движутся, вращаются; потолок колеблется, как поверхность воды. У потолка есть своя глубина или он движется вперед-назад. Или это стены движутся? Быть может, эта комната не реальна. Я на съемочной площадке. В комнате не хватает цветов. А она должна утопать в цветах. Где цветы? Когда открывается сувенирная лавка в больнице? В шесть? В восемь? Я заключаю пари с самим собой – ставлю на шесть. Ставки приняты. Прикидываю, сколько я могу купить цветов. Не знаю, сколько они стоят, – я никогда раньше не покупал цветов. Узнаю, сколько они стоят, и куплю на все деньги, что у меня есть, потом принесу их из магазина в эту комнату. Отличное решение.
Она проснется и увидит их.
– Деньги на ветер, – скажет она.
Она ворочается и открывает глаза. Она смотрит на меня. Я встаю с кресла и подхожу к кровати. Касаюсь ее руки. Горячая.
– С днем рождения, – шепчу я с улыбкой, наклоняясь к ней.
Она не отвечает. Она не смотрит на меня. Она в забытьи.
Я снова сажусь в кресло.
Тоф лежит на спине, раскинув руки. Во сне он потеет, независимо от температуры в комнате. Во сне он все время вертится, как стрелка часов. Громко дышит. У него длинные ресницы. Рука свисает с раскладного дивана. Я смотрю на него, и он просыпается. Встает, подходит ко мне, я беру его за руку, и мы проходим через окно, взлетаем в воздух и, пролетев над небрежно нарисованными деревьями, берем курс на Калифорнию.
II.
Посмотрите. Видите нас? Видите нас в нашей маленькой красной машинке? Представьте себе вид сверху, представьте, что вы летите на вертолете или, скажем, на спине птицы, – наша машина гонит вперед, прижимаясь к земле, замедляя ход и напрягаясь, когда дорога идет вверх, но не сбрасывает скорость ниже 60–65 миль в час, вписываясь в повороты шоссе № 1, то беспощадно крутые, то до смешного плавные. Посмотрите на нас, черт вас возьми, посмотрите на нас двоих, выпущенных из рогатки с обратной стороны Луны, мчащихся навстречу тому, что нам причитается. Каждый день мы собираем все, что нам полагается, каждый день нам возвращают долги, да еще, мать их, проценты, всячески выказывая нам расположение, – все нам, черт побери, должны – так что давайте сюда все, все. Мы берем все, что хочется, по штуке всего, что найдется в продаже, трехчасовой налет на магазины, цвет по нашему выбору, любая модель, любой цвет, что душе угодно, сколько душе угодно, когда душе угодно. Сегодня дел у нас нет, вот мы и направляемся в Монтару, на пляж в тридцати пяти минутах к югу от Сан-Франциско, едем и распеваем:
Она была одна!И ничего не знала![Какие-то слова слова слова]Когда мы коснулись друг друга!Когда мы [рифма с «такой»]Каждую [слова слова]Ночь напролет!Ночь напролет!И так каждую ночь!Так что держись!Держись крепко, детка!Так, как тебе нужно,Так, как ты захочешь!Тоф слов не знает, я какие-то отрывки, но, черт возьми, никто не помешает нам петь. Я хочу, чтобы он спел «Ночь напролет!» вторым голосом. Я начинаю, он подхватывает, вот так, например:
Я: Ночь напролет! (выше)
Он: Но-очь напролет! (чуть ниже)
Я показываю ему, когда надо вступить, но он лишь непонимающе смотрит на меня. Я показываю пальцем на радио, потом на него самого, потом на его рот, но он по-прежнему не понимает, а мне непросто жестикулировать, стараясь в то же время не съехать с дороги прямо в Тихий океан. А еще ему может показаться, что я предлагаю ему съесть радиоприемник. Господи, ну что тут трудного, он же способен все понять. Просто не хочет поддержать меня. Или может он и тупой. Он что, правда тупой?
Ну и хрен с ним, буду петь соло. Я подхватываю мелодию за Стивом Перри[39], подражаю его вибрато. У меня отлично получается, ведь я выдающийся певец.
– Ну как, умею я петь? – ору я.
– Что? – орет он.
Окна в машине, между прочим, открыты.
– Я спросил, умею я петь или как?
Он качает головой.
– Как это понимать? – ору я. – Я умею петь, черт бы тебя побрал!
Он закрывает окно.
– Что ты говоришь? Я не слышу.
– Я спросил, умею я петь или как?
– Нет. – Он улыбается во весь рот. – Совсем не умеешь.
Я опасаюсь включать группы вроде Journey, увлечение которыми не принесет ему ничего, кроме позора среди сверстников. Хотя он часто сопротивляется – дети редко понимают, что для них хорошо, – я научил его ценить всех прорывных музыкантов нашего времени – Big Country, Haircut 100, Loverboy[40] – и считаю, что ему повезло. Его мозг – моя лаборатория, мой депозитарий. Я складываю туда книги по своему выбору, телевизионные шоу, свое мнение об избранных политиках, исторических событиях, соседях, случайных прохожих. Он – моя школа, работающая круглые сутки, моя невольная аудитория, вынужденная переваривать все, что я сочту стоящим. Он везучий малый, очень! И никто меня не остановит. Он мой, и никому меня не остановить, нас не остановить. Попробуйте только остановить нас, сучата! Никто не помешает нам петь, никто не запретит нам издавать звуки пердежа, высовывать в окно руки, чтобы проверить аэродинамические свойства различных поворотов ладони, вытирать содержимое наших носов о сиденья. Никто не запретит попросить Тофа, которому восемь, подержать руль на прямом участке, пока я стягиваю толстовку, потому что неожиданно стало, бля, по-настоящему жарко. Никто не помешает нам бросать жирные обертки из-под вяленого мяса прямо на пол, или уже восемь дней хранить вещи из прачечной в багажнике, потому что нам было не до этого. Никому не помешать Тофу оставить под сиденьем наполовину пустую упаковку апельсинового сока, и картон будет гнить, а сок забродит, и дышать в машине будет невозможно, но несколько недель источник вони будет неясным, так что придется все время держать окна открытыми, пока наконец сок не обнаружится, а Тоф будет зарыт по шею на заднем дворе и вымазан медом – именно так с ним стоило поступить, учитывая его роль во всем этом безобразии. Никто нам не помешает с жалостью взирать на всех жалких обитателей этого мира, не благословленных нашими чарами, не подвергнутых нашим испытаниям, не покрытых шрамами и потому слабых и студенистых. Никто не помешает мне требовать, чтобы Тоф комментировал людей, едущих по соседней полосе.
Я: Посмотри на этого лузера.
ОН: Вот же урод!
Я: А этот.
ОН: О господи!
Я: Доллар, если помашешь этому типу.
ОН: Сколько?
Я: Доллар.
ОН: Мало.
Я: Ладно, пятерку, если покажешь ему фигу.
ОН: Почему фигу?
Я: Потому что он этого заслуживает!
ОН: Ладно.
Я: Почему не показал?
ОН: Просто не смог.
Это нечестно. Матч «Мы против Них (или вас)» – нечестный. Мы опасны. Мы дерзки и бессмертны. Туман клубами поднимается из-под утесов и стелется по шоссе. В тумане появляются голубые разрывы, и сквозь голубизну вдруг вырывается солнце.
Справа от нас океан, а поскольку мы находимся в сотне футов над водой и часто нас ничего от нее не отделяет, кроме дорожного ограждения, небо оказывается не только над, но и под нами. Тофу не нравятся скалы, он не смотрит вниз, но мы едем сквозь небо, облака кучкуются над дорогой, сквозь них поблескивает солнце, а небо и океан внизу. Только отсюда земля кажется круглой, только здесь горизонт закругляется по краям, только тут боковым зрением можно заметить изгиб нашей планеты.
Только здесь ты почти уверен в том, что несешься по большому светящемуся, неуловимо вращающемуся ша- ру, – в Чикаго этого никогда не замечаешь, там все плоское, выпрямленное. А еще, еще мы избраны, мы избраны, понимаете вы это, все это нам дано, все это мы заслужили, все это: голубое небо для нас, солнце заставляет проезжающие машины сверкать, как игрушки, для нас, океан волнуется и бурлит для нас, шумит и шепчет для нас. Мы это заслужили, понимаете; это наше, понимаете? Мы в Калифорнии, живем в Беркли, и небо здесь больше, чем мы когда-либо видели, – оно никогда не кончается, его видно с верхушки каждого второго холма – о, эти холмы! – с каждого поворота на дорогах Беркли и Сан-Франциско… У нас есть дом, сняли его на лето, с видом на весь окружающий мир, он стоит на верхушке холма в Беркли, принадлежит каким-то скандинавам – людям, у которых, по словам Бет, должны быть деньги, потому что место-то завидное, – дом стоит высоко, полно окон, и света, и террас, и нам видно все: слева Окленд, справа Эль Черрито и Ричмонд, на той стороне залива округ Марин, а внизу Беркли с его красными крышами, поросший цветной капустой и водосбором, похожими на только что взорвавшиеся петарды. И все эти люди внизу, людишки; виден тяжеловесный Бэй-Бридж, Ричмонд-Бридж, низкий и прямой, как стрела, Золотые Ворота[41], красные зубочистки и веревка между ними, и синева посредине и синева сверху; Земля Потерянных и убежище Супермена на Северном полюсе, магические кристаллы – все это и есть Сан-Франциско… А ночью этот долбаный город превращается в тысячу взлетных полос: мигает Алькатрас, галогеновая дорожка опор и перил Бэй-Бридж, гроздья огней, то разгорающихся, то тускнеющих, цепочка гирлянд, тянущаяся медленно и упорно; разумеется, дирижабли – сколько их было этим летом! – и звезды, не много их видно из-за города и всего такого, но сколько-то есть – может, сотня – этого достаточно; сколько их, в конце концов, нужно? Из наших окон, с нашей террасы открывается крышесносный вид, так что нет необходимости ни думать, ни шевелиться – тут все, все можно увидеть, не поворачивая головы. Утренние часы что черно-белые кадры, и мы завтракаем на террасе, потом обедаем там же и там же ужинаем, мы там читаем, играем в карты, и всё всегда перед нами, эта огромная почтовая открытка, все тут, все эти фигурки людей. Слишком много всего, чтобы казаться подлинным, все утрачивает свою подлинность (или наоборот, все еще более подлинно? Ага.), мы должны помнить об этом, конечно, конечно. Позади нашего дома, не особенно далеко, расположен Тилден-парк – россыпь бессчетных озер, и деревьев, и холмов, мохеровых холмов, покрытых пятнами зелени, – мохеровый холм, мохеровый холм, мохеровый холм, и нет им конца, а после – темно-зеленые проплешины и снова мохеровые холмы, похожие на спящих львов, тянутся дальше и дальше… Особенно когда едешь на велосипеде, стартуя с Точки Вдохновения[42], жмешь на педали, едешь против ветра и туда, и обратно, холмы тянутся на много миль вперед, до самого Ричмонда с его фабриками, электростанциями и огромными цистернами, хранящими смертоносные и животворящие вещества; велосипедная дорожка тянется туда, и слева вдали виден Залив, а справа все тянутся и тянутся холмы, пока наконец в двадцати милях на востоке, ну или на северо-востоке, не вырастает гора Дьябло – королева мохеровых холмов. Параллельно и перпендикулярно тропинкам располагаются огороженные жердями и проволокой загоны, где пасутся коровы и иногда овцы, и все это в минутах ходьбы от нас, от нашего дома, прямо за которым проходит туристическая тропа, почти упирающаяся в огромную скалу Гротто-Рок, которая торчит в двадцати футах от нашей задней террасы; и случаются дни, когда мы с Тофом завтракаем на крыльце, и солнце безумно радо нашему присутствию, и словно из ниоткуда возникают туристы, с улыбками и слезами гордости на лицах, мужчины и женщины, всегда попарно, в шортах цвета хаки, коричневых кроссовках и кепках козырьком назад, возникают у подножия скалы, потом оказываются на вершине, большие пальцы просунуты под лямки рюкзаков, они вырастают перед нами, а мы завтракаем на своей террасе из красного дерева в двадцати футах от них.
– Привет! – говорим мы с Тофом, слегка взмахивая руками.
– Привет, – откликаются они, удивившись, увидев нас, завтракающих, недалеко от них.
Это приятное мгновение. Но потом становится неловко, потому что вот они, на вершине, в конце своего маршрута, и им хочется только одного – присесть ненадолго, полюбоваться открывающимися видами, но они не могут не замечать двух людей, неотразимо привлекательных людей – Тофа и меня, – сидящих в каких-то двадцати футах от них и поедающих хлопья с яблоком и корицей прямо из коробки.
Мы проезжаем через городки Хаф-Мун-бэй, Пасифика и Сисайд, слева кондоминиумы, справа серфингисты, океан взрывается розовым. Мы проезжаем мимо ликующих эвкалиптов и раскачивающихся сосен, солнце отражается от встречных машин, и кажется, что они едут прямо на нас, и я вглядываюсь через лобовые стекла в лица водителей, в поисках какого-нибудь знака, понимания, доверия и улавливаю это доверие, и они проезжают мимо. Наша машина страшно дребезжит, я включаю радио, потому что могу. Я барабаню ладонями по рулю, потому что могу. Тоф смотрит на меня. Я киваю со значительным видом. В этом мире, в нашем новом мире, будет рок. Мы отдадим дань уважения таким группам, как Journey, особенно если время для «Двух по вторникам»[43], а значит, одной из песен точно будет:
Просто девчонка из маленького городка…
Бывают моменты, когда меня беспокоит выражение лица Тофа, когда я пою по-настоящему, с вибрато и всем таким прочим, пропеваю гитарные партии, – у него такое выражение, которое малознакомые люди могут принять за откровенный страх или отвращение, но я-то знаю, что это благоговение. Я понимаю такое благоговение. Я заслуживаю его благоговения. Я выдающийся певец.
Мы подыскали для Тофа школу, симпатичную маленькую частную школу под названием «Блэк-Пайн-Серкл», и ему назначили практически полную стипендию, хотя мы, в общем, без труда могли бы оплатить его обучение. У нас есть кое-какие деньги – от продажи дома и отцовская страховка, которую он оформил незадолго до смерти. Так что все было в порядке. Но поскольку мир нам задолжал, мы не отказываемся от халявы. Это в основном заслуга Бет, ей должны столько же, а может, и больше, чем нам с Тофом, и ей замечательно удается извлекать деньги из нашей ситуации. Так, ей не пришлось платить за обучение в юридическом колледже благодаря (юридическому) статусу матери-одиночки. Даже если бы и пришлось платить, Бет все равно была бы – и есть – без ума от счастья по поводу возвращения к учебе уже осенью. Через несколько месяцев она снова ускользнет в этот мир и позволит ему овладеть собой, стереть все, что было в прошлом году. У нее голова идет кругом, мы наслаждаемся летом, потому что нам все должны. Я ничем особым не занимаюсь. Мы с Тофом играем во фрисби и ходим на пляж. Я записался на занятия по росписи мебели и отношусь к ним очень серьезно. Я провожу немало времени во дворе, перекрашивая мебель, – применяя навыки, полученные за двенадцать лет художественного образования, я раздумываю о том, чем буду заниматься в более глобальном плане, что именно я буду делать с точки зрения будущего. Мне кажется, моя мебель хороша – я покупаю ее в комиссионных магазинах, это главным образом журнальные столики, которые я шлифую, а потом расписываю лицами толстяков, потерянными носками и голубыми козлами. Меня не оставляет мысль, что мне удастся их продать, я найду бутик где-нибудь в городе и буду продавать их, скажем, по тысяче долларов за штуку, и покуда я тружусь над очередным столом, погрузившись в процесс, решая уникальные проблемы нового шедевра, – не слишком ли изображение отрезанной ноги банально и не слишком ли очевидно рассчитано на продажу? – мне кажется, что дело мое благородно, исполнено смысла и, скорее всего, сделает меня знаменитым и богатым. К обеду я захожу в дом, снимаю плотные резиновые перчатки и на террасе, наблюдая как садится солнце, позволяю своему яркому сиянию угаснуть на вечер. Быть может, в какой-то момент мне придется устроиться на работу, но пока, по крайней мере этим летом, я даю нам время наслаждаться жизнью, наслаждаться отсутствием обязанностей, этим временем, данным нам, чтобы просто смотреть вокруг. Тоф отправляется в летний лагерь при Университете Беркли, которым руководят тамошние спортсмены, и его успехи во всем – от лакросса и американского футбола до бейсбола и фрисби – ясно свидетельствуют, что вскоре он сделается профессионалом минимум в трех видах спорта и женится на актрисе. Мы ждем стипендий и даров, которые преподнесет нам смущенный и опечаленный мир. Мы с Бет по очереди возим Тофа туда-сюда, вниз с холма, а потом снова вверх, – а во всем остальном же теряем неделю за неделей, как пуговицы, как карандаши.
Машины мелькают на поворотах шоссе № 1, вылетают из-за утесов, стекла и свет фар. Любая из них может убить нас. Все могут нас убить. В голову приходят разные варианты – например, нас могли бы сбросить с обрыва прямо в океан. Только хер вам, с нашей ловкостью, нашим проворством и самообладанием мы с Тофом справимся со всем. Да, да. Если мы столкнемся на шоссе № 1 с какой-нибудь машиной на скорости 60 миль в час, успеем вовремя выпрыгнуть. Да, мы с Тофом на такое способны. Мы сообразительны – это известный факт, ага. Видите ли, какая штука, сразу после столкновения, пока наша красная «хонда сивик» кувыркается в воздухе, мы мгновенно вырабатываем план – хотя нет, план нам уже известен – план, конечно, простой, очевидный: пока машина летит вниз, мы одновременно, каждый со своей стороны, открываем двери, машина по-прежнему летит, затем выбираемся наружу, машина по-прежнему летит, мы по обе стороны, каждый со своей, дальше мы встаем на подножку буквально на мгновение, машина по-прежнему летит, мы держимся за отрытые двери или за крышу, а потом, когда машина футах в тридцати над водой, понимающе глянем друг на друга – ты знаешь, что надо делать – принято (вслух не скажем, не будет нужды) – и оба, опять-таки одновременно, оттолкнемся от машины, чтобы оказаться на некотором расстоянии от нее, а потом, когда «хонда» обрушится в мутное стекло океана, мы тоже – в безукоризненной манере профессиональных ныряльщиков, меняя траекторию полета, вытянув руки, натянув носочки, – уйдем под воду, по дуге вынырнем на поверхность, навстречу солнцу, взмахнем головами, стряхивая воду с волос, и поплывем навстречу друг другу, а машина тем временем, пуская пузыри, будет быстро идти на дно.
Я: Ничего себе! Едва-едва!
ОН: И не говори.
Я: Голоден?
ОН: Ты читаешь мои мысли.
Тоф играет в Детской лиге за команду, которую тренируют двое чернокожих, и эти двое чернокожих стали Номером Один и Номером Два среди всех знакомых чернокожих Тофа. Игроки его команды (как и тренеры) носят красную форму и тренируются на поле в парке, окруженном со всех сторон соснами и расположенном в двух кварталах от нашего дома, немного выше по склону холма, вид оттуда открывается еще более захватывающий. На тренировки я ношу с собой книгу, полагая, что наблюдать за занятиями восьми – десятилетних детей должно быть скучно, но это совсем не так. Зрелище увлекательное. Я слежу за каждым движением: смотрю, как они подходят к тренеру за указаниями, смотрю, как бросают мячи, смотрю, как пьют воду из фонтанчика. Нет, я смотрю не на всех, конечно, я смотрю на Тофа, слежу за его новой красной бейсболкой, которая ему велика, слежу, как он ждет своей очереди, как он ловит мяч, поворачивается и бросает его тренеру на вторую базу. Я смотрю только на него, даже пока он ждет выхода на поле; мне интересно, разговаривает ли он с другими ребятами, ладит ли с ними; я напряженно стараюсь понять, принимают ли его, и слежу… – время от времени я отвлекаюсь на одного из чернокожих детей, делающих на поле нечто потрясающе, – у них две явные звезды, мальчик и девочка, оба рослые, быстроногие, невероятно одаренные, играют гораздо лучше остальных, но ленивые и расслабленные, поскольку знают о своем таланте. Во время тренировок я жду, когда настанет очередь Тофа, когда придет его черед принимать подачу или стоять на второй базе, практически умирая от волнения.
Мог же его поймать!
Отлично-отлично-отлично!
Ну же, давай!
Я не говорю ни слова, и это все, что я могу сделать, чтобы не поднимать шума. Ловит он хорошо, вообще поймать может все что угодно – мы работаем над этим с тех пор, как ему исполнилось четыре, но вот с подачами… ну почему этот парень не умеет подавать? Может, бита нужна полегче? Заглохни! Замах! Замах! О господи, да такой подачей только мясо отбивать для готовки. Бей по мячу! Бей по этому кокосу, парень!
Сам я никогда не был хорошим бейсболистом, но и в старших классах школы, и в колледже неизменно делал вид, что знаний моих хватит для того, чтобы получить на лето работу тренера по тиболу[44] или начальника спортивного лагеря. Когда Тоф подрос, он ходил бы со мной на тренировки, каждый день таскался бы за мной, с трудом скрывая счастье быть младшим братом начальника лагеря.
Я наблюдаю, и матери наблюдают. Я не знаю, как с ними общаться. Я один из них? Время от времени они стараются вовлечь меня в беседу, но тоже не знают, как вести себя со мной. Я смотрю в их сторону и улыбаюсь, когда кто-то из них шутит, и все остальные смеются. Они смеются – я слегка хмыкаю, не хочу показаться чересчур навязчивым, просто как бы говорю: «Я вас слышу, я смеюсь вместе с вами, я разделяю ваше настроение». Но когда смех утихает, я по-прежнему остаюсь в стороне, я – это нечто иное, а что именно, никто не знает. Они не хотят тратить время на старшего брата, которого послали за Тофом, пока их мать готовит ужин, или задерживается на работе, или застряла в пробке. Я для них – нечто временное. Может, вообще кузен. Может, молодой приятель разведенки? В принципе, им все равно.
Ну и хрен с ним. Дружить с этими мамашами я и не собираюсь. Да и с чего бы? Я не один из них. Они – старье, а мы – новые модели.
Я смотрю, как Тоф общается со сверстниками, перевожу взгляд с одного на другого, прикидываю, подозреваю.
С чего это они смеются?
Над чем смеются? Над бейсболкой Тофа? Ведь она велика, так?
Да кто они такие, эти маленькие засранцы? Я им уши поотрываю.
А, вот в чем было дело. Всего-то. Ха-ха. Ха-ха
После тренировки мы идем домой, вниз по улице Марин-роуд – чудовищный спуск под углом не меньше сорока пяти градусов. Идти по ней и не выглядеть при этом глупо практически невозможно, но Тоф придумал походку, решающую этот вопрос: шагает так размеренно, вразвалочку, на причудливо согнутых ногах, загребая впереди себя руками и отбрасывая назад воздух, – выглядит все это в итоге не так смешно, как обычное неуклюжее шлепанье ногами и размахивание руками. То еще зрелище, эта походка.
Когда мы доходим до нашей улицы, Спрюс, и поверхность выравнивается, я спрашиваю его, как можно мягче, насчет его подач, вернее, их отсутствия.
– Слушай, почему ты так хреново бьешь?
– Не знаю.
– Может, биту нужно полегче?
– Думаешь?
– Да, пожалуй, стоит купить новую.
– Купим?
– Да, поищем новую, что-нибудь придумаем.
Тут я толкаю его в кусты.
Мы по-прежнему в пути. Мы едем на пляж. В машине, если по радио не играет какой-нибудь революционный рок-н-ролл, – революционный рок-н-ролл, написанный и исполненный гениями современной музыки, – мы играем в слова. Какой-то звуковой фон быть должен – музыка или слова. Только не молчать. Смысл игры в том, чтобы назвать бейсболистов, чье имя начинается с той же буквы, что и фамилия предыдущего.
– Джеки Робинсон, – говорю я.
– Рэнди Джонсон, – говорит он.
– Джонни Бенч, – говорю я.
– Кто?
– Джонни Бенч. Кэтчер из «Редз».
– Уверен?
– В смысле?
– Никогда не слыхал о нем.
– О Джонни Бенче?
– Ага.
– И что?
– А то, что ты, может, сам его придумал.
Тоф собирает бейсбольные карточки. Он может назвать текущую стоимость любой своей карточки – а их у него тысячи, если добавить к его коллекции те, что достались в наследство от Билла. И тем не менее он ничего ни о чем не знает. Я остаюсь спокоен, хотя Тоф и заслуживает хорошего удара головой о стекло. Слышали бы вы, какой звук при этом получается. Очень необычный, даже он сам это признает.
Джонни Бенч? Джонни, блядь, Бенч?
– Не сомневайся, – говорю я. – Джонни Бенч.
Мы тормозим у пляжа. Я останавливаюсь здесь, потому что слышал о существовании пляжей вроде этого и еще потому, и как раз здесь, в нескольких милях от Монтары, сразу за широким изгибом шоссе, есть как раз такой пляж с табличкой: «Для нудистов». Мне вдруг становится очень любопытно. Я съезжаю на обочину, выскакиваю из машины…