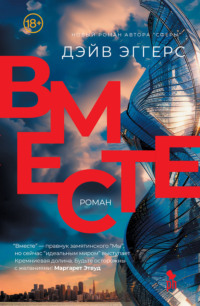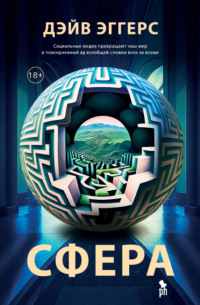Полная версия
Захватывающие деяния искрометного гения
Она выписалась из больницы опустошенной, подавленной и теперь, благополучно оказавшись дома, не хотела возвращаться назад. Она заставила меня и Бет пообещать, что мы никогда ее больше туда не отправим. Мы пообещали.
– Окей, – сказали мы.
– Я серьезно, – сказала она.
– Окей, – сказали мы.
Я еще сильнее, насколько возможно, закинул ее голову назад. Спинка дивана была мягкой и удобной.
Она сплевывает. Она привыкла сплевывать, но все еще издает напряженные, как при рвоте, звуки.
– Больно? – спрашиваю я.
– Больно – что?
– Сплевывать?
– Нет, глупыш, от этого легче.
– Извини.
Снаружи проходит семья: мать, отец, маленький ребенок в зимних штанах и куртке и коляска. Они не смотрят в наше окно. Трудно сказать, знают ли они, что у нас происходит. Может, и знают, но просто вежливые. Многие знают.
Мать любит, когда шторы раздвинуты, чтобы были видны двор и улица. Днем снаружи часто бывает очень светло, но хотя через окно свет виден хорошо, в комнату он проникает неохотно, так что никакого освещения не дает. Я не сторонник раздвинутых штор.
Некоторые знают. Конечно, знают.
Многие знают.
Все знают. Все говорят. Ждут.
У меня на них есть планы – на любопытствующих, сующих нос не в свое дело, сочувствующих – есть богатые фантазии касательно тех, для кого мы – смешные и жалкие – источник для сплетен. Я представляю себе удушение – Тссс, я слышу, как у нее – хруст! – ломаются шейные позвонки – Что же будет с этим несчастными дет… Бах! – Я представляю, как пинаю тела, они падают на землю, извиваются, плюются кровью и… Господи Иисусе, Господи Иисусе, мать твою, простите меня, простите! – молят о прощении. Я поднимаю их высоко над головой, швыряю вниз, ломаю о колено, позвоночники у них что деревянные рейки. Неужели не видите? Я заталкиваю обидчиков в огромные резервуары с кислотой и смотрю, как они отчаянно стараются выбраться, орут, а кислота разъедает их тела. Мои руки тянутся к ним, рвут их на части – я вырываю у них сердца, кишки и отбрасываю в сторону. Я проламываю черепа, отсекаю головы, орудую бейсбольной битой – способ и мера наказания зависит от личности оскорбителя и характера оскорбления. Те, кто не нравятся моей матери или не нравятся мне, – первые в очереди, и их ждет самое худшее – чаще всего долгое медленное удушение: их лица краснеют, потом багровеют, потом лиловеют. Те, кого я почти не знаю, – вроде семьи, только что прошедшей мимо, – худшего избегут. Ничего личного. Я перееду их машиной.
Кровь из носа и меня, и мать несколько тревожит, но мы пока действуем, исходя из того, что она остановится. Пока я зажимаю ей ноздри, она крепко держит – полумесяц, покоящийся у нее на груди, под самым подбородком.
И тут мне в голову приходит великолепная идея. Я стараюсь рассмешить ее, произнося слова так, как произносят их люди с зажатым носом.
– Ну? – говорю я. – Пожалуйста.
– Нет, – отвечает она.
– Ну давай.
– Прекрати.
– Что?
* * *Руки у матери жилистые и сильные. На шее видны вены. На спине веснушки. Она, бывало, показывала фокус: делает вид, что отрывает большой палец, хотя на самом деле, конечно, ничего подобного. Вы же знаете, как это выглядит? Фалангу большого пальца на правой руке ставят так, что она выглядит фалангой левого, а дальше ее начинают дергать вверх-вниз, прикрыв указательным пальцем: прижать – оторвать. Фокус довольно неприятный, тем более в исполнении моей матери: руки у нее дрожали, тряслись, вены на шее вздувались, на лице напряжение, будто палец и впрямь отрывают. Детьми мы смотрели на это зрелище одновременно с восторгом и страхом. Мы понимали, что все это не по-настоящему, мы видели этот фокус десятки раз, но от этого сила его воздействия не уменьшалась, потому что у матери был неповторимый физический облик – она вся состояла из кожи и мышц. Мы заставляли ее показывать фокус нашим друзьям, и их он тоже и завораживал, и приводил в ужас. Но дети ее любили. Все знали ее со школы – в начальной школе она ставила спектакли, поддерживала ребят, чьи родители разводились, она знала их и любила и никогда не стеснялась приобнять каждого, особенно стеснительных, – был у нее какой-то естественный дар понимания, полное отсутствие сомнения в том, что она делает, и от этого людям становилось легко, и это так отличало ее от некоторых других матерей, сентиментальных и неуверенных в себе. Конечно, если ей кто-то не нравился, он сразу чувствовал это. Кто-нибудь вроде Тоби Уилларда – плотного толстячка с вечно немытыми светлыми волосами, жившего в квартале от нас. Он, бывало, стоял на улице и, когда мать проезжала мимо, показывал ей средний палец. «Плохой мальчик», – говорила она о таких, – и это были не просто слова, мать была наделена некоей внутренней твердостью, с которой приходилось считаться в любых обстоятельствах – и заносила их в черных список, где они оставались вплоть до момента, пока не извинятся (Тоби, к сожалению, этого не сделал), и тогда снова заслужат, как и все остальные, любовь и ласку. При всей незаурядной физической силе ее главная сила сосредоточивалась в глазах, маленьких голубых глазах, и ее убийственный прищур безошибочно говорил: для защиты того, что ей дорого, она не задумываясь воплотит скрытую во взгляде угрозу, и ничто ее не остановит, – она переедет обидчика, как бульдозер. При этом силу свою она вовсе не демонстрировала, в мышцах ее ощущалась полная непринужденность и уверенность в себе. Готовя салат, она могла порезать палец, чаще всего большой, отрезать кусочек плоти, кровь заливала все вокруг: помидоры, разделочную доску, раковину; и мы с ужасом, боясь, что она умрет, смотрели на нее снизу вверх. А она просто морщилась, подставляла руку под кран, смывала кровь, промокала порез бумажной салфеткой и продолжала нарезать овощи, а кровь медленно сочилась через салфетку и, как и положено, растекалась от центра раны.
Рядом с телевизором стоят наши детские фотографии, в том числе одна, на которой мы – я, Билл и Бет, всем еще не исполнилось семи, – сидим в утлой лодчонке оранжевого цвета, и лица у нас испуганные. По фотографии кажется, что вокруг нас сплошная вода и мы в нескольких милях от берега, по выражению наших лиц иначе не скажешь. Но на самом-то деле до берега не более десяти футов, а мать, в своем коричневом закрытом купальнике с белой каемкой, стоит по щиколотку в воде и снимает нас. Эту фотографию мы знаем лучше всех других, она нам каждый день попадалась на глаза, а цвета на ней – голубизна озера Мичиган, оранжевые борта лодочки, наша смуглая кожа и светлые волосы – это цвета нашего детства. На фотографии мы трое держимся за борт, стремимся наружу, хотим, чтобы мать вытащила нас, пока эта штуковина не утонула или ее не отнесло волной.
– Как учеба? – спрашивает мать.
– Нормально.
Я не говорю ей, что пропускаю занятия.
– Как Кирстен?
– Все хорошо.
– Она мне всегда нравилась. Славная девочка. Бойкая.
Откинувшись на спинку дивана, я думаю о том, что оно приближается, подступает, – как почтовое отправление, как нечто такое, за чем послали. Мы это понимаем, и вопрос состоит лишь в том – когда? Через несколько недель? Месяцев? Ей пятьдесят один. Мне двадцать один. Сестре двадцать три. Братьям – двадцать четыре и семь.
Мы готовы. Мы не готовы. Все всё знают.
Наш дом стоит на обрыве. Наш дом из тех, что уносит торнадо; игрушечный домик от детской железной дороги – беспомощный в черном вихре. Мы слабые и маленькие. Мы – Гренада[32]. Люди спускаются на землю на парашютах.
Мы ждем, пока всё не прекратит свою работу – все органы и системы поднимут руки вверх: Всё, кранты, – признает эндокринная система; я сделал всё от меня зависящее, – скажет желудок или то, что от него осталось; справимся с этим в следующий раз, – подхватит сердце, дружески похлопывая по плечу.
Примерно через полчаса я убрал полотенце, и мгновение крови не было.
– По-моему, у нас получилось.
– Правда? – спрашивает она, глядя на меня.
– Не течет, – говорю я.
Я замечаю, какие большие у нее поры, особенно вокруг носа. Кожа у нее долгие годы оставалась жесткой, с несходившим загаром – не сказать, что это ее портило, но напоминало об ирландских корнях, о том, как далеко она родилась…
Снова пошла, густая с черными засохшими корочками кровь, сначала медленно, потом тонкой алой струйкой. Я снова зажимаю ей ноздри.
– Больно, – говорит она, – не так сильно.
– Извини.
– Я голоден, – доносится чей-то голос. Тоф. Он стоит позади меня, у дивана.
– Чего тебе? – спрашиваю.
– Я голоден.
– Сейчас я не могу тебя накормить. Найди в холодильнике что-нибудь.
– Например?
– Мне все равно, что угодно.
– Например?
– Не знаю.
– А что у нас есть?
– Почему бы тебе самому не посмотреть? Тебе семь, уж посмотреть-то ты вполне способен.
– У нас нет ничего вкусного.
– Ну и не ешь.
– Но я голоден.
– Тогда съешь что-нибудь.
– Но что?
– О господи, Тоф, ну хотя бы яблоко.
– Я не хочу яблоко.
– Пойди сюда, малыш, – позвала мама.
– Поедим попозже, – говорю я.
– Подойди к маме.
– Что поедим?
– Ступай вниз, Тоф.
Тоф идет вниз.
– Он боится меня, – говорит мать.
– Он тебя не боится.
Я выжидаю несколько минут и убираю полотенце, чтобы посмотреть, как там с носом. Нос побагровел. Кровь не сворачивается. Кровь по-прежнему бежит тонкой красной струйкой.
– Не сворачивается, – говорю.
– Знаю.
– Что будем делать?
– Ничего.
– Что значит ничего?
– Остановится.
– Но ведь не останавливается.
– Надо подождать.
– Мы и так уже сколько ждем.
– Надо еще подождать.
– По-моему, надо что-то делать.
– Ждать.
– Когда вернется Бет?
– Не знаю.
– Надо что-то делать.
– Ладно. Звони медсестре.
Я звоню медсестре, которой мы звоним, когда возникают вопросы. Мы звоним ей, когда начинает барахлить капельница, или когда в трубке появляются пузырьки воздуха, или на спине у матери возникают синяки величиной с тарелку. Что касается носа, то она советует зажать его и откинуть голову назад, я говорю, что именно так и делал, но не помогло. Она предлагает приложить лед. Я говорю спасибо, вешаю трубку, иду на кухню и заворачиваю в бумажную салфетку три кубика льда. Возвращаюсь и прижимаю их к переносице.
– Ой! – вскрикивает она.
– Прости, – говорю.
– Холодно.
– Это лед.
– Я знаю, что это лед.
– Лед холодный.
Мне все еще приходится сжимать ей нос, так что левой рукой я сжимаю, а правой прикладываю лед к переносице. Неудобно и не получается делать это одновременно, если сидеть на подлокотнике дивана и смотреть, что происходит на экране телевизора. Я пробую встать на колени рядом с диваном. Перегибаюсь через подлокотник, чтобы одной рукой приложить лед, а другой зажать ноздри. Так получается, но вскоре начинает затекать шея – чтобы видеть экран, мне приходится выворачивать голову на девяносто градусов. Тоже не годится.
Меня осеняет. Через подушки я забираюсь на спинку дивана. Растягиваюсь во всю ее длину, под тяжестью моего тела подушки всхлипывают. Устраиваюсь так, чтобы голова моя и руки были в одном направлении – руки доставали до ее носа, а голова удобно лежала на спинке дивана, и экран было видно. Отлично. Она смотрит на меня, закатывает глаза. Я показываю ей большой палец. Она сплевывает зеленую слизь в кювету.
Отец не пошевелился. Бет стояла на пороге общей комнаты и ждала. Он находился примерно в десяти футах от дороги. Стоял на коленях, уперев при этом руки в землю и растопырив пальцы, как корни дерева, растущего на берегу реки. Он не молился. На мгновение голова его откинулась назад – он посмотрел вверх, но не на небо, а на деревья в соседнем дворе. Он все еще стоял на коленях. Это он так ходил за газетой.
Плевательница-полумесяц была переполнена. Теперь в ней три цвета – зеленый, красный и черный. Кровь у нее течет не только из носа, но и изо рта. Я сосредоточенно изучаю кювету и замечаю, что три потока слизи не перемешиваются: зеленый более клейкий, чем другие, кровь очень разжижена и плавает по краям. В углу скопилось немного черной жидкости. Возможно, это желчь.
– Что это там черное? – спрашиваю я со своего насеста.
– Желчь, наверное, – говорит она.
Какая-то машина заворачивает на подъездную дорожку и направляется к гаражу. Дверь, ведущая из гаража в прачечную, открывается и закрывается, затем открывается и закрывается дверь в ванную. Бет дома.
Бет занимается спортом. Бет нравится, что на выходные я приезжаю из колледжа домой, это дает ей возможность тренироваться. Она говорит, что ей нужны эти тренировки. Кроссовки Тофа все еще грохочут. Бет входит в комнату. На ней толстовка и леггинсы. Волосы собраны, хотя обычно она ходит с распущенными.
– Привет, – говорю я.
– Привет, – говорит Бет.
– Привет, – говорит мама.
– Ты зачем на спинку дивана забрался? – спрашивает Бет.
– Так проще.
– Проще что?
– Кровь носом идет, – говорю я.
– Вот черт. Давно?
– Минут сорок.
– Медсестре звонил?
– Да, она сказала приложить лед.
– В прошлый раз это не помогло.
– А ты что, уже пробовала?
– Конечно.
– Мам, ты мне этого не сказала.
– Мам?
– Я туда не вернусь.
Мой отец, любитель небольших чудес, сделал однажды нечто почти невозможное. Вот что он придумал: примерно полгода назад он позвал нас, Бет и меня, – Билла не было, Билл был в Вашингтоне, и Тофа тоже не было, – в общую комнату. Матери там почему-то не оказалось, почему именно, не помню. Ну, мы сели, место выбрали как можно дальше от вечно окутывающих его клубов сигаретного дыма. Разговор, если ему предстояло пойти по обычному сценарию, состоял бы из пары ничего не значащих фраз, затем обсуждения дел в целом, потом признания, как отцу трудно сказать то, что он собирается сказать, и так далее, и мы уже постарались устроиться поудобнее, явно не ожидая…
– Ваша мать умирает.
Я уступаю Бет свое место – держать лед и зажимать ноздри. Однако ей мои новации не понравились, и она села не на спинку, а на подлокотник дивана. Полотенце промокло. Рукой ощущаю тепло и влажность крови. Иду в прачечную и бросаю полотенце в раковину, оно шлепается на дно. Я разминаю затекшие руки, достаю из сушилки новое полотенце и кроссовки Тофа. Возвращаюсь, протягиваю полотенце сестре.
Спускаюсь вниз посмотреть, как там Тоф. Я сажусь на ступеньки, откуда видно подвал – комнату отдыха, переделанную в спальню, а затем снова – в комнату отдыха.
– Привет, – говорю я.
– Привет, – говорит Тоф.
– Как дела?
– Хорошо.
– Ты все еще голодный?
– Что?
– Голодный, спрашиваю?
– Что?
– Заканчивай эти дурацкие игры.
– Ладно.
– Ты меня слышишь?
– Да.
– Ты меня слушаешь?
– Да.
– Есть хочешь?
– Да.
– Закажем пиццу.
– Хорошо.
– Вот твои кроссовки.
– Высохли?
– Да.
Я возвращаюсь наверх.
– Надо это вылить, – говорит Бет, указывая на кювету-полумесяц.
– Я, что ли, должен?
– А почему не ты?
Я медленно проношу кювету над головой матери и иду на кухню. Она полна до краев. Содержимое колышется. На полпути я проливаю большую часть себе на ногу и гадаю, насколько едкая эта желчь и что еще там в этой кювете. Может эта слизь прожечь штаны? Я замираю на месте и смотрю, не прожигает ли она ткань, как кислота, жду, пока появятся дым и постепенно увеличивающаяся в размерах дыра, – как бывает, когда на поверхность попадает кровь инопланетян.
Но ничего не происходит. Все же я решаю переодеть штаны.
Бет зажимает нос матери уже какое-то время. Она сидит на подлокотнике дивана, наклонившись к маминой голове. Из кухни я делаю телевизор погромче. Прошел час.
* * *Кровь все не останавливается. Бет приходит ко мне на кухню.
– Что будем делать? – шепчет она.
– Надо везти ее туда.
– Нельзя.
– Почему?
– Мы обещали.
– Да брось ты.
– Что?
– Еще не тот случай.
– А может тот.
– Может, но не должен.
– Она сама хочет, чтобы тот.
– Не хочет.
– А я думаю, хочет.
– Нет, не хочет.
– Она так сказала.
– Она не всерьез.
– Я думаю, всерьез.
– Не может быть. Это смешно.
– Ты слышал, что она сказала?
– Нет, но и неважно.
– Ладно, а сам что скажешь?
– Думаю, ей страшно.
– Ага.
– И думаю, что она не готова. Ты же тоже не готов?
– Нет, конечно нет. А ты?
– Нет. Нет-нет.
Бет возвращается в общую комнату. Я мою кювету, голова идет кругом от мыслей о логистике. Итак. Ладно. Если кровь идет медленно, но не переставая, как долго это может продолжаться? День? Нет-нет, меньше – это ведь не вся кровь, до того, как вся кровь вытечет, пройдет… Мы ведь не будем ждать, пока крови не останется вовсе; вернее всего, в какой-то момент откажет все остальное… О господи, сколько же крови всего? Галлон? Меньше? Это можно выяснить. Можно еще раз позвонить медсестре. Нет-нет, нельзя. Если спросить кого-нибудь, нас заставят привезти ее в больницу. А если станет известно, что мы должны были привезти ее, а мы не привезли, мы окажемся убийцами. Можно позвонить в скорую и сказать, например: «Привет, для урока я готовлю доклад о медленном кровотечении…» Блядь. Полотенец нам хватит? О господи, нет. Можно заменить их простынями, у нас куча простыней… Может, осталось всего несколько часов. Этого времени хватит? А на что должно хватить-то? Мы будем много говорить. Да. Будем подводить итоги. Надо быть серьезными и здравомыслящими? Или веселыми? Какое-то время, несколько минут, мы будем серьезными… Окей, всё-всё. Бля, а что, если в разговоре повиснет пауза?.. Мы уже сделали необходимые приготовления. Да-да, нам не придется обсуждать детали. Мы позовем Тофа. Надо же позвать? Конечно, хотя… нет-нет, ему здесь не место, верно? Да и кому вообще захочется присутствовать до самого конца? Никому, никому. Но не оставлять же ее одну… конечно, она не останется одна, ты, болван, будешь с ней, Бет будет. Бля. Надо позвонить Биллу. Кому еще? Кому-то из родни? Никаких дедушек-бабушек, ее родителей и родителей отца, ее сестры Рут нет, ее сестра Грейс жива, но где она – неизвестно, скрывается, хиппи чертова… Бля… От некоторых людей уже много лет ничего не слышно. Так, теперь друзья. Кому звонить? Кому-то из волейбольной команды из школы Монтессори… черт, мы точно кого-нибудь забудем… Ну и забудем, но нас поймут, должны понять… Блядь, мы ведь все равно уезжаем, переезжаем, когда все это закончится, бля… Конференц-звонок? Нет-нет – было бы странно. Странно, но смысл есть, точно есть смысл, да и занятно может получиться, люди болтают, много голосов, этим можно воспользоваться. Голоса отвлекут, тихо не будет, тишина – это нехорошо, нужен шум. Придется подготовить их, предупредить, но, черт, что сказать-то? «Все происходит так стремительно», – что-нибудь в этом роде, туманно, но и с достаточной ясностью, надо сделать по-тихому, не прямо. Взять вторую трубку на кухне, предупредить, пока мама не добралась до телефона… Так сработает, на линии будут все разом… Надо позвонить в телефонную компанию, пусть всё устроят… Подключена у нас такая услуга? Удержание вызова точно есть, а вот конференц-звонок – скорее всего, нет, точно нет, бля… Нам нужна громкая связь, вот что нам нужно. Тогда все получится, громкая связь… Я мог бы купить динамик для громкой связи, я мог бы съездить за ним в «Кмарт»[33], надо взять машину отцовскую, она быстрее маминой, гораздо быстрее… А там механическая коробка? Нет-нет, автомат, я справлюсь, раньше никогда ее не водил, но справлюсь, без проблем, машина быстрая, разгонюсь на шоссе… Черт, ехать минут двадцать туда-обратно, да еще время на покупку, а что, если нужной штуки нет – может, сперва позвонить, конечно, можно позвонить и спросить, есть ли у них эта штуковина… И надо бы еще понять, что у нас за телефон, совместим ли он с динамиком, – так, «Сони» – а потом… Черт, почему я вообще должен куда-то ехать? Бет здесь весь год живет, у нее полно свободного времени, пусть Бет едет, конечно Бет, Бет поедет, Бет поедет – только она решит, что никакого динамика не нужно, забудь, скажет, про это… Может, и хрен с ним. Хрен. Хрен. Хрен. Чем громкая связь, на самом деле, поможет? Конечно, не поможет, нам все равно понадобится подключение конференц-связи. Позвоним Биллу, и тете Джейн, и кузинам Сьюзи и Джейни – дочерям Рут, может, еще кузену Марку. Вот и всё. Телефонный разговор займет, наверное, минут двадцать, потом ненадолго приведем Тофа, как бы просто так, между делом, в легкую, поразвлечься-поиграть, поиграть-поразвлечься, в легкую – стало быть, минут двадцать в компании с Тофом, потом… Так, момент, у нас вообще сколько времени? Сколько еще кровь из носа идти будет? Может, два часа, а то и больше, запросто целый день – о господи, способен это кто-нибудь сказать? Навскидку в лучшем случае два часа… Стоп! Я знаю, как остановить кровь. Да. У меня получится. Побольше льда. Переложу ее, переверну, наклоню – гравитация. Нос зажму посильнее, на сей раз посильнее; наверное, раньше слишком слабо было… Бля. А что, если не сработает? Не сработает. Нельзя тратить последние часы на эту возню, нет, пусть все будет как будет. Телик надо выключить. Но не слишком ли драматично? Бля, а почему и нет, мы же у себя дома, мы можем… Ладно, черт, спросим ее саму, пусть мама решит, выключить телевизор или пусть работает, ее же шоу… Ну и фразочка «ее шоу», вот же неуважение, тупая я скотина. Блядь. Ладно, какое-то время у нас есть, можно посидеть с ней, поболтать, просто посидеть, хорошо… Господи, да какое там хорошо, когда вокруг все в крови… Это же невозможно… А может, все-таки… Ведь кровь течет так медленно… Может течь несколько дней, сколько дней пройдет, пока все не вытечет, но, может, так и нужно, это естественно, вытечет медленно, как когда пиявок ставят… Да нет, мудак ты, больной мудак, – какие пиявки. Стоит потом рассказывать, как все было? Точно нет. Скажем: умерла дома. Вполне приличное объяснение. Так, помнится, говорили о том парне, который застрелился после выпускного вечера, и о парне с художественного факультета с глазами Марти Фельдмана[34]. А еще была женщина с раком костей, она заперлась у себя дома и подожгла его. Невероятно. Что это было – акт мужества или она спятила? Так легче, что ли, – спалить все вокруг? Да. Нет. «Умерла дома». Так и скажем, ни слова больше. Так или иначе все всё узнают. И никто ничего не скажет. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно.
Я выливаю содержимое кюветы в раковину, поверх скопившихся там объедков. Включаю воду и измельчитель отходов, который все перемалывает. Голос Бет доносится из комнаты.
– Мам, надо ехать.
– Нет.
– Серьезно.
– Нет.
– Надо.
– Ничего не надо.
– Хорошо, чего ты хочешь?
– Остаться здесь.
– Но это невозможно. У тебя идет кровь.
– Вы говорили, что мы останемся здесь.
– Мам, ну, прошу тебя.
– Ты обещала.
– Но это же безумие.
– Вы обещали.
– Нельзя же просто лежать и истекать кровью.
– Позвоните еще раз медсестре.
– Мы уже звонили. И не раз. Она говорит, чтобы мы привезли тебя. Они нас ждут.
– Позвоните другой медсестре.
– Мам, ну прошу тебя.
– Идиотизм.
– Не надо называть меня идиоткой.
– Я не называла тебя идиоткой.
– Так кого же ты только что назвала дураком?
– Никого. Я просто сказала, что это идиотизм.
– Что идиотизм?
– Что от крови из носа можно умереть. Я лично не собираюсь.
– А медсестра сказала, что это возможно.
– И доктор сказал, что это возможно.
– Если мы поедем туда, то мне уже не вернуться.
– Вернешься.
– Нет.
– О господи.
– Я не хочу туда ехать.
– Мама, не плачь, пожалуйста.
– Не говори так.
– Извини.
– Мы тебя вытащим оттуда.
– Ма?
– Что?
– Ты выйдешь оттуда.
– Вы хотите, чтобы я там осталась.
– О господи.
– Вы только посмотрите на себя. Вылитые Труляля и Траляля[35].
– Чего?
– У вас просто планы на сегодняшний вечер.
– Господи.
– Это же новогодняя ночь. И у вас свои планы!
– Ладно, лежи, истекай кровью. Пока не умрешь.
– Мам, ну пожалуйста.
– Лежи, и пусть себе кровь течет. Только у нас полотенец не хватит. Надо сходить в магазин за новыми.
– Ма?
– И диван испортишь.
– Где Тоф? – спрашивает она.
– Внизу.
– Что он там делает?
– Играет.
– Что он будет делать?
– Он поедет с нами.
В дальнем конце подъездной дорожки отец стоял на коленях. Бет смотрела на него через серое зимнее окно, и на какой-то миг, буквально на секунду, эта картинка ей даже понравилась. А потом она поняла. Он падал. На кухне, в ванной. Она помчалась к двери, рванула ее на себя и побежала к отцу.