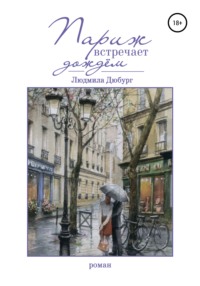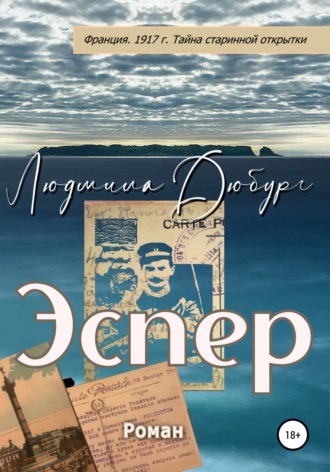
Полная версия
Эспер
Не могла же она рассказать, что Временное правительство не намерено возвращать русские бригады на родину, что война, порядком надоевшая после многих поражений, вызвала гнев во французской армии. Что французские солдаты бунтуют, но репрессиям подвергают их, а не бездарных генералов. Что правительство Франции, встретившее с такой помпой красавцев из России, теперь не знает, как от них избавиться, опасаясь после февральской революции волнений в русских дивизиях. Что новость об отречении царя повергла офицеров в состояние некоторой растерянности, что грядут перемены, еще более трагичные, для тех, кто совершил изнурительное морское путешествие из России во Францию. Обо всем перечисленном можно было лишь догадываться по тревожным сообщениям, но пока пациенты пребывали в неведении, наслаждаясь весной и покоем.
В самом госпитале аппетитно пахло борщом, забивающим запах лекарств.
– Борч? – изумился Этьен, известный гурман, выговорив самое известное блюдо русской кухни на свой лад.
– Эх, тарелочку бы борщеца, соскучились мы, правда, Василий? – Николай вопросительно посмотрел на Эспера.
Тарелочку борщеца прибывшим пообещали налить после оформления всех бумаг. Что ж, жизнь не сдавалась, и ей наплевать было на то, что рядом, в забрызганной весенней грязью санитарной машине, лежал труп, которому не хватило всего-то десяти километров. Тело Жиля Матте перенесли в специальное помещение, мертвецкую. Медсестра отдала Эсперу личные вещи умершего, попросив переслать родным в Безансон. Василия Смирнова после предварительного осмотра поместили в больничную палату. Врачи пообещали положительный исход и постепенную реабилитацию. Впервые за день он улыбнулся – слегка, вымученно и, пытаясь что-то сказать, тут же захлебнулся в кашле, заглушившем нежные звуки мандолины, доносившиеся из соседней комнаты. Наскоро перекусив, друзья стали прощаться.
– Ну, бывай, брат, – все трое пожали руку Василию и отправились в Париж.
Эспер открыл маленький пакет – в нем было то, что осталось от Жиля. Простая, даже не серебряная, цепочка, на которой висели крестик и кулончик с образом Девы Марии, крошечный медальончик с фотографией улыбающихся женщины и девочки, несколько открыток. Одна из них, датированная началом марта 1917 года, адресовалась либо другу, либо родственнику и по какой-то причине не была отправлена. Черно-белое изображение бульвара Мадлен – типично парижский вид. На обороте – жизнь, еще не прикрытая шинелью:
«Мой дорогой Александр, отвечаю на твое любезное письмо, которое получил сегодня в полдень. Вижу, что ты верен нашей традиции, думаешь обо мне. Я тоже ничего не забыл, вспоминаю время, которое мы провели вместе. Ведь для тебя тоже скоро наступит час, когда ты должен будешь покинуть дом, в котором родился. Оставить то, что было для тебя таким дорогим, и в течение нескольких лет быть среди людей жестоких, порой грубых, которых невозможно понять. Но, очень верю, это не продлится долго, что и должно успокоить.
Однажды мы встретимся, чтобы прожить нашу прерванную жизнь счастливо, тихо. Пользуюсь случаем, чтобы сказать тебе пару слов сегодня, так как в пятницу, завтра, у нас будет пеший поход. Мы уйдем в час ночи, чтобы вернуться только вечером в восемь часов. Как нам достанутся эти километры, особенно тем, кто не имеет привычки ходить пешком? У меня определенно будут болеть ноги. В ожидании твоих новостей, мой дорогой, Александр, шлю наилучшие пожелания. Тебе и твоим родителям. Жиль».
В это же время была написана открытка жене, мадам Эвелин Матте, также по какой-то причине не отправленная. Может, Жиль чего-то ждал, может, хотел еще что-то дописать, а может, и просто из-за суеверия решил не торопиться. Типичная любовная открытка с изображением влюбленной пары. Женщина полулежала на волчьей шкуре спиной к сидящему рядом мужчине, слегка повернув голову в его сторону. Правой рукой он нежно сжимал лодыжку дамы, левой – обнимал любимую, притягивая к себе, намереваясь слиться в долгом поцелуе. Рядом с названием открытки «Мое счастье» Жиль приписал неровно, мелкими буквами: «…это прижать тебя надолго к моему сердцу и соединить наши губы на всю жизнь». Будто хотел, чтобы никто, кроме нее, не прочел, что же такое было для него счастье.
«Моя маленькая дорогая Лин! – нежно обращался Жиль к жене одним им знакомым словом. – Отправил тебе открытку вчера, думаю, ты обрадуешься. Тем более что в ней кое-что есть! Ты найдешь и скажешь мне. Я получил от тебя письмо сегодня, 25-го, оно запоздало, уже старое, но ты всё равно пиши каждый день.
Не жди меня скоро, любимая… Завтра после обеда мы свободны, у меня будет время, подумаю о тебе и напишу снова. Как дочки? Крошка Люлю, мама? Будьте осторожны в холода! Потому что весна не спешит, все еще прохладно. Ну а я ночью зарываюсь в солому! Моя Лин… Когда же мы будем вместе, как на этой открытке. Ты, как и я, знаю, так бы того хотела. Но это будет… Если бы только дали увольнительную поскорее. А в общем, все хорошо. Буду заканчивать, любимая, маленькая девочка. Мои губы соединяются с твоими, целую тебя нежно, моя дорогая. Тысячу поцелуев шлю моим малышкам и маме. Привет месье Лемаи, поблагодари за отправленную бутылку вина. Оно было замечательным. Люблю тебя».
По эмоциям и смыслу письмо напоминало то, что он когда-то случайно прочитал от жены Бернара. Здесь – тот же кусочек страсти, только от мужа – жене. Эспер привык ко многому: трупам, уродливости смерти и человеческих тел, чужой боли, постепенно становясь безучастным, воспринимая виденное как нечто логичное, неизбежное. Но, вспомнив лицо покойника, застывшие на нем злость и отчаяние, едва сдержался, чтобы не застонать. Было невозможно представить себе Жиля в жаркой любовной сцене с «маленькой Лин». Синие губы, полуоткрытый рот, заострившиеся скулы, слипшиеся на лбу волосы, мужская плоть, съежившаяся от стыда и бессилия, омерзительный запах рвоты дисгармонировали с нежностью и чувственностью послания, вызывая одновременно жалость, удивление и даже отвращение.
И наконец, третья открытка, написанная детским почерком, была отправлена первого января 1917 года из Безансона: «Мой дорогой папа, шлю тебе наилучшие пожелания. Желаю счастливого Нового года и прошу бога закончить войну быстрее, чтобы тебя увидеть. Маленькая Мари-Луиз, наша малютка Люлю, очень мила, спокойна, тоже шлет пожелания и просит Иисуса за тебя. Твои маленькие дочки: Сильви и Мари-Луиз».
«Однажды мы встретимся, чтобы прожить нашу прерванную жизнь счастливо, тихо», – перечитал Эспер слова, обращенные к неведомому Александру.
Прожить жизнь счастливо и тихо еще не удавалось ни одному поколению.
Глава 5. Мартина
1917 год. 5 мая. ПарижОни приехали в Париж чуть раньше наступления сумерек. Город готовился к ночи. Ничто или почти ничто не напоминало о войне. По Сене курсировали прогулочные пароходы, по улицам спешили извозчики, рестораны открывались для вечернего ужина. Погода стояла чуть прохладная, парижане были одеты тепло, хотя уже и не по-зимнему, в неизменных шляпах и шляпках. Въехав на Елисейские поля, Этьен остановился, предложив Николаю и Эсперу выйти подышать.
– Ух ты! Париж! Наконец-то! Митька рассказывал! Он же тут на параде в прошлом году прошелся[35]. – Николай, выпрыгнув из машины, огляделся, впившись единственным глазом в Триумфальную арку. – Ух ты! Батюшки мои, вот это красота!
Прохожие, видя мужчин в военной форме, а одного – с перебинтованным лицом, останавливались. Проходившая мимо дама, посмотрев на Николая, вздохнула:
– Le pauvre[36]…
Тот весело заметил:
– Не бойся, мамаша. Лечиться еду. Глаз, понимаешь, глаз, – он ткнул пальцем в забинтованный глаз, добавив по-французски: «Лой!»[37] Лечить будут «лой», а потом я еще к тебе сватов зашлю. Дочка есть?
– Надо говорить: мадам, – Эспер, переведя, засмеялся, женщина улыбнулась, а потом обняла Николая, погладила его светлые волосы, дотронувшись осторожно до марлевой повязки:
– Tout ira bien! – успокоила знакомой уже фразой.
Николай, засмущавшись, сказал «мерси», добавив:
– Мадам! Мерси, мадам!
– On y va. Поехали! – привычно скомандовал Этьен, и путники сели в машину. До госпиталя оставались считаные метры.
Друзья еще ранее договорились, что все формальности по устройству Николая возьмет на себя Эспер. Это было понятно – Этьену хотелось хотя бы лишний час провести с женой, а Эспера никто не ждал. Его близкие по-прежнему оставались в Петрограде, письма приходили редко. Прасковья Ивановна щедро делилась новостями о том, как живут знакомые, дальние родственники, но скупо писала о себе, сестре, Георгии, давая понять, что все меняется и, скорее всего, будет меняться. Одной лишь фразой обмолвилась, что у сестры завязался роман с неким молодым коммерсантом, но маман ему не верит, говорит, какой-то «скользкий». Уверяла: все живы-здоровы, правда, отец жалуется на боли внизу живота, справа, а у нее появилась одышка. Все расскажет потом. Когда же наступит это «потом»… У Этьена есть и «сейчас», и «потом». Напарника встретит жена, впереди у них целых две ночи вместе. Сейчас. И, может, потом. А Эспера опять ждут холод и одиночество пустого дома в Мезон-Лаффит.
– Прибыли! – Этьен радовался больше всех, уже представляя сервированный стол с приборами для особых случаев. Нарядная скатерть, бронзовый подсвечник, бутылка отличного бордо. Его дорогая Камилла, раскрасневшаяся от радости, вносит мясное рагу, любимое блюдо. Ужинают не спеша, говорят об общих знакомых: «Как там Поль? Вернулся? А Одиль родила? Девочку? Чудесно. Мадам Б. умерла? Какая жалость». Потом вместе уберут посуду и… Этьен даже прикрыл глаза, просто физически ощутив теплоту, мягкость тела Камиллы, представив ее пышные формы, разметавшиеся на подушке волосы. Его охватил такой прилив острого, почти до боли, желания, что он отвернулся, и, боясь выдать свои мысли, накинулся на Николая:
– Qu'est-ce que tu cherches?[38]
Николай, всю дорогу державшийся бодро, вдруг оробел перед воротами презентабельного здания госпиталя, на который возлагал столько надежд. Он суетился, шарил по карманам, без конца повторяя:
– Батюшки-мои, да куды я ее дел? Иконку-то мою… Матушка ж дала. Всегда ж со мной была… Неужто выпала? Там, в Мишле? Когда Жиль-то помер, доставал ее… Помолился крадча, все за глаз просил. За упокой-то уж поздно было. Теперича не найду, как же без нее-то… – сокрушался Николай.
– Ne pleure pas, sinon tu perdras le deuxième oeil![39] – Гляз! Гляз, – для убедительности Этьен повторил по-русски, смешно прищурив оба глаза, изобразив слепого. Потом запрыгнул в кузов и спустя минуту показался с крошечной иконой Николая Чудотворца. – Там била твоя иконн. Tiens![40]
– Спасибо, браток, – обрадованный Николай поцеловал иконку, обняв Этьена, причитая, что теперь-то ему ничего не страшно, уж святой-то угодник Николай поможет.
– Давай-ка ты домой поезжай, а то рагу остынет, – Эспер хлопнул товарища по плечу. – Мы справимся. Врач, думаю, завтра будет. А сейчас Николая определю в палату, пусть отдыхает.
– Ладно. Ждем тебя. Комната есть, переночуешь. Рагу оставлю! Приедешь?
– Посмотрим, – неопределенно ответил Эспер. – Ты поезжай. Пройдусь немного, а там посмотрю, может, и к себе поеду. Хотя вряд ли. Поздно уже, ты же знаешь, что завтра все равно в Париже надо быть, в штаб к нашим зайти.
Они простились, договорившись встретиться в любом случае рано утром послезавтра на Восточном вокзале. Николай почти успокоился и, вернувшись в свое прежнее благодушное состояние, смело пошел на осмотр к дежурному врачу.
Русский госпиталь занимал помещения роскошного отеля «Карлтон», расположенного недалеко от Триумфальной арки. Богатый интерьер сохранился почти без изменений, лишь сильный запах лекарств выдавал больничное учреждение. По коридору прохаживались больные, мирно беседуя на русском и французском языках. Заглянув в комнату, откуда доносились звуки фортепиано, Эспер узнал Анну Ильиничну Ковалеву, супругу капитана из третьей бригады, последовавшей за мужем во Францию. Их родители были знакомы, дружили. Прасковья Ивановна даже как-то написала, что Анечка сейчас в Париже, работает в русском госпитале.
– «Разлука»? – Эспер приблизился к старому пианино, наиграв знакомую мелодию ноктюрна Глинки. – Маман тоже его играет.
– О, Эспер! – обрадовалась Ковалева, тут же перейдя на французский. – Новости есть? Родители пишут? Как они? Остались? Приедут? Когда? Как вы? Что там?
Ему был понятен интерес ко всему, что происходит там, в другом мире, называемом войной, но он так устал, а желание прогуляться по весеннему ночному Парижу настолько переполняло, что Эспер ограничился коротким ответом в стиле французов:
– Tout va bien. Все хорошо.
Мадам Ковалева, догадавшись о состоянии посетителей, закрыла крышку пианино, пригласила в маленькую комнатку, служившую административным помещением. Все формальности заняли немного времени. Николая сопроводили в палату, где он тотчас же начал знакомиться с пациентами, рассказывая про ранение и надежды восстановить свой «лой». Врач-офтальмолог должен был его осмотреть завтра. Больные, как и бывает в подобных случаях, принялись делиться историями со счастливым концом, и Николай окончательно воспрянул духом. В который уже раз за этот тяжелый бесконечный день Эспер протянул руку для рукопожатия. Затем, обняв парня, к которому проникся симпатией, напомнил:
– Так ты не забудь фотографию выслать, когда подлечишься. Может, и цыганочку найдешь к тому времени.
Николай расчувствовался, вспоминая о том, как Эспер нашел его, полумертвого, среди сотен трупов в третий, провальный, день наступления Нивеля. Дискуссия тут же приняла военный оборот: раненые ругали Нивеля, поддерживали начавшийся бунт французских солдат, последними словами крыли Петена[41], потом перешли на российские темы: отречение царя, Временное правительство, полковые комитеты.
– Да нас за людей не считают! Кого в атаку первых ставят? Русских!
– Это, как сказать. Про атаку-то… Тут француз один мне поведал, что еще до команды вскакивает, первым бежит и по прямой. Говорит, успевает несколько метров пробежать до того, как немцы тир-круазе[42] начнут, вот он и целехонек. Ни одного ранения за три года.
– Целехонек! Может, он и целехонек, а мы тут валяемся! Никому не нужны, ни своим, ни французам! На ружья нас обменяли!
– Давеча спросил у капитана нашего, что там, в Рассеюшке-то? Молчит, леший, глаза отводит.
Эспер закрыл дверь палаты и вышел. На протяжении двух последних недель он постоянно слышал похожие споры, доходящие не просто до крика, а уже и до драки. В армии творилось невообразимое, французов усмирял Петен, а что делать с русскими солдатами, никто не знал. Но сейчас думать об этом не хотелось. Сейчас уроженец Санкт-Петербурга Эспер Якушев пройдется по Парижу, заночует, скорее всего, где-нибудь в гостинице, потому что в Мезон-Лаффит ехать уже поздно, а мешать Этьену любить свою жену он не станет.
Свободен! Две ночи и целый день завтра – сколько же это часов свободы, надо посчитать! Свобода, конечно, относительная, что подтверждает командировочное удостоверение – «Ordre de mission», лежащее в кармане. Завтра сержант Якушев должен явиться в штаб ведомства на улице Христофора Колумба. Ему захотелось погладить важную бумагу. Порывшись в карманах, Эспер остановился: документа не было. Забыл в госпитале! Черт! Вечная его рассеянность! Оставил, видимо, когда оформлял Николая. Развернувшись, бросился назад по больничному коридору и в этот момент услышал:
– Monsieur Yiakoucheff! С'est à vous?[43]
Девушка в платье сестры милосердия, улыбаясь, помахивала бумажным листком с приказом о командировке. Ее строгая одежда, как и положено, скрывала практически все, оставляя свободными лишь руки и лицо. Матовая кожа, карие глаза под широкими густыми бровями, темные кудряшки волос, выбивающиеся из-под плотно завязанной косынки, выдавали в ней либо итальянку, либо испанку. Спустя годы, вспоминая их первую встречу, он всегда задавался вопросом: что ж его кольнуло? «Кольнуло» – почему-то именно это слово приходило на ум, едва воссоздавал в памяти тот момент. Голос? Да, наверное, голос – непривычно звонкий, но нерезкий, мелодичный. Голос женщины для него всегда значил больше, чем внешность. Или, может, что-то другое, неуловимое, надежное и сильное захватило сразу и навсегда.
Эспер поглядел на нее несколько дольше, чем того требовала ситуация, представив за униформой и стройную фигурку, и крепкие ноги, и все остальное, по чему так скучал, чего так не хватало там, откуда только что прибыл. Девушке, привыкшей к откровенным взглядам, пауза не понравилась.
– Берите и не забывайте, – добавила строго, намереваясь уйти.
– Благодарю вас. Нет, не забуду, – сказал он, продолжая с интересом разглядывать незнакомку. – Хотя, если вы будете находить, согласен потерять еще раз.
– Вы русский? – она оттаяла. – Вы так хорошо говорите по-французски. Я учу русский, поэтому здесь, в этом госпитале. А вы откуда? О! Санкт-Петербург? Вы там родились?
Так и познакомились. Разговорились. Ушли вместе.
Медленно брели по ночному Парижу, спустившись по Елисейским полям к площади Согласия, затем повернули в сторону площади Мадлен, оттуда двинулись к вокзалу Сен-Лазар, где неподалеку жила Мартина. Город готовился к лету: кафе, рестораны, закрытые на зиму, уже открылись, из окон доносились смех, стук тарелок, звуки аккордеона, хор голосов, подпевающих фальшиво, но дружно «Ah! Si vous voulez d’amour, ne perdez pas un jour»[44].
Кому-то совсем рядом было очень весело. «Ах, ах, ах, торопитесь! Если хотите любви, не теряйте ни дня», – пели, прихлопывая в такт, разгоряченные вином и весной молодые парижане. На какие-то доли секунды Эсперу показалось, что прошло не несколько часов, а несколько лет после всего того, что случилось за день: ранний выезд, санитарный поезд, стоны тяжелораненых, встреча с Этьеном, запах борща в госпитале Мишле, смерть Жиля, иконка Николая и темноволосая француженка, помахивающая командировочным удостоверением: «Это ваше?»
– Мартина, – произнес еле слышно, скорее, машинально, в продолжение своих мыслей. – Мартина, – повторил громче.
– Что? – она замедлила шаг.
– Хорошо, правда? Весело им! – повернувшись к ней, напел на французском, повторив на русском: – Car c’est le printemps, profitez du moment! Так ведь? Это весна, наслаждайтесь моментом!
– А! Вот вы о чем! – засмеялась Мартина, подхватив: «Ах, если хотите любви, не теряйте ни дня!»
Остаток пути шли, взявшись за руки, смеясь и громко напевая: «Ах, ах, ах, ах, ах, давайте, торопитесь! Ловите момент!» Но, остановившись перед массивной дверью дома, где жила Мартина Кастель, оба смутились.
– Пришли. Вы… Вы, наверное, устали? – в некотором замешательстве спросила она. – Вы… Поедете к себе?
– Да, да, конечно. Не смею вас задерживать. Не беспокойтесь, остановлюсь в гостинице.
– Эспер… Мне кажется, что вы… Вы…
– Да-да! Опять потерял удостоверение! Или потеряю…
– Вы его положили сюда, – Мартина протянула руку к внутреннему карману шинели. Рука пахла лекарствами. Эспера почему-то всегда, с самого детства, успокаивал и одновременно волновал этот запах. Он нежно погладил пальцы девушки, поднес к губам и, поочередно поцеловав, легко сжал их. Затем, не отпуская, положил ее руку себе на плечо. Мартина ощутила тепло его затылка, успев удивиться: «Надо же… Такой теплый. А мне говорили, что в России всегда холодно, и русские такие холодные…».
* * *В ее небольшой комнате, чуть просторнее, чем chambre de bonne[45] было чисто и тепло. Через маленькое оконце под самой крышей проникал свет ночи. Их первой ночи. Оба ни на секунду не сомневались в том, что именно так, а не иначе и должен был закончиться этот богатый событиями день. Стеснение, условности, приличия, правила, законы и каноны – все отступало и казалось ненужным, второстепенным перед мгновеньем, соединившим двух людей. На одну ли ночь, неделю, месяц или жизнь – они не задумывались. Неважно. Двум людям в маленькой комнате на верхнем этаже дома, почти под крышей, и другим двум, после отличного ужина с мясным рагу и бутылкой бордо, было очень, очень хорошо. «Ах! Если вы хотите любви, не теряйте ни дня».
Мартина, унаследовавшая грацию матери-испанки, была прекрасно сложена. Эспер нежно проводил пальцем по ее обнаженному бедру, целуя, шептал: «Моя испанская маха». Ей сравнение не нравилось, она сердилась, обнимая и прижимаясь к этому странному русскому, в котором одновременно сочетались сила и мягкость. С ним было спокойно и страшно. «Бедный, бедный мой мальчик», – услышал Эспер сквозь сон, удивившись тому, что мама наконец приехала, а он и не ждал.
В это же самое время другая женщина крепко спала, закинув пышную ножку на тело любимого мужа. У Этьена затекло плечо, ломило в коленке, но он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить жену, свою дорогую Камиллу. Потом осторожно высвободил ногу, тихонько сполз на край кровати, присел, посмотрев на часы.
Близилось утро, майское утро 1917 года.
1917 год. 6 мая. ПарижОн встал рано. В последнее время его мучили причудливые видения, в которых почему-то не было неба. То подземелье, то подвал, то некий дом с бесконечными лабиринтами коридоров. То он плутал в поисках выхода, задыхался, выходил на улицу и опять попадал в темноту. Но в эту ночь темный сон миловал – Эспер впервые за долгое время отдохнул. Перед уходом лишь поцеловал пятку Мартины, вылезшую из-под одеяла.
– Уже? – пробормотала та и снова провались в сон.
– Да-да, увидимся, – он еще раз припал к теплой шершавой пятке, слегка пощекотав ее. Мартина не среагировала.
В штабе его встретил полковник Кюссе. Обменявшись обычным приветствием, перешли к делу.
– Как там?
Вопрос был абсолютно бессмысленный, и оба это понимали. О ситуации на фронте после наступления Нивеля знали все: потери – огромные, одних только убитых в русских бригадах – почти тысяча, раненых – чуть не в пять раз больше, госпитали переполнены. И это всего за три дня! Потери среди французов – колоссальные. Командующий русскими войсками во Франции генерал Палицын[46] сразу после взятия деревушки Курси провел торжественный смотр войск, благодарил, обещал награды. Храбрость, мужество, подвиг – слова взлетали в апрельское небо, где уже радостно пели птицы: «Домой! Домой! Домой!»
Домой. Домой захотели французы, подняв первую волну недовольства. Бунт, еще более политизированный и организованный, перекинулся на русские бригады. Приближался день первого мая по русскому календарю, активисты из рабочих и солдатских комитетов включились в хор, начатый французскими солдатами: «Liberté, égalité, fraternité» – свобода, равенство, братство.
– Есть информация, что на тринадцатое мая, то есть через несколько дней, в бригадах планируется манифестация, – заметил Кюссе, глядя куда-то мимо Эспера, будто озвучивая то, о чем напряженно думал в последнее время. – Чего ждать… Не знаю. Палицын приедет, но…
И об этом Эспер догадывался. О том, что могло бы последовать за этим «но». Палицын стремительно терял свой авторитет в русской армии и не только он. Неопределенность настоящего, а главное – будущего, подавляла офицеров, оставляя их в состоянии смятения и растерянности. Отдаляясь, они не знали, как действовать и к чему призывать в беседах с солдатами. Генерал Лохвицкий, командир первой особой пехотной бригады, к которой относился санитарный взвод Эспера Якушева, докладывал, что моральное состояние солдат отличное, русские хоть завтра готовы к новому наступлению. Генерал Марушевский, начальник третьей бригады, был более осторожен в своих донесениях, призывая офицеров честно рассказывать о том, что происходит в России. Пока еще солдаты, воспитанные в преданности царю, власти, держались, но смутное время приближалось, и фаталист Эспер не мог этого не чувствовать.
– Впрочем, подождем, – успокоил сам себя Кюссе. – На самом деле мы вас вызвали для того, чтобы сообщить что, скорее всего, вы в ближайшем будущем будете переведены в ранг адъютанта-переводчика. Ваши обязанности следующие…
Кюссе что-то говорил, говорил. Опять же звучали слова о доблести и чести, сулилась награда – Военный крест, сыпались уверения и заверения. Полковник задавал вопросы и сам же на них отвечал. Эспер слушал и не слышал. Он видел Мартину, изгиб ее восхитительного тела, пышные волосы, в которые хотелось зарыться с головой. Он улыбался, и Кюссе, принимая улыбку на свой счет, тоже успокоился. На самом деле штабной офицер, конечно, не верил всем тем заученным фразам – плавным, скучным и тоскливым. Ему давно хотелось тайно уехать, сбежать куда-то подальше, прихватив с собой очаровательную малышку Мари. Его не волновало, что в Петрограде осталась семья, что в России совершенно запутались возомнившие себя спасителями страны его бывшие однокашники. Он предвидел еще более страшные события и не находил в себе ни доблести, ни той самой чести, чтобы выйти и крикнуть во все горло: «Домой! Домой! Достаточно. Хватит».