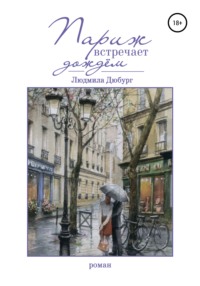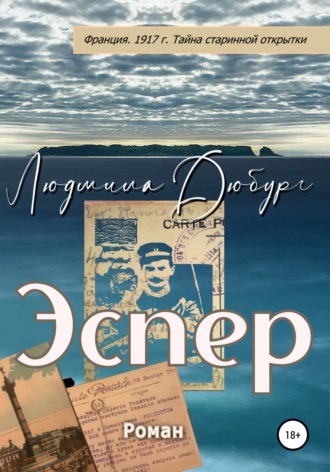
Полная версия
Эспер
Выйдя из кабинета, он поймал себя на мысли, что, в отличие от Пьера Николаефф у него не возникло никакого желания идти в бордель. Или почти не возникло. Это даже показалось немного тревожным и, тут же выругавшись, он посмеялся над собой: «Старею…»
В русском госпитале до того памятного дня ему бывать не приходилось. Открытый спустя несколько месяцев после начала войны по инициативе русского благотворительного общества и при содействии августейшей императрицы-матери Марии Федоровны, госпиталь стал еще одним свидетельством благих намерений России в отношении Франции. Как и сто лет назад, русская аристократия волновалась за тех, кто сражался на фронте. Разница заключалась лишь в том, что ранее переживания касались только своих, сейчас же les nobles russes[19], живущие в Париже, посчитали своим долгом помочь раненым французской армии. Сначала госпиталь размещался в Бланкфоре департамента Жиронды, а чуть позднее его перевели в самое сердце Франции – на Елисейские поля, в здание отеля «Карлтон», где они встретились: сержант Эспер Якушев и сестра милосердия Мартина Кастель.
Испанка по матери, француженка по отцу, Мартина не имела в своей богатой родословной ни малейшей примеси русской крови. Смуглая, темноволосая, кареглазая. Импульсивная, земная, воспринимающая радости жизни просто, без философских измышлений, почему и за что дарованы ей эти радости, без поиска и объяснения причин, без ожидания подвоха или беды. Без всего того, что составляло натуру Эспера. Ей и самой было неведомо, чем объяснялся повышенный интерес к России. Возможно, мифы, таинственность далекой холодной страны, а может, и сентиментальные, томные героини русских романов, в которых ей иногда хотелось представить себя. Год назад, на параде в честь Дня Бастилии, она впервые увидела русских солдат.
– Мартина! Скорее! Бежим женихов выбирать! – смеясь, позвала Сесиль, подруга, тоже медсестра.
Девушки переоделись и, захватив букетики цветов, спустились вниз, расталкивая толпу зрителей.
– Ах! Какие парни! Нам бы таких! Тебе какие больше нравятся? Эй! Ребята! Посмотрите на нас! – Сесиль, забыв о приличиях, приветствовала колонны солдат, шагающих в сторону Триумфальной арки.
– Смотри! Смотри! А эти – в сапогах! И фуражки, а не каски, как у наших! Ах! Красавцы! Это же русские!! Ты русский учишь, крикни им что-нибудь по-русски! – не унималась Сесиль.
Рослые, широкоплечие, в необычных для французов сапогах, солдаты русской императорской армии вызвали восхищение парижской публики. Мартина Кастель учила русский язык, тем более что говорить на нем приходилось все чаще и чаще. А вскоре появились и поводы, правда, не столь веселые, как тогда, на Елисейских полях – в госпиталь стали поступать раненые из русских бригад.
* * *– Этьен, встретишь нас через два дня. – Эспер показал напарнику приказ о командировке. – Проверь все, приготовь, что надо, еще раз врачей, персонал предупреди. В общем, сам знаешь. Я тоже проверю. Ладно, давай, до встречи в Нуази.
Они попрощались, договорившись поужинать дома у Этьена.
– Жена рагу приготовит, попробуешь. Délicieux![20] – заверил тот.
Эспер обещал проголодаться. День действительно предстоял хлопотный. Встретиться они должны были на вокзале в Нуази ле Сек, что примерно в пятнадцати километрах от Парижа. Здесь, на самой крупной в период войны распределительной станции, пассажиров санитарных поездов готовили к дальнейшей эвакуации. Нетранспортабельных – в глубокий тыл, с ранениями средней тяжести оставляли здесь же, в Нуази ле Сек или Париже и парижских пригородах. В одном из них, Ванве, находился знаменитый госпиталь Мишле. Сюда и должен был доставить Этьен двух раненых с осложнениями после газовых атак.
Немцы, несмотря на все международные запреты[21], без стеснения использовали химические оружие. Противогазы помогали, но многое зависело от момента боя, от «начинки» снарядов, дозы распыления газа, ситуации. Однажды, вынося раненых, они попали в зону облака хлора. Этьен, уже имеющий опыт, прошедший помимо прочего краткие медицинские курсы, закричал:
– Носилки ставь! Мочись! Штаны расстегивай! Мочись на платок! Есть? Нет? Портянку снимай или рубашку!
Не теряя времени, Этьен уже разорвал платок на две части, помочился на ткань, и, не выжимая, приложил один кусок на лицо раненому, а из другого смастерил нечто вроде маски для себя. Эспер, не мешкая, последовал его примеру, успев подумать, что и родная моча может спасти от смерти.
– Не спеши, не беги, бежать нельзя, береги легкие, дыши в тряпку, – командовал Этьен. – Ты понял? Понял теперь? Если противогаз забыл, запасись мочой, – смеялся он, добавляя: – моча поможет, не своя, так чужая.
Этьен Ардэн, водитель их взвода, жил в Париже. Был старше Эспера, женат, владел небольшой пекарней, но с началом войны так же, как его русский напарник, подписал engagement, вступив в санитарный отряд особой русской дивизии. Уже почти два года они служили в первом санитарном взводе, доставляя тяжелораненых в тыл. Невысокий, крепко сложенный, с твердыми чертами лица, похожий на пейзана[22], балагур и весельчак Этьен был полной противоположностью рафинированного, мечтательного Эспера. Но, может, такая несхожесть их и сдружила. Французский напарник по-братски, даже по-отечески опекал своего русского друга, тот, в свою очередь, не раз рисковал, прикрывая француза в опасных ситуациях. Командировка в Париж обоим давала возможность побыть в иной, более спокойной обстановке.
Выехали из Майи в направлении Реймса рано, часов в пять. Оттуда должен был отправиться санитарный поезд в сторону Парижа. Раненые находились в закрытом кузовном отсеке. Их было трое: Жиль Матте родом из Безансона, Василий Смирнов, мобилизованный в Москве, и Николай Калинников из Самарской губернии. Первых двух, получивших сильнейшее отравление хлором, и надо было переправить в Ванв, госпиталь Мишле. Они тяжело, с хрипом дышали, кашляли, особенно Жиль, которого приступы кашля доводили до рвоты.
У Николая – еще страшнее. Множество осколков разной величины изуродовали лицо двадцатидвухлетнего парня. Уникальное, одно-единственное лицо на миллиарды других. Невредимыми от прошлого облика остались рот, подбородок и глаз. Рот, молодой, наверняка не очень зацелованный, любил поболтать – Николай был разговорчив. Утомившись, рот умолкал, а глаз дремал, прикрыв себя веком с белесыми ресницами. Подбородок раненого украшала трогательная ямочка, должная, видимо, придавать решительность ее обладателю. Нос тоже пострадал, сопя под грузом твердой повязки. Несмотря на тяжесть ранения, Николай Калинников отличался веселым нравом и оптимизмом, веря, что «с лица воду не пить», и с таким проживет. Руки, ноги есть, могло, успокаивал себя, и хуже быть.
Да, когда-нибудь, через сто лет и больше, размышлял Эспер, в исторических справочниках наверняка появятся сухие цифры отчета наступления Нивеля: столько-то убитых, столько-то раненых. Трупы, валяющиеся, гниющие в грязи, издающие запах смрада, станут просто цифрами. Солдаты, вставшие в атаку и тут же упавшие, чтобы встали другие, будут называться потерями. У потерь будет цена. Историки начнут ее уточнять, переуточнять и, может, спорить, уличая друг друга в неточностях. Что ж, по крайней мере, на одну единицу в этих сводках будет меньше. Потому что тогда, в апрельский день, транспортируя раненого, Эспер оглянулся, услышав крик:
– Братцы, подождите! – к ним с Этьеном подбежал запыхавшийся солдат, зажимая рукой сильно кровоточащую рану на шее. – Нет, нет, я доберусь, это так, поцарапало, – добавил, предупреждая вопрос. – Но там брат мой, друг, понимаете, друг мой там. Мы вместе. Точно знаю, Колька, Калинников Николай, жив, точно жив. Упал, но чую – жив! Братцы, спасите, давайте назад, туда, – он неопределенно махнул рукой в сторону, откуда санитары тащили на носилках раненого. Тот, только что стонавший, дернулся и резко умолк.
– Смотрите! Помер он! – воскликнул парень, не скрывая радости. – Бросьте его, помер родимый, помер уже, все, царствие ему небесное, – быстро перекрестившись, схватился за носилки, подтаскивая их к себе, пытаясь сбросить лежащее на них тело. – Помер, помер! Стойте! Дайте носилки, а Кольку я найду, сам найду, если не пойдете! – в его голосе слышались одновременно отчаяние, мольба, угроза и злость.
– Arrête! Qu’est-ce que tu fais?[23] – раздраженно крикнул Этьен.
– Чего трупы-то таскать, вона их сколько. Лежат… Живых искать надо.
В словах была грустная правда. Трупы валялись повсюду, выносили их обычно только тогда, когда действительно наступало некоторое затишье. Выходит, зря рисковали, спасая того, кто через несколько минут стал «телом». Эспер осторожно снял умершего с носилок, положил на землю, тоже перекрестился, и, обращаясь, к другу-брату неведомого Кольки сказал:
– Ладно, попробуем. Вроде, все прочесали, но мало ли. Ты давай беги, кровь-то хлещет, перевязать надо, добежишь? Там, недалеко от часовни, медпункт. Звать-то тебя как?
– Дмитрий Орлов я, первая бригада, второй полк. Самарские мы с Колькой. – Он прикрывал рану полностью промокшим от крови платком. – Добегу. Братцы, только найдите. Калинников Николай. У него волосики-то как у меня – светлые. Друг это мой, как братья мы. На меня смотрите, такого и ищите, – Дмитрий, слегка сдвинув назад каску, ткнув в себя пальцем, на секунду замер, как перед фотоаппаратом, развернулся и пошел в сторону только что отбитой у немцев деревни.
Они очень рисковали, снова отправившись на поиски, тем более что водитель их взвода категорически отказался ждать в опасном месте, мотивируя тем, что не было на то распоряжения. Этьен, выругавшись, послал его к черту, сказав, что сам сядет за руль, пусть только автомобиль оставит. Риск действительно был: найти Кольку со «светлыми волосиками» среди множества неподвижных тел казалось решением благородным, но невозможным. И все же Эспер первым заметил солдата, лежащего, как и большинство, на спине, но со скрещенными на лице руками. В позе не было внезапности смерти, это и обращало внимание. Человек, возможно, услышав речь санитаров, специально пошевелил пальцами, чтобы быть обнаруженным. На голове у него была каска, поэтому цвет волос не имел значения. Эспер нагнулся, раздвинув руки раненого. Лица не было. То есть оно было, но найти в нем схожесть с «братом» Дмитрием не представлялось никакой возможности, как и ни с кем другим. Даже Этьен, видавший многое, содрогнулся, увидев вывороченные куски мяса на верхних скулах.
– Tu n'es pas Nicolas par hasard?[24] Николя? – повторил по-русски.
Парень пошевелился:
– Никак живой я… Больно-то как, батюшки…
И потерял сознание. Эспер достал из кармана гимнастерки документы: Калинников Николай, 1895 года рождения. Призван из Самарской губернии, деревни Удалово.
В тыловом лазарете Калинникову быстро зашили раны, залатав кожу буквально по кусочкам. На десятый день частично сняли швы. Он попросил зеркало. Сестра отговаривала, но пациент был неумолим: «Несите!»
Долго разглядывая свое обезображенное лицо, гладя швы, повязку все еще забинтованного глаза, Николай дотронулся до торчащего под бинтами кончика носа, а потом, собрав весь свой природный оптимизм, вздохнул и впервые произнес ту самую успокоительную фразу:
– С лица воду не пить.
Эспер навещал его, подбадривал. Калинников не унывал:
– Митька, друг, про горбуна рассказывал. Как его звали-то? Урод такой был, забыл, как звали…
– Квазимодо? – подсказал Эспер.
– Может, и так. Митька страсть как книжки любил. Мать, бывалыча, его ищет, а тот спрячется и сидит цельный день, пока братья в поле. Митька мне говорил про этого-то, горбатого урода. Дескать, в цыганку влюбился. И она им не побрезговала. Так, думаю, и на мою долю цыганочка найдется, – морщась от боли, смеялся, обнажая крепкие зубы.
Надо отметить, что Калинников, на удивление медсестрам, больше интересовался не своей внешностью, а тем, что творилось на фронте. Узнав, что французы после поражения Нивеля забунтовали, он впервые задался вопросом:
– Они за себя воюют, а мы за кого?
Отречение царя, случившееся месяцем раньше, солдаты встретили с некоторой растерянностью. Тем не менее, выслушав объяснения офицеров, приняли присягу Временному правительству. Но сомнения в компетентности генералов усилились. Сначала зароптали французы, а позже недовольство распространилось и на русские бригады.
И вот тогда пациент, приунывший было, оживился и стал чаще просить зеркало. Может, медсестра какая-то приглянулась, может, весна в нем заговорила, но только обрадовался «русский Квазимодо», узнав, что его транспортируют в Париж для последующих операций у специалистов. Дивизионный врач Рейтборже решил: парень молодой, надо его отправить в столицу, там врачи с именем, вылечат! Этого-то самарского паренька, вынесенного с линии огня, беспомощного, полуслепого, и должен был доставить Эспер Якушев в бывший отель «Карлтон».
* * *– Прибыли! – весело сказал Эспер, открывая дверцы кузовного отсека. – Как вы? Держитесь?
Василий и Жиль молчали, переезд давался им тяжело. Лишь неугомонный Калинников выдавил из себя знакомое:
– Са ва, – и, подумав, добавил: – Са ва тре бьен[25].
В Реймсе их ждал санитарный поезд-микст, то есть с вагонами для лежачих и сидячих раненых. Погрузка прошла относительно быстро и слаженно. Врачи, медсестры, снабженные многочисленными инструкциями, успевали сортировать пассажиров. Тяжелые и легкие, направленные на реабилитацию, не должны были находиться вместе во избежание моральных страданий для тяжелораненых.
После коротких переговоров Эспер убедил врача-координатора поместить всех в один вагон, который можно было бы назвать «микст» по степени поражения человеческого тела. Глядя, почти бесстрастно, на это средоточие боли, он вдруг ужаснулся жестокости своих мыслей: «Все они – калеки. Страдают и будут страдать, впадая в гнев, ярость, мучаясь от бессилия, обвинять генералов, требовать для них наказаний. Будут разрушаться, гнить заживо. Истязать своих близких, делая их несчастными, будут спиваться. Зачем их спасать? Сострадать им, зная последствия?» То, о чем он думал, было настолько кощунственным, нехристианским, черствым, настолько бесчеловечным, что иначе, как помутнением рассудка, было невозможно объяснить. Внезапно нахлынувший приступ тоски, незнакомой и непонятной, окончательно сбил с толку.
– Эспер, а у тебя подруга есть? Француженка небось? Ты мужик хоть куда. Мне-то вот теперича что делать? Где искать? – Николай, утомившись веселить вагонную публику, загрустил.
Постоянной подруги Эспер Якушев не имел. У него были лишь смутные очертания той, которую он когда-нибудь хотел назвать своей подругой. Однажды ему по ошибке попалась открытка, предназначенная санитару их взвода Бернару Ренье. На изображении – молодая парочка, его руки на ее талии, ее – на его шее. Целомудренная картинка, обрамленная цветочным вензелем. Надпись слащавая, что-то типа «лодка счастья скоро придет в свой порт». Но то, что он прочитал на обороте, обдало жаром и кольнуло ревностью:
«Позволю ли я себе сказать, что в твоих глазах видела любовь? Что твой взгляд выдавал волнение, ты весь горел… Это связывает наши души, я становлюсь рабой твоего взгляда, нашей любви. Это поглощает так, что уже не думаешь о себе. Это такое счастье, что даже слово „любовь“ не может объяснить то, что я чувствую. Только твое сердце единственное может обо всем догадаться. Любить, чтобы любить. Моя верность искренняя, что означает одновременно счастье, вечность и благородство волшебной силы любви. Тысячи поцелуев шлю моему любимому, дорогому мужу. Твоя навеки».
Бернар обладал весьма заурядной внешностью: невысокий, тщедушный, с нездоровым цветом лица, а какую силу чувств был способен вызвать! Наверняка, вернувшись из увольнительной, вспоминал последнюю ночь с женой. Эту ночь, и это, что согревало, поддерживало его. Отдавая открытку, Эспер извинился, соврал, что не читал. Бернар, рассмеявшись в ответ и на мгновенье преобразившись в пылкого любовника, сказал, что не возразил бы, если бы кто-то и прочел.
Опустив вопрос о подруге, не стал расстраивать Николая, сведя разговор в чисто мужское русло и успокоив, что лицо для мужчины – не главное. Лежащие рядом раненые встрепенулись, начали делиться сокровенным, тема показалась болезненной. Даже Жиль попытался что-то сказать, да опять закашлялся. Разговор будил воображение, горячил кровь и, наверное, если бы не бинты и слабое освещение, то можно было бы видеть, как покраснел Николай, чья неискушенность в любовных делах была абсолютно очевидна. Он признался Эсперу, что так и не успел толком «с девками погулять», стеснялся.
– А ведь в деревне-то я красавцем слыл, девки-то заглядывались, – вспоминал Николай так, будто ему уже стукнуло девяносто, а не чуть больше двадцати годов от роду. – Только вот матушка у меня больно строгая. Ругалась, боялась, что обижу кого. Вернусь поздно – жди трепку.
– Так и не было никого, что ли? – спросил сидящий рядом раненый из категории легких.
– Ну как сказать… Была тут у меня одна… – Николай замолчал, и Эспер догадался, что Николай, обделенный опытом, но не воображением, готовится выдать очередную историю для поднятия морального духа. И Николай действительно начал рассказывать, да только не о своих похождениях, а друга Митьки. Того самого, у кого «волосики такие же». Рассказывал с гордостью, взахлеб, с явным уважением к таланту деревенского соблазнителя Дмитрия Орлова. У того, якобы, и барыни были, и учительницы, и девки.
– А все потому, что умный он больно. За то и любили. Невесты за него – чуть не в драку, а ему все чтой-то не по нраву. Особенную хотел, как в книжках своих…
Николай опять замолчал, прикрыв единственный глаз, задремал или делал вид. Притихли и остальные. Возбуждение улеглось, растревоженные темой пассажиры вернулись в мыслях к реальности. Тело – важный элемент любви, доказывающий ее силу, нежность, красоту, мудрость и вечность, – стало просто анатомическим материалом. Безжизненным, гангренозным, зловонным, одноруким, одноногим. Они уже привыкли показывать свою обнаженность врачам, не испытывая и малейшей стыдливости. То, что когда-то покрывали поцелуями, источало боль. У раненых тел не было будущего в любви. И тяжелые это поняли особенно отчетливо, вспомнив, теперь уж навсегда потерянные, ни с чем не сравнимые ощущения силы обладания женщиной.
В дальнем углу вагона кто-то из лежачих всхлипнул, короткие рыдания перешли в плач, сначала негромкий, деликатный, потом crescendo[26] стало нарастать, перейдя в протяжный вибрирующий вой.
Раненые оставались безучастны. На крик подошла молодая медсестра. Попытавшись успокоить, она склонилась над рыдающим мужчиной, обхватила его обеими руками и, слегка обняв, прижала к себе. «Tout ira bien»[27], – привычно повторяла девушка, призывая оставаться сильным и верить.
«Tout ira bien. Tou – ti – ra bien», – подбадривал поезд, приближаясь к Нуази ле Сек. За час до прибытия прозвучала команда:
– Внимание персоналу! Приготовиться к эвакуации!
Глава 4. «Однажды мы встретимся, чтобы…»
Близилось обеденное время, но для многих остановка в Нуази была промежуточной, впереди – путь к конечной станции. Некоторым предстояло отправиться в глубокий тыл, туда, где о войне знали лишь по военным сводкам, кому-то – ближе: в Париж и пригороды. Эспер разбудил спавшего всю дорогу Василия Смирнова, отметив для себя, что у того, кажется, есть надежды поправиться. Василий вообще не отличался разговорчивостью, в отличие от Николая, успевшего за три часа путешествия рассказать про себя и друга Митьку, расспросить про Париж, записать и выучить несколько слов на французском. По-прежнему беспокоил Жиль – ему становилось все хуже. Эспер, посоветовавшись с врачом поезда, принял решение сопроводить Василия и Жиля вместе с Этьеном до самого госпиталя Мишле.
– А я-то как же? – заволновался было Николай, мечтавший поскорее увидеть город, где, по словам Дмитрия, живут не просто женщины, а некие куртизанки, которые будто бы красоты неописуемой, страсти неуемной и к тому же не сильно горды. Последнее особенно успокаивало простодушного парня, втайне питавшего надежды преодолеть природную робость.
– Да не переживай! – успокоил Эспер. – Ты с нами останешься. Едем вместе, оформим Василия и Жиля, а потом в Париж. Расстояния небольшие, от Ванва до Парижа недалеко. К вечеру успеем, тем более с таким водителем, как Этьен.
… На вокзальной площади стояла привычная суета. Носилки с тяжелоранеными спускали первыми и осторожно ставили в длинные ряды на платформе. В толпе встречающих, помимо санитаров и медсестер, можно было заметить волонтеров – городских жителей. Они выкрикивали слова приветствия в адрес своих дорогих blésses[28], с готовностью помогая транспортировать их в hippomobiles[29] и санитарные автомобили, украшенные зелеными веточками. Настроение едва ли не ликования передавалось так же быстро, как и еще совсем недавнее уныние. Николай Калинников уже успел познакомиться с проходившей мимо девушкой, угощавшей свежеиспеченным хлебом. Та, сначала оторопев от его вида, заулыбалась и, уже заигрывая, поднесла к торчавшему из-под бинтов кончику носа букетик весенних цветов.
– Merci. – сказал тот, засмущавшись, добавив недавно выученное «Ву зэт бель»[30].
Француженка, стройная кареглазая шатенка лет двадцати-двадцати трех, засмеявшись, спросила, как его зовут. Калинников, замешкавшись, представился:
– Николя… Рюсс. Самара, – произнес по-французски, с ударением на последнем слоге, постаравшись вложить максимум картавости в характерное французское «р». – А ты? Как тебя зовут? – спросил девушку уже по-русски.
– Элизабет, – новая знакомая, угадав вопрос, сделала легкий реверанс, слегка склонившись в поклоне.
– Лиза. Елизавета. Лизетт, – повторил довольный Николай, ставший отныне «Николя Калинникофф».
Эспер, наблюдавший издали за вокзальным знакомством своего подопечного, не сразу заметил спешившего к ним Этьена. Обнявшись, будто не виделись целую вечность, обменявшись новостями, друзья занялись погрузкой раненых в санитарный автомобиль госпиталя Мишле, куда накануне прибыл Этьен. Жиля транспортировали на носилках, Василий и Николай шагали самостоятельно, при этом Николай успел подбежать к Элизабет, что-то шепнуть ей на ухо и даже чмокнуть в щеку.
– Tu ne perds pas le temps[31], – подмигнул ему Этьен. Плотный, коренастый, воплощение уверенности и силы, он двигался по перрону, то и дело предупреждая:
– Attention! Attention![32]
Николай с маргаритками в руках выглядел вполне счастливым. Шум, солнце, запахи кухни из привокзальных буфетов, крики «Поберегись!», снующие люди – вся эта земная картина, такая простая, обыденная, возвращала в реальность. Вокзал – самое духовное место на земле, потому что здесь, а не только в церкви или соборе, появляется надежда, и неважно, пункт отправки это или прибытия. Такой неожиданный вывод сделал Эспер, посмотрев на вокзальные часы:
– Все хорошо, укладываемся. Через час примерно, или чуть больше, приедем, – сказал Этьен, усаживаясь за руль. – Поехали.
… До Ванва оставалось километров десять, когда Жиль Матте перестал кашлять. Навсегда. Ему не хватило всего-то десяти километров до спасительного госпиталя, чтобы, быть может, прожить еще десять лет. В последние минуты он, уже изрядно ослабевший, перевернувшись на живот, содрогался в конвульсиях. Его рвало так, будто он разлагался заживо. Эспер, находившийся с ранеными в кузовном отсеке, подносил воду, просил потерпеть – все тщетно. Солдат Матте затих. Эспер перевернул умершего на спину, заботливо прикрыв шинелью. Несколько помедлил, прежде чем закрыть лицо – осунувшееся, строгое, с приоткрытым ртом. Эта деталь особенно ужасала, вводя в заблуждение: казалось, что сейчас Жиль закричит, заговорит, может, даже засмеется. За считаные секунды лицо превратилось в маску, на которой застыли последние человеческие эмоции: отчаяние и злость. Василий смотрел на происходящее безучастно, видя смерть в ее последовательности детально, готовясь к тому, что, возможно, ему не хватит пяти километров. Но тогда оставалось еще пять километров жизни и сейчас казалось, что это немало. Николай заплакал единственным глазом, произнеся лишь:
– Прощай, друг.
Нос под твердой повязкой захлюпал, и Эспер прикрикнул:
– Прекрати! Тебе нельзя! А если швы разойдутся!
Этьен, остановив автомобиль, поднялся в кузов. Потрогав еще чуть теплый труп, крепко выругался в адрес проклятых бошей, вздохнул, заметив с сожалением, что Жиль, скорее всего, умер от слабости, и в Мишле его точно спасли бы. Затем, прочитав короткую молитву по-французски, скомандовал:
– Едем!
Когда наконец подъехали к Мишле, пред ними предстала картина ирреальной идиллии. Мирно, уютно, все было похоже на некую мизансцену из довоенного спектакля. Госпиталь окружал парк, в котором особенно чувствовалась весна с ее классическими признаками: нежная свежая зелень деревьев, щебетание птиц. Выздоравливающие пациенты валялись на траве, слышался смех, звучал граммофон. Кто-то подпевал по-французски: «C'est la valse brune»[33]. Чуть дальше, на полянке, стоял стол с самоваром, вокруг на скамейках сидели французы, русские. Медсестра сосредоточенно читала «Ле пти паризьен»[34], иногда переводила то, что, по ее мнению, солдат точно не могло расстроить. Те вздыхали облегченно: наши держатся. «А что там, в России? Что пишут?» Медсестра пожимала плечами: «Ничего».