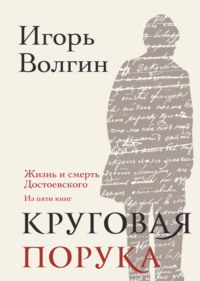Полная версия
Ничей современник. Четыре круга Достоевского.
В генезисе «Дневника» внешняя корреспонденция играла существенную роль. Летом 1876 г., посылая мужу письмо в Эмс, Анна Григорьевна обмолвилась, что на его имя пришло послание от «одного провинциала с грубыми примечаниями на твои статьи». И Анна Григорьевна пренебрежительно добавляла: «Не стоит пересылать»[127]. Достоевский встревожился. «Напрасно, милочка, – отвечал он, – не прислала мне письмо того провинциала, который ругается. Мне это очень нужно для “Дневника”. Там будет отдел: “Ответ на письма, которые я получил”»[128].
И хотя подобный отдел так и не появился, Достоевский практически непрерывно вёл диалог со своей аудиторией – как на страницах «Дневника», так и путём личной переписки. «…[З]а всё время издания моего “Дневника”, – отмечал писатель летом 1877 г., – я получил и продолжаю получать много писем, подписанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моём, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того. Эти письма я сберегу как драгоценность и – что тут приторного, если я заявляю об этом печатно? Неужто дурно, что я ценю и дорожу общим вниманием? <…> Есть не согласные со мной в убеждениях, те прямо излагают свои возражения, но всегда серьёзно, искренно, без малейших личностей, и в подписанных, и в анонимных письмах, и я лишь жалею, что, по множеству получаемых писем, никак не могу всем ответить»[129].
В письме к Х. Д. Алчевской автор «Дневника» признаётся: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, – как бы более правды, как бы более в самом деле»[130].
Достоевский недаром выделил последние слова, для него чрезвычайно важно это «в самом деле». Ведь усилия автора «Дневника» были направлены как раз к тому, чтобы сокрушить невидимый вечный барьер, отделяющий того, кто пишет, от того, кто читает написанное, освободить печатное слово от тех условностей, на которые обрекает его публичность, сделать это слово интимным, максимально приближённым к каждому читателю в отдельности. В общем, – свести (а вернее – поднять!) печатную речь до уровня устной (или хотя бы эпистолярной) речи.
Достоевский ценил в читательских письмах не только искренность, но и сам способ её выражения. Однократность письменной речи, её единичность и неповторимость как бы восстанавливали в его глазах тончайшую, интимнейшую связь между словесностью и остальным универсумом, между литературой и не-литературой – связь, существовавшую во времена древних пророков и расторгнутую дальнейшим развитием культуры.
Собственно, сам «Дневник писателя» был печатной попыткой восстановить человеческое общение на «допечатном уровне», разрушить отчуждение, снять условности, присущие публичному собеседованию.
Для эпистолярии «Дневника» характерна та исключительно высокая степень свободы, с какой читатели обращались к его автору. Установка «Дневника» на интимность была точно оценена его аудиторией: тональность читательских посланий как бы корреспондировала с тональностью самого издания.
«Я получил сотни писем изо всех концов России, – не без гордости признавался Достоевский, – и научился многому, чего прежде не знал… Во всех этих письмах если и хвалят меня, то всего более за искренность и прямоту. Значит, этого-то всего более и недостаёт у нас в литературе, коли сразу вдруг так горячо меня поняли. Значит, искренности и прямоты всего более жаждут и всего менее находят»[131].
Прерывая двухгодичное издание «Дневника» для работы над новым романом, Достоевский тепло прощался со своими читателями: «Я… прямо считаю многочисленных корреспондентов моих моими сотрудниками. Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне»[132].
Остановимся на тех письмах, в которых содержится оценка «Дневника» как издания.
«Ваша мысль гениальна…»«Ваша мысль гениальна – издавать “Дневник”», – писал Достоевскому некто Гребцов из Киева[133].
Впрочем, имелось мнение совершенно противоположное:
Милостивый государь Фёдор Михайлович, не приходило ли Вам когда-нибудь в голову, что Вы своим изданием «Дневника» в ступе воду толчёте или, что то же, занимаетесь переливанием из пустого в порожнее? Если Вам это не приходило в голову, то для нас, читателей Ваших, это ясно как Божий день. И если мы пишем Вам настоящее письмо, то с искренним желанием посоветовать Вам бросить издание бесполезного и даже бесталанного «Дневника», а заняться сочинением повестей и романов, которыми Вы действительно доставляете удовольствие, а главное, пользу публике. С истин, и проч. Жигмановский, Андреевский[134].
За месяц до появления этого послания Достоевский сообщал в «Дневнике»: «Из нескольких сот писем, полученных мною за полтора года издания… лишь два письма оказались абсолютно враждебные». Однако во всей эпистолярии «Дневника» нам не удалось более обнаружить ни одного отзыва подобного рода. Отсюда следует, что, если бы мы захотели сравнить положительные и абсолютно отрицательные отклики на «Дневник писателя», мы не смогли бы этого сделать из-за фактического отсутствия последних.
Да, лишь в одном-единственном читательском письме был почти дословно воспроизведён уже известный нам тезис Скабичевского о том, что автору «Дневника» следует заниматься исключительно беллетристикой. Большинство читателей думало совершенно иначе. Тот же Гребцов пишет о «Дневнике»: «Все его любят – именно любят. Любят за то, что Вы просто, без всяких литературных форм приличий и обряда пишете как бы письма к знакомым… Вы просто, без учёной физиономии подходите к самым глубокомысленным вопросам, к тому, что у всякого наболело, и затрагиваете эти вопросы прямо, откровенно, без тени аффектации или “научности”»[135].
Последнее замечание знаменательно: «ненаучность» «Дневника» воспринимается читателями как момент сугубо положительный. «Я хочу прочесть тёплое, задушевное письмо, – пишет А. И. Дейниковский из местечка Гадяч Полтавской губернии, – а такое слово я нашел только (да, почти только) в вашем “Дневнике”. Извиняюсь за сей P. S., в котором и дерзнул иметь суждение, я, уездный, недоучившийся учитель»[136].
Житель местечка Богач всё той же Полтавской губернии М. М. Данилевский полностью разделяет мнение своего земляка: «Признаюсь, что я узнал о Вашем “Дневнике” только в августе и с тех пор не могу оторваться от него; лучшего ничего я не читал. По-моему, Вы в “Дневнике” сразу возвысились над всеми писателями нашими, а может быть, и заграничными»[137].
Итак, если Жигмановский и Андреевский считают публицистику Достоевского полным падением, то другие читатели, наоборот, расценивают успех «Дневника» прежде всего как успех Достоевского-писателя.
Для развития этого успеха Достоевскому даже предлагается бескорыстная читательская помощь. «Коли нет у Вас фактов резких и поражающих, – пишет Гребцов, – заведите у себя корреспондентов; я на первый раз к Вашим услугам. Господи, сколько страшных возмутительных историй, сколько трагических и потрясающих случаев мог бы я Вам сообщить»[138].
Автор письма предлагает Достоевскому то, что практически уже осуществлялось на деле: целые главы «Дневника» вырастали порой из небольшого читательского отклика, из факта, из «случая»[139].
Впрочем, большинство корреспондентов просто выражали своё личное отношение к «Дневнику»: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Фёдор Михайлович, за Ваш 1 февральский “Дневник”. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение духа, что спасибо вам. Мать»[140].
Такой тон вряд ли возможен при обращении в «обычный» журнал. Доверительность «Дневника писателя», его мощное, резко выраженное личностное начало, его высокое духовное напряжение, его исповедальность – всё это не могло не производить глубокого впечатления на читателя, уставшего от холодной риторики охранительной и либеральной печати.
Конечно, среди корреспонденции «Дневника», как и среди любой редакционной почты, попадаются письма маловыразительные, а порой – и курьёзные. Так, некто О. З. Левин из Самары, излагая принципы совершенно новой, «открытой» им философии, просит писателя высказаться в «Дневнике» в пользу его, Левина, наукообразных идей. На этом письме Достоевский кратко пометил: «Доморощенный философ (вздор)»[141].
Однако, как правило, речь в письмах идет о предметах достаточно серьёзных. Это относится даже к тем самодеятельным стихотворным упражнениям, изрядное количество которых мы находим в архиве писателя.
Не будем высокомерно игнорировать эти неуклюжие откровения неистребимого поэтического духа. Ведь нас в данном случае занимают не столько творческие способности авторов, сколько то, как реальные исторические обстоятельства влияли на их музу, какие струны затрагивал в них «Дневник писателя».
Житель города Киева Агафангел Архипов пишет: «Не вините за экспромтное послание, вызванное отчасти и Вашим уважаемым “Дневником писателя”, которому, сказать мимоходом, я сочувствую вполне… О многом поговорить бы с Вами… Буду, если пожелаете, посылать Вам время от времени кое-что. Много, конечно, не обещаю, но будет достаточно, как, надеюсь, увидите сами».
Сделав такое обнадёживающее заявление, Архипов переходит от прозы к стихам. Они называются «Ф. М. Достоевскому (многоуважаемому автору “Дневника писателя”)»:
Всюду – грустные картины:Поникая головой,Тщетно ищем мы причины —Отчего наш край родной,Русский край патриархальный —Эпопейный, идеальный,Отчего он так упал…Обносился, обветшал?..В деревнях везде тоскливо:Голод песен не поёт…Только вот он, торопливоВ кабачок мужик идёт…Там веселье разливное:Молодецкое, хмельное,Хлещет шумно, через край…Вот он где, заветный рай![142]Эти стихи любопытны тем, что они, по признанию их автора, вызваны чтением «Дневника». И если, например, киевлянин Гребцов пишет Достоевскому: «Вы слишком благодушны: Вы словно игнорируете всю тьму и неурядицу»[143], то другого киевлянина – Архипова это кажущееся «благодушие» не может ввести в заблуждение. Стихи – в данном случае очень точный камертон.
Один читатель требовал от Достоевского более острой социальной критики. Другой – эту критику ощущал и даже откликался на неё стихами. И у того, и у другого имелись свои резоны.
От публицистики в её «чистом» виде действительно можно было бы ожидать большей остроты (вернее, большей определённости). Но «Дневник», как мы уже неоднократно отмечали, имел свою собственную «сверхзадачу», при осуществлении которой его автор стремился избежать «лобовых» решений. При этом критика, объективно присутствующая в «Дневнике», действовала особенно эффективно как раз в силу своей «художественной зашифрованности».
Но, может быть, «Дневник» оказывал столь сильное воздействие лишь на неискушённую провинциальную публику и оставлял вполне равнодушными людей, так сказать, более «литературных»? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к читателям такого рода.
Забытая ныне писательница К. В. Назарьева, признаваясь в своём «священном уважении» к Достоевскому, между прочим замечает: «Каждый выпуск Вашего “Дневника” будит столько хороших струн в нашем подавленном обществе, что нет слов выразить, как хороша Ваша мысль делиться с обществом теми впечатлениями, которые Вы получаете в течение м<еся>ца. Ваша “Кроткая” – это верх психического анализа страдания. Вы – поэт страдания. Вы самый симпатичный, самый глубокий наш писатель».
Назарьева, можно сказать, принципиально не отделяет «чисто» художественное творчество Достоевского от его «дневниковой прозы». Ей в голову не приходит препарировать Достоевского так, как это делают Скабичевский и другие критики. В своём письме она (совершенно естественно, «наивно»!) ставит публицистику «Дневника» в один ряд с «Бедными людьми» и «Кроткой»[144].
В юности знавший Достоевского профессор Харьковского университета Н. Н. Бекетов (брат деда А. А. Блока) пишет автору «Дневника»: «Фёдор Михайлович, пользуюсь правом, данным вами всякому читателю “Дневника” сказать несколько слов. Не забыл я вас, хотя было мне всего 19 лет, когда я с вами расстался – с тех пор вы всё продолжали ваш неустанный труд изучения человеческой души. Чтение ваших произведений – это беседа с собственной совестью – до того они имеют общечеловеческий всеобъемлющий смысл. Прекрасная явилась у Вас мысль делиться с публикою своим душевным сознанием всего творящегося вокруг нас»[145].
Один из постоянных корреспондентов Достоевского, упоминавшийся нами прозаик и критик Всеволод Соловьёв отзывается о «Дневнике» почти в тех же выражениях, что и весьма далёкие от литературы читатели: «Дорогой мой голубчик, Фёдор Михайлович, сейчас прочёл июньский “Дневник” Ваш и совершенно нахожусь под его впечатлением… Прочтя его один раз, я уже, кажется, помню наизусть каждое Ваше слово, мне хотелось бы просто съесть эту дорогую тетрадку»[146].
Следующее письмо тем более интересно, что оно не предназначалось Достоевскому. Его автор, поборник «провинциального возрождения» России, известный публицист К. В. Лаврский обращается к своей матери (документ обнаружен нами в архиве Н. Я. Агафонова): «Читали ли Вы… “Дневник”? Не правда ли, как хорошо! Какая прелесть “Мальчик у Христа на ёлке”, “Мужик Марей”. А как хороша одна из первых глав в февральском номере, где он говорит о своём взгляде на народ. Мне кажется, я его понимаю во всей глубине его чувств и взглядов в этом отношении и потому чувствую к нему самое искреннее братское расположе́ние…»[147]
Чем же было вызвано это «братское расположение»?
От чего «отрезвлял» «Дневник писателя»?Один из читателей «Дневника» (упомянутый выше М. М. Данилевский) к обычной просьбе о подписке прибавляет следующее: «При этом не могу удержаться, чтобы не выразить Вам искренней благодарности за то величайшее счастье, которое я чувствовал, читая Ваш “Дневник”, который заставлял и меня, и всех, кому я его читал, и плакать и смеяться. Мне приходилось по три раза прочитывать каждый номер, и каждый раз я испытывал одинаковую радость, что у нас есть такие великие писатели, отрезвляющие ум и сердце»[148].
«Отрезвляющие ум и сердце», – пишет Данилевский. Не сговариваясь с ним, то же самое слово употребил преподаватель учительской семинарии из города Торжка Н. Горелов: «Не могу не сказать Вам спасибо за искренние, прямые отрезвляющие речи»[149]. И, наконец, А. Ф. Гусев, профессор апологетики христианства Казанской духовной академии: «Позвольте… пожелать Вам дальше и дальше давать публике то глубоко полезное, отрезвляющее чтение, которое предлагается в названном Вашем издании»[150] (курсив везде наш. – И. В.).
В чём же заключалось «отрезвляющее» воздействие «Дневника писателя»?
Горелов пишет: «…среди напущенного тумана ваши беседы всегда затрагивали прежде сердце, а затем вступал в свои права разум и просветлялся логичностью мысли беседующего». Признание это, несколько неуклюжее по форме, очень важно по существу: «Дневник» воздействует прежде всего «на чувство»; логическое выступает лишь «после» и как подтверждение «чувства». Читатель из Торжка, сам того не подозревая, постиг один из интимнейших секретов «Дневника», а именно – его «непублицистичность», антитеоретизм, его установку на целостное переживание. Иными словами – его «песенность».
«Под влиянием “Дневника”, – продолжает Горелов, – я сознаю, как я окреп во взглядах на самые дорогие стороны в жизни нашей родины; ваша любовь к народу и отечеству действовала на меня самым животворным образом»[151].
И об этом же – причём опять-таки в очень схожих выражениях – говорит М. М. Данилевский: «Пусть же не перестанет Ваше перо просвещать нас тою горячею любовью к России, которая чувствуется в каждом слове Вашего “Дневника”. Нет, не мастер я выразить ту любовь к Вам, внушающему нам любовь к нашему отечеству! Дай вам Бог здоровья!»[152]
«Дай бог, чтобы здоровье Ваше скорее поправилось, – вторит ему учитель Нарвской прогимназии К. Галлер, – чтобы Вы могли опять продолжать свой “Дневник” и тем доставить многие приятные минуты Вашим многочисленным почитателям. Примите и от меня мою искреннюю признательность за все свежие и новые мысли, которые я вычитал из “Дневника”, где я особенно сочувствую Вашей любви к нашему простому народу, который и я привык любить и уважать, так как, родившись и проводивши детство в степях саратовских и самарских, я не мог не любить и уважать его…»[153]
Ни один – подчёркиваем это, ни один! – из корреспондентов Достоевского не заявляет о том, что в силу нашего традиционного устоявшегося представления о «Дневнике» мы могли бы ожидать. Никто из читателей «Дневника» не благодарит автора за отстаивание существующего порядка вещей или за поддержку каких бы то ни было охранительных взглядов. Никто не пишет, что под влиянием «дневниковой прозы» Достоевского он сделался, например, приверженцем тех идеалов, которыми руководствовалась правительственная власть.
Пишут о другом: о приятии взгляда Достоевского на народ, о своем сочувствии этому взгляду. «Ещё веришь, что настанет же когда-нибудь время, когда начнут понимать русский народ или[154], по крайней мере, принимать его во внимание», – передаёт свои впечатления от «Дневника» писательница А. И. Ишимова.
Знаменательно, что большинство читателей «Дневника» уловили в нём самое главное: именно то, что вопрос о народе ставится Достоевским во главу угла и с разрешением этого вопроса связывается всё будущее России. При всех политических спорах и меняющихся общественных обстоятельствах такое категорическое указание придавало идеологической системе Достоевского видимость социально-психологической определенности и нравственной достоверности.
Могут возразить, что оппоненты Достоевского «слева» – революционные народники – указывали в ту же сторону, что и автор «Дневника». Да, это совершенно справедливо. Но тут надо принять во внимание следующее обстоятельство.
Достоевский рассматривал народ в качестве источника и перводвижителя коренных социально-нравственных преобразований, которые должны были, по мысли писателя, осуществиться принципиально безреволюционным путем. Необходимо уяснить данный момент, ибо иначе мы не поймём ни истинных причин «неожиданного» успеха «Дневника», ни глубинной подоплёки большинства читательских писем.
Кто же были авторы этих писем? Выше мы уже касались этого вопроса. Теперь попытаемся взглянуть на него с другой стороны.
Воссоздавая картину общественного развития 1870-х гг., мы нередко оставляем за скобками весьма значительные по численности социальные группы, относящиеся, если употреблять термин самого Достоевского, к так называемому «среднему обществу». Эта очень неоднородная и политически достаточно аморфная масса мелких чиновников, учителей, сельских священников, земских врачей и т. д. и т. п. была крайне неустойчива в своих симпатиях и антипатиях. Ее гражданские идеалы были чрезвычайно расплывчаты и неопределённы, её собственные взгляды представляли нередко эклектическое соединение самых противоположных идей. Равно страшась крайностей реакции и революции, представители этих общественных слоев старались нащупать свой собственный, по возможности безболезненный путь.
«Дневник писателя» подавал надежду именно на это. Погружённый в текущее, он в то же время как бы отрешался от него. Он выводил реальные исторические противоречия в надысторическую сферу, разрешая их «в высшем смысле». Характерно, что рядовой читатель совершенно не чувствовал этого «отрыва» – именно в силу атеоретичности «Дневника», его «посюсторонности», насыщенности социально-бытовыми реалиями, его художественного реализма.
Можно поэтому сказать, что «Дневник писателя» в одно и то же время отрезвлял от иллюзий и вселял их. «Дневник» отрезвлял от нравственного индифферентизма, от самоуспокоенности и пренебрежительного отношения к народу. Не предлагая конкретного исторического решения, Достоевский пытался сформулировать наиболее общие этические предпосылки будущей «мировой гармонии». Но перенесение акцентов в нравственную сферу сообщает идеологической системе «Дневника» черты некоторой исторической иллюзорности.
Почему же большинство читателей «Дневника» не замечают этого? Дело, на наш взгляд, заключается в творческом методе «Дневника». Его концепция мира – прежде всего образ мира. Именно «художественность» (не только в чисто литературном, но и в идейном плане!) делает «Дневник» весьма уязвимым для строго рационалистической научной критики. Но, с другой стороны, именно «художественность» скрадывает логические обрывы и «неувязки» «Дневника» и придаёт его глобальным выводам высокую степень убедительности.
Отсюда можно понять, с какой надеждой ухватились за «Дневник» те, кто, колеблясь «между двух бездн», страшились сделать окончательный выбор и судорожно пытались найти опору в какой-либо «соединительной» концепции. Именно такую возможность и заключал в себе «Дневник писателя». Но заключал лишь постольку, поскольку его собственная идеология не могла воплотиться ни в одной из существующих политических доктрин. Как только Достоевский предпринимал попытку такого «воплощения» (а он их предпринимал), он удостаивался комплиментов К. П. Победоносцева и Константина Леонтьева. Как только он отступал «назад» – к своим собственным идеалам, «в песню», – это вызывало инстинктивную насторожённость тех же Победоносцева и Леонтьева и неожиданную порой поддержку «слева». Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.
Консерватор или радикал?«Такого цельного и полного консерватора я никогда не видел и не встречал, – вспоминает об авторе “Дневника” князь Мещерский. – Мы все были маленькими перед его грандиозною фигурой консерватора»[155].
Что ж, Мещерский не сообщает как будто ничего нового. Мнение о консерватизме Достоевского прочно укоренилось в историко-литературной традиции. Посмотрим, однако, как расшифровывает Мещерский в своих воспоминаниях этот достаточно общий тезис.
«Достоевский был враг современного женского вопроса, – пишет мемуарист. – …А между тем эти стриженые и синеочковые девы, не подозревая ненависти к ним Достоевского, постоянно к нему лезли как к своему будто бы учителю»[156]. И далее Мещерский «припоминает» разговор Достоевского с одной из его поклонниц. Выслушав посетительницу, автор «Дневника» якобы обращается к ней со следующим монологом:
Так вот что, слушайте меня, я буду кратче вас, вы много болтали… а я вам вот что скажу: всё, что вы говорили, пошло и глупо, понимаете вы, глупо: наука без вас может обойтись; а семья, дети, кухня без женщины не могут обойтись… У женщины одно призвание – быть женой и матерью… Другого призвания нет, общественного призвания нет и не может быть, всё это глупости, бредни, вздор…[157]
Таким слогом изъясняется Достоевский в воспоминаниях князя. Ничего похожего, правда, мы не встретим у самого Достоевского. Это не его стиль, ибо писатель так не говорил.
Но оставим стиль на совести мемуариста. Быть может, он стремился прежде всего передать суть дела?
Обратимся теперь к первоисточнику. В майском «Дневнике» 1876 г. Достоевский высказывает свою «заветную идею»: в русской женщине, по его мнению, «заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления». Далее автор «Дневника» пишет: «Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые даёт оно, Россия ещё раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества»[158].
Это нечто диаметрально противоположное тому, в чём с таким пафосом желает уверить нас Мещерский. Однако пойдём дальше – и сравним диалог, приводимый Мещерским, со сходным сюжетом в «Дневнике».
В июньском «Дневнике» за 1876 г. Достоевский излагает разговор с одной из своих посетительниц, молодой девушкой из Минска (С. Е. Лурье)[159]. Автор «Дневника» пишет: «По уходе её (посетительницы. – И. В.) мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин, – потребность самая настоятельная и именно теперь, ввиду серьёзного запроса деятельности в современной женщине, запроса на образование, на участие в общем деле. Я думаю, отцы и матери этих дочерей сами бы должны были настаивать на этом, для себя же, если любят детей своих»[160].
Подобные взгляды для Достоевского отнюдь не случайны: они вытекают из общего характера его мировоззрения. Недаром, завершая свой «Дневник», на последней странице его последнего выпуска он пишет: «…может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело и это до жертвы, до подвига»[161].
Эти слова не остались незамеченными. На имя Достоевского пришло письмо, которое в подлиннике занимает 30 страниц текста, написанного в высшей степени неудобочитаемым почерком.