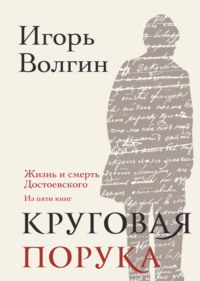Полная версия
Ничей современник. Четыре круга Достоевского.

Игорь Леонидович Волгин
Ничей современник. Четыре круга Достоевского
© Волгин И., 2019
© Издательство «Нестор-История», 2019
От автора
Выступая с трибуны I Съезда советских писателей (1934), где Достоевский был аттестован М. Горьким как «злой гений наш», другой оратор (В. Шкловский) постарался по мере сил наполнить эту сентенцию реальным содержанием: «…что если бы сюда пришёл Фёдор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменников».
Очевидно, «наследники человечества», коими мнили себя участники съезда, намеревались призвать к ответу автора «Бесов» за его отказ от идеалов собственной юности и, следовательно, от идеалов гуманизма. Правда, наряду с этой интересной (и типичной для своего времени) гипотезой существует другая, причисляющая Достоевского как раз к числу «добрых гениев» и полагающая его едва ли не самым глубоким выразителем тайн мирового сознания.
Достоевский столь же разнолик, сколь разнолик и неисчерпаем русский национальный дух. Его творческая природа столь же многообразна, сколь многообразна природа страны, его породившей. В нём сходятся главные линии нашей истории и судьбы.
В этой книге предпринята попытка универсального (насколько это позволяют новейшие гуманитарные стратегии) охвата личности и творчества Достоевского – в их нерасторжимом и сокровенном единстве. Духовное и бытовое существование писателя рассматривается в широком историческом контексте, в тесной связи с общественными и семейными страстями, с восприятием «злого гения» его современниками.
Книга складывается из четырёх частей-кругов, которые внутренне соотносятся друг с другом.
В круге первом речь идёт об уникальном, единственном в своём роде явлении отечественной литературы и журналистики – «Дневнике писателя», о загадке его художественной природы и о его роли в исторической жизни России. Издание этого моножурнала позволило автору «Дневника» стать одной из ключевых национальных фигур и оказывать мощное воздействие на умонастроения русского общества. Кроме того, впервые благодаря огромному читательскому интересу был создан прецедент обратной связи.
В круге втором авторское внимание сосредоточено на некоторых болевых точках художественного мира Достоевского и коллизиях, связанных с восприятием его текстов как публикой, так и властью.
В круге третьем исследуются малоизвестные или вовсе неизвестные сюжеты, сопряжённые с личной жизнью Достоевского и историей его семьи (в том числе – историями двух писательских браков, отношениям с пасынком и т. д.). Здесь же прослежена судьба некоторых членов рода Достоевских – как сопутствовавших писателю, так и родившихся после его смерти.
В круге четвёртом затрагивается ряд интерпретаций Достоевского за последние полвека. Это важно не только для уяснения позднейших оценок его жизни и творчества, но и для характеристики нашего собственного общественного сознания.
Часть I. В кругу России
«Дневник писателя» как исторический феномен
«Дневник писателя» по совокупному объёму не уступает крупнейшим романам Достоевского. По своему литературному типу он не имеет аналогов в истории русской и мировой журналистики. Двух этих указаний было бы достаточно, чтобы оценить значение «Дневника».
Меж тем изучение моножурнала Достоевского до недавнего времени оставалось белым пятном в науке. Не было никакой определённости в том, к какому виду литературы он относится. Действительно, его собственная природа столь необычна, его положение в иерархии литературных жанров столь подвижно и неустойчиво, его историческая репутация, наконец, столь двусмысленна и неопределённа, что невольно возникает вопрос: что есть «Дневник»?
Но прежде всего следует выяснить два, на наш взгляд, ключевых момента:
Историческую природу «Дневника».
Отношение к нему русского общества.
Ниже мы попытаемся показать, что сам способ существования «Дневника» содержателен: он, этот способ, отнюдь не безразличен к художественной природе издания.
Ограничимся, в основном, «Дневником писателя» 1876–1877 гг., т. е. того периода, когда он выходил без перерыва, ежемесячно, как независимый печатный орган.
Глава 1
«И гениальность, и юродство…»
Общий обзор источниковПод именем «Дневник писателя» известны следующие произведения Достоевского: 1. Заметки, публиковавшиеся в качестве отдельной рубрики в журнале «Гражданин» (1873 г.); 2. Самостоятельное ежемесячное издание 1876–1877 гг.; 3. Единственный выпуск (август) за 1880 г.; 4. Возобновлённое периодическое издание 1881 г. (успел выйти только январский номер, поступивший в продажу в день похорон Достоевского).
В 1876 г. вышло одиннадцать выпусков «Дневника» (один двойной); в 1877 г. – десять (два двойных). Объём номера колебался от 25 до 33 страниц (сдвоенные номера – 47 страниц). Текст печатался в две колонки и подразделялся, как правило, на две большие главы, каждая из которых состояла из нескольких малых главок, имевших собственные названия.
«Дневник» совмещал в себе элементы различных печатных жанров. Текст начинался сразу после заголовка, подпись автора стояла в конце каждого выпуска, однако нумерация страниц в течение всего года была сквозная (в 1876 г. – 335 с., в 1877 – 326 с.). По объёму «Дневник» напоминал брошюру, по формату – еженедельную газету, по периодичности – ежемесячный журнал, по признаку авторства – отдельную книгу. Цена одного выпуска равнялась 20 коп. (в 1877 г. в связи с успехом издания она была повышена до 25 коп.), стоимость годовой подписки составляла 2 р. 50 коп.
«Дневник» обычно выходил в последний день каждого месяца (иногда – с большими опозданиями). В конце года ежемесячные выпуски сброшюровывались и продавались в качестве отдельной книги.
Единственным автором, редактором и издателем «Дневника» являлся Достоевский.
После смерти писателя «Дневник» входил во все дореволюционные собрания его сочинений. Все они (кроме 5-го и 8-го) осуществлялись А. Г. Достоевской. Перечислим эти издания, отмечая в скобках тома, которые занимал «Дневник» 1876–1877 гг.: первое (1882–1883) в 14 т. (11, 12), второе (1885) – 6 т. с предисловием Д. Аверкиева (5), третье (1888–1889) в 12 т. с предисловием К. К. Случевского (10, 11), четвертое (1888–1891) в 12 т. с предисловием К. К. Случевского (10, 11), пятое (1894–1895), издание A. M. Маркса, приложение к «Ниве» в 12 т. с предисловием В. В. Розанова (т. 10, ч. I и ч. II, т. 11, ч. I и ч. II), шестое (юбилейное, 1904–1905) в 14 т. с предисловием С. М. Булгакова (11, 12), седьмое в 12 т. (10, 11), восьмое – 1918, изд-ва «Просвещение» в 23 т. (20, 21). Единственное советское издание (до 80-х гг. XX в.), включившее в себя «Дневник писателя», – собрание художественных произведений Достоевского в 13 т. (М.; Л., 1930) под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. «Дневник», которому предпослана вступительная статья В. А. Десницкого, занимает здесь т. 11-й и 12-й. Первое научное издание «Дневника писателя» с подробным историко-литературным комментарием осуществлено в 1972–1990 гг. в составе Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде)[1].
Укажем также тексты, не вошедшие в прижизненные издания «Дневника». В начале 1920-х гг. С. А. Переселенков опубликовал запрещённую цензурой главку из январского выпуска (1877 г.)[2]. В 1930 г. В. Л. Комарович обнародовал небольшой фрагмент (о Петербурге) из второй главы майского выпуска 1876 г.[3], в 1940 г. А. С. Долинин привёл ещё ряд неопубликованных отрывков[4].
Автору этих строк удалось обнаружить несколько неизвестных текстов, относящихся к «Дневнику» 1876 г., а также впервые связать тексты, публиковавшиеся ранее, с цензурной историей «Дневника»[5]. Кроме того, им были опубликованы и другие ранее неизвестные, значительные по объему фрагменты[6]. Укажем также другие публикации[7].
Первоначально в 86-м томе «Литературного наследства», а затем в Полном собрании сочинений опубликованы записные тетради Достоевского к «Дневнику», которые содержат значительное количество подготовительных материалов. Ценнейшим источником по истории «Дневника» является также его редакционный архив, который до 1970-х гг. практически не изучался[8].
Большое значение для истории «Дневника» имеют письма самого Достоевского[9], а также упоминания о «Дневнике» в переписке современников[10].
Особую группу источников составляют свидетельства мемуаристов. По своему характеру свидетельства эти весьма различны. Так, А. Г. Достоевская, фактически соиздательница «Дневника», почти не касается его идейной истории и ограничивает свои наблюдения кругом житейских и литературно-бытовых реалий. Вместе с тем она сообщает такие подробности, которые недоступны любому другому воспоминателю. Мемуары А. Г. Достоевской освещают издательскую историю «Дневника» как бы изнутри[11].
Прямое касательство к изданию «Дневника» имеют воспоминания его метранпажа М. А. Александрова[12]: он сам в какой-то мере является фигурантом издательской истории, поэтому его свидетельства имеют для нас особую ценность.
Но если, скажем, Анна Григорьевна и М. А. Александров живописуют Достоевского, главным образом, со стороны бытовой и житейской, то воспоминания таких деятелей, как Страхов[13]или кн. В. П. Мещерский[14], претендуют на большее. Оба названных автора – активные участники литературной и общественной борьбы 1870-х гг., оба находились с Достоевским в сложных, неровных отношениях. У Страхова, например, мы почерпнем немало интереснейших фактических сведений. При этом, однако, не следует забывать, что упомянутый автор в печально знаменитом письме к Толстому нравственно дезавуировал свою полицию воспоминателя[15]. Что касается кн. Мещерского, который при жизни Достоевского не раз становился объектом его раздражения и гнева, то у него, последовательного консерватора, пресловутого «князя-точки» (он требовал поставить «точку» после реформ 1860-х гг.), также имелись основания нарисовать такой образ писателя, который не столько характеризует автора «Дневника», сколько свидетельствует об известной направленности памяти самого мемуариста[16].
Любопытны воспоминания известного в своё время писателя Вс. Соловьёва (сына историка С. Соловьёва и брата философа Вл. Соловьёва)[17]. В 1876–1877 гг. Вс. Соловьёв был довольно близок с Достоевским и мог непосредственно наблюдать его редакционно-издательскую деятельность. Следует вместе с тем иметь в виду следующее признание самого Вс. Соловьёва: «…многое я не мог внести в свои печатные воспоминания об этом человеке великого духовного порыва и вместе великого греха»[18].
Важным источником по истории «Дневника» являются материалы русской периодической печати. Печатные отклики – первый публичный комментарий к моножурналу Достоевского. Сопоставленные с частной, «негласной» оценкой, т. е. с читательскими письмами, они помогают проследить внутреннюю динамику общественного мнения, его колебания, связанные с особенностями исторической ситуации 1876–1877 гг.
Таков в основном круг источников, которые необходимо иметь в виду, приступая к изучению «Дневника».
«И гениальность, и юродство…»На третий день после выхода первого «Дневника» в «Петербургской газете» появились десять стихотворных строк, подписанных инициалами О. Др. (Общий друг):
Ф. Достоевскому по прочтении его «Дневника»
Вот ваш «Дневник»… Чего в нем нет?И гениальность, и юродство,И старческий недужный бред,И чуткий ум, и сумасбродство,И день, и ночь, и мрак, и свет.О Достоевский плодовитый!Читатель, вами с толку сбитый,По «Дневнику» решит, что вы —Не то художник даровитый,Не то блаженный из Москвы[19].Разумеется, эти стихи Дм. Минаева нельзя отнести к разряду научных сочинений. Но, очевидно, их автор и не подозревал, что его хлёсткая характеристика надолго переживет злобу дня, чтобы в тех или иных модификациях прочно утвердиться в позднейшей «серьёзной» литературе.
В первые десятилетия после смерти Достоевского не появилось ни одной работы о «Дневнике». Что же касается беглых оценок этого издания в либеральной и отчасти народнической публицистике, то дело не шло далее формальной констатации внутренней противоречивости «Дневника». «Далеко нельзя сказать, – писал Скабичевский, – чтобы реакционное направление вполне овладело Достоевским… В “Дневнике писателя” рядом с славянофильскими и мистическими разглагольствованиями, словно оазис в степи, прорываются взгляды и образы, поражающие вас светлостью и глубиной»[20].
В общем, знакомое минаевское «и день, и ночь, и мрак, и свет».
Постепенно в критической литературе утверждается тезис, получивший признание ещё при жизни Достоевского, – тезис о «второсортности» «Дневника»: он рассматривается как некий привесок к «основному» творчеству писателя.
Представители русского «философского ренессанса» также не оставили каких-либо трудов о «Дневнике», хотя обращались к нему довольно часто. Любопытно, что, полемизируя почти по всем пунктам с либерально-народническими оценками творчества Достоевского, указанные авторы не внесли принципиальных изменений в традиционно негативную трактовку «Дневника»[21].
Таким образом, всё или почти всё, что было написано о «Дневнике» в дооктябрьский период, не выходило за рамки критической эссеистики. «Дневник писателя» оставался вне научно-исторического анализа.
Первая работа собственно о «Дневнике» появилась лишь в 1920-х гг. Она принадлежала перу рано умершего исследователя В. А. Сидорова (это была посмертная публикация). «Если на самом деле удастся установить, – пишет Сидоров, – что “Дневник писателя” создавался не публицистом, а художником, то такое смешение методов мышления естественно должно привести к полной неразберихе. Спутанность методов приведет только к спутанности и неопределенности тех понятий, которыми орудует Достоевский»[22].
Думается, что Сидоров совершенно прав, говоря о трудностях «логического выражения мировоззрения Достоевского». Но означает ли это, что научный подход к данной проблеме вообще невозможен?
Это – проблема идейной интерпретации «Дневника». Проблема, зависящая всё от того же вопроса: что есть «Дневник»? Традиционная ли публицистика или некая художественная данность, не получившая ещё четкого жанрового определения? И возможно ли подобное определение вообще?
Механический «перевод» «Дневника писателя» с его собственного языка на язык «чистой теории» ни в коей мере не отразит идеологию самого Достоевского. В то же время «Дневник», взятый как целостность, как особая форма художественного сознания, может явить нам такие моменты, которые были доминирующими в его реальной исторической жизни, но оказались совершенно неразличимыми для позднейшей критической традиции.
Почти все писавшие о Достоевском в 1920-х гг. исходили из той мысли, что «Дневник писателя» выражает идеологию его автора в наиболее «чистом» виде. «Тут, – замечает В. Ф. Переверзев, – мы действительно имеем дело с его религиозными, политическими и социальными воззрениями, которые можно исследовать с точки зрения логической и фактической обоснованности, можно доказать их слабость и несостоятельность и выбросить, как хлам»[23].
Любопытно, как спорит с В. Ф. Переверзевым В. А. Десницкий: «…согласимся, что Достоевский был плохим мыслителем (но всё же мыслителем!), что его философские, религиозные и иные воззрения для вас “хлам”. Но утверждать, что этот “хлам”, что публицистика Достоевского не оказала никакого влияния, не оставила никакого следа на его “живых характерах”, у нас нет решительно никаких оснований…»[24]
Это нечто новое в подходе к «Дневнику». В критике 1920-х гг. он удостаивается следующего полупризнания: «Весь “Дневник” является публицистическим комментарием к художественным образам Достоевского». Любопытно, что, высказав столь категорическое суждение, его автор несколькими строками ниже пишет: «Древние образы негодующих библейских пророков и обличающих предтеч вспоминаются невольно при чтении этих страстных и возмущенных страниц, полных самых разрушительных протестов против неумирающего фарисейства. И, может быть, более, чем все его художественные создания, “Дневник писателя” достоин называться “Книгой великого гнева”»[25].
Как видим, за «публицистическим комментарием» признаётся некая самостоятельная сила.
Один из крупнейших знатоков Достоевского, А. С. Долинин писал: «Утверждаем здесь пока только о последнем периоде жизни Достоевского, – только о “Дневнике писателя” 1876–1880 гг. – русскую революцию Достоевский отражал тогда не в меньшей степени, чем Толстой – это уж во всяком случае, и гораздо ярче, гораздо страстнее, с гораздо бо́льшим проникновением в страдания, в неисчислимые бедствия масс…»[26]
Отметим, что Долинину принадлежит ряд других весьма ценных замечаний о «Дневнике»[27].
В 1934 г. Л. П. Гроссман обнародовал документы о взаимоотношениях Достоевского с высшими правительственными сферами. Переписка автора «Дневника» с К. П. Победоносцевым, подаренная писателю фотография великого князя (будущего поэта К. Р.) с собственноручной августейшей надписью и т. д. и т. п. – всё это, по-видимому, произвело на Л. Гроссмана чрезвычайное впечатление. Им делается вывод об идеологической завербованности писателя, который под пером исследователя превращается в искусного исполнителя социального заказа. «Он как бы вменяет себе задание, – пишет об авторе “Дневника” Л. Гроссман, – привести отплаченную мысль на службу царизму и закрепить его верховное влияние своим авторитетным словом писателя»[28].
Л. Гроссман наиболее ярко сформулировал ту точку зрения, которая, по сути дела, стала господствующей в литературе. Подобная характеристика считалась настолько исчерпывающей, что вопрос о специальном изучении «Дневника» в дальнейшем даже не поднимался.
Почти полное отсутствие специальных исследований, посвящённых «Дневнику», представлялось особенно странным на фоне поистине необозримой и всё увеличивающейся литературы о Достоевском. Поразительно, что при существовании самого пристального интереса ко всем видам деятельности великого писателя, пробел образовался именно там, где творческая личность Достоевского, его идеология и его реальное историческое бытие сопряглись столь неразрывно и со столь впечатляющим общественным эффектом.
Один из относительно поздних советских авторов замечает: «“Дневник писателя” в целом являет собой удивительное сочетание исторического чутья, прозрения и полной слепоты, господства превратной и предвзятой схемы»[29]. Это утверждение, справедливое, по-видимому, в столь общей форме, не приближает нас, однако, к сути дела. Минаевское «и гениальность, и юродство» за целое столетие не претерпело, как видим, существенных трансформаций.
Правда, в годы, когда мы только приступили к нашим трудам, появились отдельные статьи Г. М. Фридлендера, Л. М. Розенблюм, В. А. Туниманова, Л. С. Дмитриевой, Г. К. Щенникова, затрагивающие те или иные аспекты «Дневника». Однако ни одна из этих работ не претендовала на исследование неизвестной документальной базы и тем более – на концептуальные обобщения.
Следует упомянуть о двух вышедших в Австралии на русском языке книгах Д. В. Гришина[30]. К сожалению, они представляют собой не столько исследование моножурнала Достоевского, сколько поверхностное и довольно сумбурное изложение его содержания (причём обе книги изобилуют фактическими ошибками). Авторский комментарий носит при этом весьма примитивный характер. Поэтому о научной ценности этих работ говорить не приходится.
Попытаемся суммировать существующие в литературе точки зрения.
Прежде всего следует отметить противопоставление «Дневника писателя» остальному творчеству Достоевского. Оговорки относительно художественности тех или иных страниц «Дневника» как бы призваны подчеркнуть несостоятельность Достоевского в сферах, выходящих за пределы его художественной компетенции.
Столь же характерно рассмотрение «Дневника писателя» как простой совокупности художественных и публицистических эссе, не связанных единством цели и замысла, т. е. по сути дела как эклектического произведения.
«Дневник писателя» – правда, в последнее время со всё большими оговорками – рассматривается в русле официозной публицистики. К «Дневнику» подходят как к самодовлеющей, замкнутой, непластичной идеологической системе. Истоки этой системы чаще всего квалифицируются как позднеславянофильские. До последнего времени не ставился вопрос о существовании собственной исторической концепции «Дневника писателя»[31].
Итак, перед наукой о Достоевском стоит насущная задача: интерпретировать текст «Дневника». Но дело в том, что извлечённый из реального исторического контекста «Дневник» утрачивает свои родовые черты. Поэтому не плодотворнее ли попытаться осознать «Дневник» внутри его исторической эпохи?
Глава 2
«Интереснейшее лицо…»
Внешняя история «Дневника писателя»
Исторические предпосылкиВ середине 1870-х гг. значительная часть русской интеллигенции настроена далеко не столь пессимистично, как десятилетие спустя. Пик общественного подъёма ещё не пройден: самые решительные схватки придутся на конец 25-летнего царствования Александра II. Вторая революционная ситуация[32] ещё не сложилась.
Время появления «Дневника» можно считать как бы переходным внутри самой переходной эпохи. Полной неудачей закончилось недавнее «хождение в народ». Два года оставалось до выстрела Веры Засулич и наступления полосы народовольческого террора.
Чаша весов колебалась: революция и реакция (в смысле неприятия первой) противостояли друг другу, ещё не исчерпав всех сокрытых до срока сил. Процесс, начавшийся в 1860-х гг., не был завершён. Достоевский склонен был принимать высшую точку этого процесса – 1861 г. – за точку отправную. В освобождении крестьян «сверху» автор «Дневника» усматривал многозначительный и прогностически важный исторический прецедент. Как и другие «почвенники», он полагал, что у самодержавия велик запас внутренних реформаторских потенций. Парадокс заключался в том, что программу радикальных исторических преобразований Достоевский формулировал в рамках принципиально безреволюционного сознания. Более того, он готов был вдохнуть эту программу в готовые исторические институты, «передоверить» её самодержавному государству и православной церкви. Но в таком случае эти последние должны были бы коренным образом изменить свою собственную историческую природу.
Являлись ли подобные представления исключительной особенностью Достоевского или же они могли возникнуть в силу объективных черт, присущих русскому общественному сознанию?
Думается, что было бы правильным предположить последнее. В 1870-х гг. самодержавие ещё не успело с такой откровенностью, как оно это сделало позднее, продемонстрировать свою неспособность к социальному и историческому прогрессу. У большинства интеллигентов (не говоря уже о народных массах) монархическое мироощущение ещё не изжито реальным историческим опытом.
«Образованное общество» жаждет перемен, но, по возможности, совершающихся спокойным, законодательным путем – при инициативе «сверху». Правительство, осуществившее отмену крепостного права, судебную, земскую, городскую и военную реформы, не утратило ещё известного кредита доверия.
Будущее было туманно, неопределённо, но – открыто. Каждый был волен вкладывать в «ближайшее предстоящее» свой собственный смысл. Накануне и во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., объективно направленной против одной из жесточайших форм азиатского деспотизма, трудно было предвидеть, как развернутся последующие события, не ударят ли они в конечном счёте и по «внутренним туркам». Не случайно глобальная этико-историческая концепция «Дневника писателя» теснейшим образом связана именно с текущими политическими событиями, которые осмысливаются Достоевским как поворотный пункт русской истории и многообещающее начало окончательного мирового исхода. (Об этом см. гл. 7-ю «Что же есть истина?».)
Вторая половина 1870-х гг. несла с собой признаки нового общественного подъёма. Но было неясно, какие формы примет этот подъём и куда пойдёт страна в ближайшие годы. И либералы, и консерваторы, и деятели, мечтавшие о созыве Земского собора (такие как Иван Аксаков), еще могли полагать, что в конечном счёте именно их упования соответствуют высшим интересам правительственной власти.
До взрывов на Екатерининском канале оставалось ещё целых пять лет.
События 1876–1877 гг. способны были создать впечатление, что наконец-то наметился реальный выход из состояния неустойчивого равновесия. Эти годы совпали с периодом мощного и неоднородного по своим истокам движения помощи славянам, когда в рядах русских добровольцев в Сербии бок о бок сражались люди часто противоположных политических убеждений. В силу особых историко-психологических причин определённая часть общества могла поддаться иллюзии, что ожидаемая «развязка» не сведётся к каким-то акциям в области внешней политики или к отдельным внутренним преобразованиям, а будет найдено некое целостное решение, способное удовлетворить всех и обозначить новую эру общественной жизни.